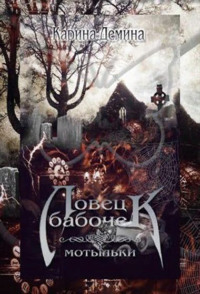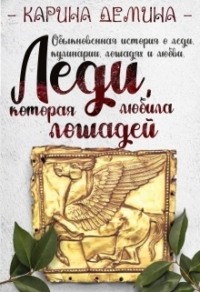Полная версия
Громов: Хозяин теней – 4

Карина Демина
Громов: Хозяин теней – 4
Глава 1
«…аз рех: Не сотвори себе Кумира ни всякого подобия, елико на небеси горе, елико на земли низу, елико в водах и под землею, да не послужиши, да не поклонишася им. Народ же Российстий сотворих себе кумира в царе своем нечестивом Павле Гольштинском, иже вошед на престол Мономахов путем беззакония, уморив братьев своих и тем уподобихся окаянному Каину. И многие скверны сей царь бе соделатель во мнози лета своего царения. При восшествии на престол повесил он Муравьева Апостола, иже бе за народ и правду. Во Молитвословиях приказует нечестивец-царь имя свое печатать буквами крупными, Мое же имя возле его изображено печатаю мелкою. Судьи его лихоимцы, чиновники грабители, народ отдан им и содержится им, царем, противно закону моему, в крепости у дворян. Он же сам, яко Фараон, потешается токмо наборами рекрутскими, да поборами денежными, да потешными полчищами своими, именуемыми Гвардия.»
Видение старца Кондратия[1]Протяжный вой фабричного гудка пробился сквозь стену, отогнав остатки сна. Я разлепил глаза. Гудок длинный. Стало быть, пять часов[2]. Самое оно – выползать, умываться, перехватить какой еды и вперёд, крепить мир трудом.
– Падла, – выдохнул Метелька, переворачиваясь на другой бок. Тощую подушку он прижал к уху, но это зря. Не поможет. Стены тут тонкие, едва ли не картонные, а гудит так, что до костей пробирает.
Захочешь – не проспишь.
– Вылезай, – я нашарил ботинки.
Пол, само собою, леденющий. Стены не лучше. Стёкла вон изморозью покрылись, причём изнутри. Стало быть, хозяйка опять на дровах экономит. Или это высквозило так? Весна на дворе, а за окном – снега лежат, серые, грязные, поизносившиеся. И днём, когда солнышко выкатывается, снега начинают таять. Ручейки воды пробивают себе путь к ржавым кирпичным стенам окрестных домов, и питают этот самый кирпич, и без того рыхлый, пористый, будто из ваты сделанный. Оттого внутри домов становится ещё более сыро, хотя недавно мне казалось, что это невозможно.
Ещё как возможно.
– Давай, давай, – я дёрнул Метельку за ногу, содравши носок. – А то потом опять пожрать не успеешь и всю смену ныть будешь, что голодный.
Вода в ведре подёрнулась хрустящей корочкой.
Чтоб…
Ледяное прикосновение пробудило и заставило отряхнуться. Рядом, фырча и матерясь, умывался Метелька. А рядом, грохоча и охая, вздыхая и пришёптывая молитву, копошилась старуха. Я слышал и шаги её, и хлопанье двери.
И ворчание.
Надеюсь, самовар поставила, а не как обычно.
Съеду. Вот как пить дать съеду. И работу эту на хрен пошлю. И революцию. Изобрету чего-нибудь этакого, время опережающего, продам и, позабывши обо всём, буду жить-поживать, добра наживать. За окном ещё муть. Солнце и не проклюнулось даже, а ещё вон туманы. То ли сами по себе, то ли дым от заводских труб снова упёрся в небесную твердь да с неё уже потёк наземь. Тут хрен поймёшь. Но сегодня туман хоть не жёлтый, всё хлеб. Нет, уходить отсюда надо бы. Ещё месяц-другой и убираться, а то никакого здоровья не хватит, чтоб…
Самовар был едва тёплым, и старуха, на мой вопрос, только недовольно поджала узкие губы. В глазах её читалось глухое раздражение: ишь, какие переборчивые. Другие бы радовались, что чаем поют. А мы вон жалуемся. Зато хлеб напластала тоненько-тоненько. Куски вон аж светятся. Маслом едва ль по краю мазнула.
– И всё? – я нахмурился.
Квартиру точно менять придётся.
Хотя на что ты её поменяешь.
– Продукты нынче дороги стали, – старуха поджимает тонкие губёнки и глаза её, едва различимые впотьмах – свечи она тоже экономит, обходясь лучиною – стали особенно злые. – Не накупишься.
Ну да. А то, что в доме по вечерам копчёным пахнет, это так, совпадение? Или вон не знаю, что она в своём закутке, отгороженном ширмою, колбасы прячет да банки с вареньями? Может, я бы и стерпел, но холод. И нам двенадцать часов пахать, что характерно, без перекуров и прочих глупостей. А потому я молча поднялся и, одёрнув ширму, наклонился.
– Что творишь! Что творишь! – заверещала старуха, замахала руками, засуетилась, впрочем, не рискуя ударить. Так, грозила сухонькими кулаками и повизгивала. – Поставь! Не твое!
– Моё, – я вытащил и колбасу, и варенье. И Метелька, хмыкнув, принялся пластать высохшую до деревянной твёрдости палку на ломти. – Я тебе платил? Платил. За комнату. и за стол. Ты обещала, что будет тепло.
– Мне тепло! – старуха выпятила губу.
Ну да.
Она ж пять юбок напялила, три кофты и ноги тряпками обернула. А спит под пуховым одеялом, которое раза в два толще наших с Метелькой вместе взятых.
– А мне нет, – рявкнул я. И пригрозил: – Съедем.
– И куда?
Не испугалась. Подошла бочком так и, высунув ручонку из складок кофт да шалей, цапнула сразу три куска. Один в рот, остальные – в рукава. В рукавах этих, как я успел понять, много чего хранилось: сушки и сухари, окаменевшие пряники, анисовые карамельки и мятые, раскрошенные почти сигареты.
Курила старуха много и дым дешевого табака пропитал, что её одежды, что её саму.
– Куда-нибудь.
– Ага, кто вам, оглоедам, комнату сдаст, – она налила себе чаю, разбавив не единожды запаренную заварку тёплою водой. – Это я жалостливая.
Как же. Жалостливая.
– …пустила, не побоялась. Комнату дала.
Скорее угол. Комната у старухи у самой была одна, хоть и довольно большая по местным меркам. И особо важно – крайняя. Расположенная в дальнем конце узкого кирпичного дома, подозреваю, в прежние времена служившего конюшней, комната эта имела отдельный вход, а тот, что в общий коридор выводил, ещё супруг старухи, когда живой был, заложил кирпичом. А старуха и шкаф придвинула, развернула так, что образовался закуток, куда влезли две кровати. Между шкафом и стеной протянула веревку, на которой повисло старое покрывало. Себе старуха оставила место у единственного окна.
Добрая.
Как же. Скорее уж боязливая. А ещё экономная. Вот и теперь из трёх лучинок одну оставила, мол, и без того хватит. Как она сказала? Свой рот и в темноте не потеряешь, а остальное – от лукавого.
Стол вытянули на середину комнаты. Массивный, он возрастом, верно, мог поспорить с хозяйкой этой комнатушки, впрочем, как и остальная мебель. Нам с Метелькой дозволено было использовать целых две полки в шкафу, а ещё ящики под кроватями. Но и полки, и ящики старухой периодически обследовались, причём факт сей она нисколько не скрывала:
– Ещё сховаете чего не того, – сказала она, когда я в первый раз претензии предъявил. – Революсьёнеры.
Это слово она произнесла с немалым удовольствием.
Чай мы допивали в тишине. Старуха спешно жевала или прятала колбасу, поглядывая на нас с Метелькой недобро. Но ругаться не ругалась. Знала, что и ей с нами повезло. Другой бы кто за такие шутки в ухо дал бы, не поглядевши на возраст. А мы вот старость уважаем.
И пить не пьём. И во хмелю не буяним. Золото, а не квартиранты.
Я поднял воротник старого тулупа, который затянул куском веревки. Метелька подавил зевок.
– Рано ещё…
Небо бледнело.
Улицы пока оставались пустынны. До завода всего ничего, вот оттягивают до последнего.
– Пошли. А то опять в толпе маяться.
Сапог проломил тонкую слюдяную корку. По ночам ещё прилично подмораживало, но к обеду распогодится. А там уже и до лета рукой подать. Воздух вонял серой и гнилью, тухлой водой, что собиралась в канавах. Со снегом сходили и нечистоты, которых тут было во множестве.
Петербург, мать вашу.
Культурная столица. В мире здешнем в принципе столица, куда мы ехали, ехали и вот, приехали. Встречай, родимая.
Добирались долго.
Сперва Еремей полз какими-то просёлочными дорогами, петляя, что заяц. Где-то там, близ села, название которого в памяти моей не сохранилось, мы заприметили стоявшую в отдалении церквушку, где и выгрузили иконы. Ну и спящую девицу тоже. В самую церковь занесли и одеялом укрыли. Оно-то, может, до заутренней всего ничего оставалось, но с одеялом надёжней. Мишка ещё порывался сказать, что так неможно, что это опасно и надобно передать несчастную в заботливые руки родителей, но на вопрос, как этот сделать, чтоб самим не засветиться, ответить не сумел.
– Как-нибудь выживет, – сказал я ему. – Мы и так её спасли.
Потом были другие дороги.
И другие деревни.
И чем дальше от границы, тем больше их становилось. Где-то там, близ очередной, бросили машину, добравшись до станции пешком. И уже в поезде, в тряском вагоне третьего класса, я поверил: вырвались.
Нет, что искать будут, это, конечно, факт, но потом.
И пусть ищут.
Пусть хоть обыщутся, но передышку мы получили.
Трястись пришлось долго.
Несколько пересадок.
Вагоны, отличавшиеся друг от друга разве что степенью изношенности. Люди, которые тоже казались одинаковыми. И мы в своей разношёрстности как-то легко вписались в общий хаос.
А потом вот Петербург.
Почему-то я ждал, что город будет похож на тот, оставленный в прошлой моей жизни. Зря. Двухэтажное, какое-то странное на мой взгляд строение Приморского вокзала поднималось над окрестными одноэтажными домами, половину из которых и домами назвать было сложно. Потемневшие доски, какая-то бесконечная змея крыш, перетекавших из одной в другую. Рёв скотины.
Ругань.
Вонь.
Редкая чистая публика спешила удалиться, мимо сновали грузчики и пассажиры из тех, кто попроще. Тащили тюки и целые тележки, гружёные доверху. И по-над этим бедламом висел туман из дыма, смога и сизого рыхлого тумана.
– Там он, – Еремей огляделся. – Фабрики. Если на них идти, то и жильё надобно искать поблизу.
Вот и нашли.
Я похлопал себя по плечам, разгоняя заледеневшую кровь.
Ничего. Смена начнётся и взбодримся. Меж тем на улице прибавлялось народу. Спешили мастера, которым положено было являться раньше. И те, кто, как и мы, не хотел попасть в толпу. Там-то потом поди-ка докажи, что не опоздал, а на проходной вновь затор случился.
– Эй, – нам помахали с другой стороны улицы. – Доброго утра!
Филимон радостно ощерился и сплюнул через свежую дыру.
– Зуб выдрал? – поинтересовался я.
– Ага! Сам, – с гордостью произнёс он.
Зубов у Филимона оставалась едва ли половина от положенных природой, да и те жёлтые, покрытые плотной коркой то ли налёта, то ли зубного камня.
– Чистить начни.
– Скажешь тоже, – Филимон сунул руки в карманы и произнёс с убеждённостью: – Не поможет. А порошок в лавке дорогущий.
– В лавке всё дорогущее, – Метелька подавил зевок. – А у нас старуха опять на дровах экономит. И чай еле тёплый. Колбасу спрятала.
Филимон пожал плечами:
– Жадная она. Я тебе сразу говорил, давай к нам.
Это в комнату, в которой жили четырнадцать человек? Причём комната была мало больше старухиной. И кровати стояли тесно, рядами. Меж ними натянули веревки, а на них повесили старые простыни.
– И деньгу сбережёшь. Вон, с Шушером перекинуться. Он и ещё Шило во вторую работают. А вы в первую. Посменно можно спать. И сколько вы старухе платите? А тут за кровать рубль в месяц выйдет![3]
Ну да. С его точки зрения изряднейшая экономия.
– Ещё пару в артель кинешь.[4] У нас ничего мужики, честные…
На проходной собиралась толпа.
В нос шибануло ядрёной смесью запахов: кислой капусты, немытых тел, дымов, сажи и химии.
– …а по постным дням, так…
Филимон продолжал расхваливать экономность и выгоды артельной жизни, но я уже не слушал. Во внутреннем дворе было людно и суетно. Здесь уже запах химикалий, земли и силы почти перебивал вонь дерьма, доносившуюся от ретирадников.[5] Небось, опять того и гляди переполнятся.
– А, явилися, оглоеды, мать вашу… – мастер вывалился наружу, придерживая одной рукой портки, другой – фляжку, которую, верно, пытался в портки скрыть, а она вон не давалась. – Чего вылупились?
Он был уже пьян.
Или скорее следовало сказать, что пребывал в обычном своём состоянии. За всё время работы трезвым мы его не видели. Но так-то по общему признанию Митрич был мужиком справным. Меру в питии знал. Матюкаться матюкался, однако рук без повода не распускал. Ну и штрафы выписывал исключительно по делу, закрывая глаза на огрехи мелкие и в целом работе фабрики не мешающие.
В общем, золото, а не человек.
– Идите, – он подтянул портки и закашлялся.
А я…
Я уловил тонкий аромат лилий, который стал уже настолько привычным, что я к нему даже и притерпелся. Да и то, запах появился и исчез. Что до красных пятен на руке, то ладонь Митрич поспешно вытер о штаны и махнул. А мы… мы пошли. Чахоткой тут никого не удивишь.
И не только ею.
Лишь Тьма, крутанувшись, подхватила пару чернильных пятен, что выползли на запах крови, и заурчала довольно.
– Охота? – раздался в голове шелестящий голос.
И я кивнул, подумавши, что хоть кто-то ходит сюда с удовольствием.
Глава 2
«На Петербургском тракте квартиры для рабочих устраиваются таким образом. Какая-нибудь женщина снимает у хозяина квартиру, уставит кругом стен дощатые кровати, сколько уместится, и приглашает к себе жильцов, беря с каждого из них по 5 коп. в день или 1 руб. 50 коп. в месяц. За это рабочий пользуется половиной кровати, водою и даровой стиркой»[6]
Из отчёта ревизинной комиссии о бытии рабочих, представленного князю Н.– Сдохну я тут, – Метелька забился в наш закуток у дальней стены и, сев, вытянул ноги. – Савка, вот… вот скажи, на кой оно тебе?
Сказал бы, да сам уже не уверен.
Смену мы отстояли. Работа тут несложная: стой при машине и подсыпай сырьё, которое мальчишки подвозят. Детей на фабрике много. Одинаково тощие, большеглазые и вечно голодные. Вон и теперь вьются, приглядывая, не поделится ли кто куском хлеба. Сперва мы делились. Жалко их было. Метелька разве что ворчал, что на всех не напасёшься. Прав оказался. Теперь вон прячемся в уголок и жуём всухомятку хлеб с отбитою у хозяйки колбасой. Стена тёплая. В ней трубы, по которым раствор бежит, они и греют. Не оттого, что хозяин добрый, а технология требует, чтоб вода горячею была, так раствор более насыщенным получается и выход лучше. Вот котельная и старается.
В котельную я как-то заглянул интереса ради и понял, что вот он, ад воплощённый. Огонь. Жар и черти чумазые с лопатами, подкидывают уголь в топки, матерясь на чём свет.
Неблагодарная работа.
Хотя благодарной тут и нет. Мастера и те, пусть и получают в разы против обычных рабочих, но и спросу с них куда больше.
– Анчеев вон едва на ногах стоит, – Метелька этими самыми ногами пошевелил. – То и дело в кашле заходится. Выгонит его Митрич.
И вздохнул.
Жалко, стало быть. И мне жалко. Вот… только и жалости на всех не хватит. Как не хватает целителей или хотя бы лекарств. Да ладно лекарства, те же фильтры бы поставить, очистку, а то ведь чахотка, она не только из-за заразы, она от дыма этого, который в безветренные дни прямо на фабрику и ложится.
Смога.
От духоты и тесноты.
От голода вечного. И ещё от тварей. Последних тут было едва ли не больше, чем людей. Они давно уж обжили это местечко и поначалу нагло шмыгали под ногами, цеплялись за людей, присасывались к таким вот, как Анчеев, уже обречённым, но пока ещё стоящим на ногах. Тени тянули из них, и без того ослабевших, остатки жизни, погружая людей в престранное состояние отупения. И тусклые пятна икон, развешенные по стенам и по-над окнами вряд ли как-то могли исправить ситуацию.
Теперь-то, конечно, количество тварей поубавилась, да и оставшиеся благоразумно держатся в стороне. И хочется думать, что чего-то тут мы да и изменили к лучшему.
– Ешь, давай, – ворчу.
Перерыв тут короткий. Смена длится шесть часов. Отработать надобно две. А между ними – передышка. Поговаривали, что при прежнем хозяине на перерыв даже воду привозили, горячую, но новый этакие глупости пресёк.
Мол, тяжкие времена настали. Надобно экономить.
– Митрич злой, как чёрт, – Метелька, даже уставший – лицо его покрывали пот и пыль – категорически не имел сил молчать. – Вроде как Прокофьева теперь точно погонят.
– Вроде как.
Слухи о скором увольнении нынешнего управляющего ходили давно, пожалуй, если не с первого дня нашего тут пребывания, то со второго точно. А потому я не особо верил.
– Не, теперь точнёхонько. Сення должен новый приехать. Управляющий. И чего от него ждать, так не понятно.
Ничего хорошего.
Странно это было. В прошлой жизни мне не случалось работать, чтоб на нормальной работе или там заводе. А теперь то ли карма настигла, то ли собственная дурь. Вот и киваю. Икаю и подбираю крошки хлеба. Жрать хочется дико. Жрать вообще хочется почти всегда. Расту, чтоб вас.
И так, стремительно.
То ли тело, наконец, избавившись от проклятья, переборов болезнь, вдруг решило себя укрепить. То ли просто возраст такой, но за прошедшие пару месяцев я вдруг как-то совсем уж неправдоподобно вытянулся, сделавшись и выше Метельки, и шире его в плечах.
И Тени подросли.
– Сидите, – Филимон отыскал нас и в этом тёмном углу. – Там это, новый управляющий прибыл.
– И?
– Такой весь из себя, мордатый… на Прокофьева материться. И на мастеров. И на Митрича тоже. Выгонит, как пить дать.
– И кого возьмёт?
– А кто его знает. Важный. Харя – во, – Филимон развёл руки. – И в костюмчике белом.
Это он зря. Фабрика у нас, пусть и не совсем грязная, но производство – оно производство и есть. Вон, пыль в воздухе до сих пор кружится.
– А при нём ещё четверо. Один писарчук, ещё вроде как барин, молодший, из Ярославля приехал.
– Сам? – а вот это интересно. Я мысленно дотянулся до Тьмы.
И та откликнулась, поспешно заглатывая отловленную где-то в сплетениях труб тварь.
– Ага, – Филимон протянул руку и стащил полупрозрачный ломтик сала, который спешно засунул за щёку. – А… хорошее. Где брали? Старуха делала?
– Грабки попридержи… так выходит, что он теперь не просто так барчук, а наследничек? Или этот не старший?
Я вцепился зубами в горбушку.
И прикрыл глаза.
В первые дни тени не отходили далеко, явно не желая оставлять меня без присмотра, но постепенно освоились, а там и увлеклись охотою. Благо мелких тварей на фабрике обретало приличное количество.
Раньше.
– …воняет, – я услышал раздражённый нервный голос. И увидел лицо человека, прижимавшего к носу платок.
Их и вправду четверо.
А встречать вышла целая делегация. Оно и понятно. Это для Филимона Митрич начальство и авторитет, а вот в общерабочей иерархии место его где-то ближе к основанию пирамиды.
На вершине держится Прокофьев.
Про него Мишка рассказывал, что весьма толковый человек. Мишка его, собственно, на это место и посадил. Фабрика-то Воротынцевская. Одна из многих. Только эта из числа недавно купленных, а потому и стоит наособицу, и попасть сюда проще. В старые-то чужаков не возьмут. Там и платят хорошо, и условия такие, что по нынешним временам почти люкс, а значит, реально желающих поработать хватает.
– …признаюсь, разочарован.
Мишкиного родственничка я сразу узнал. Не по сходству с Мишкой, конечно, но потому как печатали его фотографию в газетах.
И с похорон.
И с награждения. Награждали, конечно, не его и даже не его папеньку, но старика Воротынцева и посмертно. А поелику покойник сам за наградой явиться не способный, то и передали оную в руки любящей родни.
На фотографиях Клим Воротынцев был мордат и серьёзен. В жизни, впрочем, отличался не сильно.
Разве что мордатости чуть больше.
И взгляд этот надменный снимки не передали. Стоит чуть в стороночке, с тросточкою в руке и взирает на происходящее пренедоуменно, будто до сих пор не осознал, что произошло.
Всё он осознал.
Или, точнее, папенька его. Вон, и место старика в Думе занял, а никто-то и не воспротивился. Как воспротивишься, когда Государь-батюшка заявил, что подвиг отца проложил дорогу детям?
Все и согласились.
И ни одна падла не задумалась, что детьми они не являются. Родня? Родня. Государь желает видеть Воротынцевых в Думе? Пускай себе.
Пару статей выпустили, в которых народу живописали, какой наследник у Воротынцевых замечательный. И послужить он успел. И медалек за службу получил. И в Дворянском собрании местечковом отмечен был за мудрость великую… в общем, такой клад только закопать.
Этим и займусь, но чутка попозже.
– …никакого порядку… – это говорит не сам Воротынцев, но типчик в светлом костюме, который из-под распахнутой шубы виднеется. При нём ещё двое. Один с пухлым портфелем, видать, нужные бумаги припёр. Второй при блокнотике, куда что-то черкает. Никак речь конспектирует, для потомков.
Злой я что-то сегодня.
Но это с недокорму, не иначе.
Или от усталости?
– …выработка упала на десять процентов! Доходы за последний месяц и вовсе на треть снизились, – голос этого, в шубе, был визгливым.
– Так не сезон, – попытался возразить Прокофьев, но как-то без особой страсти.
Он держался спокойно, как человек, всецело осознающий, что участь его решена, а потому тратить силы на бесполезную суету смысла нет.
– Почему-то остальные фабрики вполне справлялись с планом!
– Возможно, остальным фабрикам его и не повышали. К тому же были проблемы с поставками сырья.
Были. Подтверждаю.
Вон, аккурат после Рождества пару недель вовсе в одну смену работали по причине того, что сырья этого как раз недовоз случился.
– Но вы даже не попытались снизить расходы!
– Куда уж ниже, – Прокофьев поморщился, а Тьма, спрятавшаяся за его спиной, поглядывала на гостей с интересом. Правда, интерес у моих теней большей частью гастрономический, поэтому я мысленно погрозил пальцем.
Не здесь.
Не при свидетелях.
Тьма вздохнула.
– Куда? Оплата рабочих у вас едва ли не выше…
– Савка, – Филимон толкнул в бок. – Чегой это с ним?
– Спит.
– Не припадочный, часом?
Припадочных тут боятся. Тоже интересный выверт сознания. Чахоточных, которых вокруг полно, никто не опасается. А вот не приведи боже припадку эпилептическому случится, мигом в юродивые запишут.
– В жопу иди, – отозвался я, не открывая глаз.
– …непомерное расходование…
– А чего спишь? Ночью не выспался?
– …премии, доплаты…
– Филька, отвянь, – это уже Метелька. – Тебе чего, заняться нечем? Сейчас вона, займут.
– …почему не открыли заводскую лавку? Вы разве не получали письмо с рекомендациями…
Я вздохнул и открыл глаза.
Всё понятно. Эффективный, мать его, менеджмент пришёл на помощь частному капиталу. Главное, мир другой, эпоха другая, магия вокруг, а тут всё по-прежнему. Разве что в моё время это всё было похитрей. Системы премирования и депремирования, косвенная стимуляция и мозговтирательство, когда вместо денег людям пытались впарить идею единства, общей цели, на которую надо положить здоровье, и всякой прочей лабуды.
В какой-то момент это, конечно, работает.
Урезание расходов логичным образом позитивно сказывается на росте доходов. Вот только рост этот кратковременный. Нет, если менеджер реально грамотный, он сумеет обойти острые углы, и урежет там, где можно, и работу перераспределит толково. Но проблема-то, что грамотных единицы.
А эффективных – много.
Вот и режут они зарплаты с премиями. Места сокращают.
Разрывают контакты с надёжными поставщиками, проталкивая тех, кто даст аналогичный продукт дешевле. Правда, поначалу аналогичный, а потом начинаются то задержки, то качество резко падает, то пересорты с кривою логистикой. С техникой тоже. Если забивать на обслуживание, которое почему-то в большинстве своём лишним считают, то рано или поздно придётся платить за ремонт.
А это опять же вылетает совсем в другие суммы.
Ну и с людьми.
Грамотный мастер тянуть лямку за троих не станет, особенно, когда за это платят большим человеческим спасибом. Плюнет и уйдёт искать новое место. А найдя, ещё и приятелей своих сманит. Кем дыры затыкать? А тем, кому особо выбирать не приходится.
Их ещё обучи.
Вложись.
И надейся, что эти тоже не сбегут, на ноги вставши. А те, которые не бегут, так лучше бы наоборот. И начнётся. То процент брака запредельный, то простои, то откровенный саботаж, причём не со зла, а с кривых рук и пьяных глаз.
Что-то я прямо распереживался по старой памяти, будто это моя фабрика и мои проблемы. Нет, то что будут мои, это как пить дать, потому как любая экономия в глазах таких вот идиотов начинается с урезания зарплат и повышения нормы выработки. А они тут и без того немалые.
Ладно, как-нибудь выдюжим.
В конце концов, мы с Метелькой не на одну зарплату живём.
Раздался короткий гудок, намекая, что перерыв подходит к концу. И Метелька поспешно облизал пальцы, поднимаясь. За опоздание к станку могли и штрафа выписать.