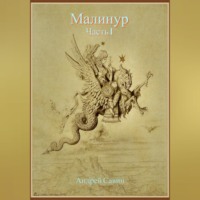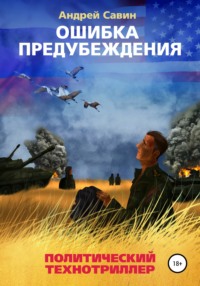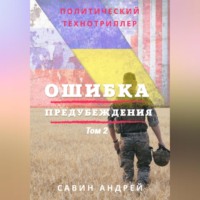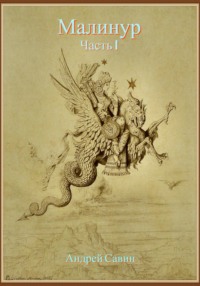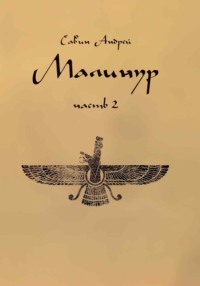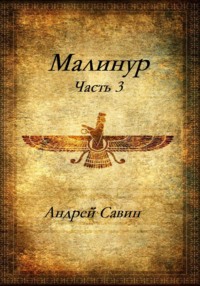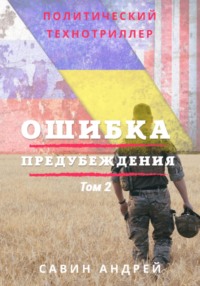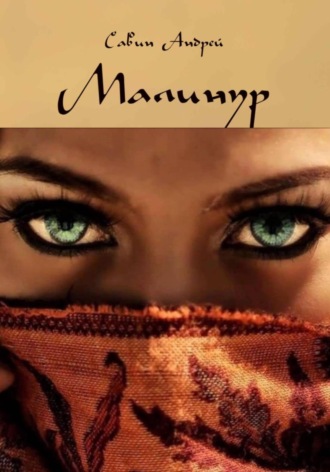
Полная версия
Малинур. Часть 1,2,3
Военачальник улыбнулся, увидел в пытливом тетрархе себя, столь же одержимого страстью докопаться до истины и зацикленного на своих интересах. Ссылаясь на дастура, он, конечно, имел в виду переведённые первые шесть насков. Птолемей читал обработанные тексты каждую неделю и неустанно поражался дерзости изложенных там идей. Что-то было ему известно, о чём-то он догадывался или слышал это от учёных мужей как одну из версий, но многое было просто непостижимым. Размышления о бесконечном количестве шарообразных звёзд, находящихся на столь же бесконечных расстояниях, ошеломили его больше всего. Это значило, что наверху нет никакой твёрдой сферы, по которой двигаются светила. А где тогда восседает бог иудеев и зороастрийцев? И вообще… где в этом мире тогда Земля? Не значит ли это, что он, Птолемей, впрочем и как все остальные люди, всего лишь ничтожная песчинка в бескрайности мироздания, а не центр и смысл всего сущего? Такая мысль потрясла его до глубины души и пошатнула устои мировоззрения. Именно это во многом сподвигло царского соратника серьёзно задуматься об услышанном от Таис, попытаться понять её чувства и переживания от знакомства со странным и бестелесным Богом и в итоге согласиться найти Авесту втайне от Александра.
Шестой наск как раз заканчивал астрономический цикл текстов, начало которого было, вероятно, в непереведённых и уже утерянных частях писания. Поэтому как движется Луна по версии Авесты, Птолемей не знал, о чём откровенно и поведал Ворушу:
– Да откуда мне знать?! Я же не астроном. То рассказывал всего лишь зороастрийский священник, и про Луну он не говорил.
– Вот бы мне встретиться с ним… – восхищённо вымолвил тетрарх и, опомнившись, продолжил: – Про Авесту я читал в вавилонских свитках. Они упоминали, что писание очень обширно и охватывает огромный пласт человеческих знаний, изложенных там неким мудрецом Заратустрой. Но язык текстов забыт, и прочесть сейчас их никто не может. Но главное, там есть ответы о происхождении мира и сущности Бога-творца. Он лишён формы и поэтому присутствует везде одновременно, в каждой частице тварного и неявного мира. Это всё, что мне известно про Авесту. А, ещё!.. Она хранится у персидского шахиншаха. Теперь всё.
– Кстати, о шахиншахе, – сменил тему Птолемей. – Ты слышал от несчастного наёмника, кто убил Дария? Тебе знакомы их имена?
– Патрон упомянул трёх убийц. Имена я, конечно, записал. А назначенного гегемоном Бесса запомнил. Вероятно, это тот Бесс, что командовал кавалерией горцев под Гавгамелами. У них низкорослые и небыстрые лошади, но очень выносливые. Могут пройти без отдыха полтора наших дневных перехода. Да и в фураже неприхотливы. Вполне обойдутся даже этим кустарником, – он указал на небольшие кустики эфедры, затаившиеся между камнями.
Воин ошибался: лошади не едят эфедру, а вот местное население издревле готовило из неё хаому – напиток, вызывающий галлюцинации, из-за чего по невежеству наделённый священными свойствами. Подобный эффект, естественно, использовался жрецами многих религий как в Персии, так и в Индии. Зороастр, страждущий истины, конечно, видел в дурмане лишь происки злого Ангро-Майнью. Но пагубное пристрастие было широко распространено, что сыграло немаловажную роль в быстром вырождении в народе чистой веры и скатывании учения к банальному языческому огнепоклонничеству.
Тетрарх достал из притороченной к седлу сумы свиток с записями фамилий убийц, передал его Птолемею. Тот засунул папирус в свою суму, извлёк оттуда с десяток чистых листов пергамента и протянул воину:
– На, для записей. Взамен папируса. А это, – он показал кожаный чехол, – походная чернильница и перо. В благодарность о сегодняшней беседе. Ты образованный воин, Воруш, и я дам команду твоему иларху… Ты же из фракийской конницы?
– Да, стратег. Из первой илы30[1] продромов.
– Завтра ты будешь включён в царскую конную агему. Назовёшь своему иларху тридцать воинов, коих считаешь достойными забрать с собой. С утра послезавтра твой отряд будет подчиняться только царю и мне лично. Ты хорошо всё понял?
Согласие тетрарха заглушило громогласное ржание его жеребца, почуявшего близость лагеря. Через несколько секунд издалека донеслось ответное ржание доминантной кобылы, и все лошади как по команде, пофыркивая от радости, засеменили сначала рысью, а когда ездоки ослабили уздечки, помчались галопом в свой родной табун.
Горизонт окрасился густо-фиолетовым закатом. Небо постепенно засверкало яркими звёздами.
Глава 9
1983 год.
Прошло две недели с момента ликвидации Вахида.
Кузнецов вернулся из Москвы. В Душанбе, обсудив со своим старшим коллегой парадоксальное недовольство генерала Абдусаламова, Сергей поспешил в Академию наук Таджикской ССР. За три дня до этого, направляясь на совещание в столицу, он уже посетил академический Институт языка и литературы имени Рудаки. Злоупотребив своим должностным положением, Кузнецов познакомился с руководителем сектора языка профессором Ердоевым и оставил ему липовый запрос на проведение лингвистического анализа текста, что якобы был изъят в рамках уголовного дела, расследуемого КГБ. Вернее сказать, сам запрос был вполне официальным, но вот дела никакого не было. Да и о существовании текста, кроме самого Кузнецова, никто не знал.
– Очень интересное письмо, товарищ подполковник, – после приветствия сообщил профессор, когда Сергей зашёл в его кабинет. – А где находится сам подлинник манускрипта? Хоть фотографии и качественные, но лишь имея подлинник, можно будет судить, насколько содержание текста – не чей-то вымысел, а реальное письмо иларха шестой илы гетайров своему царю Александру Македонскому. – Профессор снял очки и взволнованно посмотрел в глаза собеседнику.
Сергей, кроме имени древнего завоевателя Средней Азии, мало что понял из услышанного относительно содержания текста. Поэтому взволнованности учёного не разделил, а ответил просто, даже обыденно:
– Не знаю, фотографии нашли только. Сами пергаменты… – Он осёкся, проговорившись о двух листах из кожи, что были в папке Вахида и сейчас лежали у него в служебном сейфе. – Судя по фото, это же пергамент, верно? – Офицер взглянул на светило науки наивным взглядом.
– Вероятно, да. Если, конечно, всё это не подделка, коих полно наклепали за два тысячелетия с момента гибели Македонской империи. Но в любом случае, даже если это и не подлинник, то, скорее всего, довольно старый текст. Он написан на древнемакедонском языке, который почти умер ещё в пятом веке нашей эры. Но вам несказанно повезло: я как раз занимаюсь этим диалектом древнегреческого и вообще историей Таджикистана времён греческой экспансии. Дело в том, что с момента вторжения Александра в Бактрию – государство, куда входили часть современного Таджикистана, Узбекистана и север Афганистана, – то есть с триста двадцать девятого года до нашей эры, и до самого развала в десятом году после Рождества Христова Греко-Бактрийского, а затем Индо-Греческого царства этот язык был широко распространён здесь. То есть на протяжении трёхсот сорока лет указанные территории находились под очень сильным эллинским влиянием. Мы имеем некоторое количество письменных источников на древнемакедонском и значительно больше на древнегреческом языке, дошедших до наших дней. Однако у нас нет ни одного подлинного документа времён похода в Азию и Индию Александра Македонского. Говоря «у нас», я имею в виду всю мировую науку. Не то что на языке захватчиков, а вообще ни на одном языке. Представляете?! То есть задолго до захвата персидских Суз в триста тридцать первом году до нашей эры и до возвращения туда же в триста двадцать пятом войско Александра не оставило после себя ни одного документа об этом грандиозном походе. При этом с ним двигались сотни учёных и летописцев. Во всех завоёванных провинциях формировался огромный штат всевозможных административно-бюрократических структур, и ни одной «бумажки», дошедшей до наших дней! Есть скупые письменные свидетельства очевидцев событий из числа покоряемых народов. Есть воспоминания участников. Масса текстов значительно позднего периода. Но письменных, аутентичных, подлинных и относящихся ко времени самого похода документов – ни одного. – Профессор возбуждённо смотрел на собеседника, словно тот был виноват в уничтожении всех этих свидетельств. – Поэтому ваш текст настолько меня и заинтриговал.
– То есть азиатский поход Александра был, его ход описывался десятками специально назначенных людей, штат учёных документировал всё, но этого никто не видел?
– Примерно так! – воскликнул Ердоев. – И вообще, вся история Александра Великого, или Искандера Малого, как его именуют до сих пор в Иране, основывается на фактах, полумифах и легендах, изложенных в нескольких произведениях. Знаете, где их написали и когда? И главное, под чьим патронажем?
Кузнецов неопределённо пожал плечами.
– В египетской Александрии, после смерти царя. Этим занимался его ближайший друг и сподвижник Птолемей Лаг, получивший за спасение царя в Индии прозвище Сотер – «спаситель» на древнегреческом. Он написал свои «Записки», которые наряду с «Записками» другого очевидца похода – Аристубула Македонского – содержат описание, более-менее похожее на действительность. Все работы иных авторов интерпретируют эти «Записки» с включением тех или иных сомнительных фактов, народных преданий и выдумок. Вы, наверное, не помните из школьного курса, чем примечателен Птолемей Лаг?
Офицер смутился:
– Почему-то я считал Птолемея древнегреческим учёным.
– Для многих это имя ассоциируется с ним, – улыбнулся профессор, – только Птолемей Клавдий жил через триста лет после нашего. Но тоже в Александрии, что само по себе примечательно; и не исключено, что они родственники. Но об этом потом. Так вот, наш Птолемей после смерти Александра стал фараоном Египта. Он единственный из диадохов – сподвижников царя, поделивших после смерти его наследие, – который основал династию, правящую осколком Македонской империи почти триста лет. Последнюю династию египетских фараонов. Понимаете?
У Кузнецова случилось дежавю. Час назад после иррациональной критики генерала Абдусаламова он уже слышал это «Понимаете?» и тогда ответил утвердительно. Но повторно строить догадки ему не хотелось, поэтому, рискуя прослыть тугодумом, он всё же честно ответил:
– Нет, если откровенно…
– Ах да! – воскликнул Ердоев. – Я же не сказал главного. В вашем тексте иларх шестой илы… Ила – это кавалерийский полк по-нашему. Так вот, командир полка докладывает царю о некоем сговоре царского брата Птолемея с женщиной! – У пожилого профессора от возбуждения аж тряслись руки. Казалось, его изнутри вот-вот разорвёт. – Он назвал девушку «гетерой Фаидой». Сейчас мы её знаем как Таис. Возлюбленная Александра и впоследствии жена Птолемея Лага. Это потрясающе, Сергей…
– … Васильевич. Можно просто Сергей, – отреагировал подполковник на забывчивость собеседника. – И о чём сговор? – заинтриговался Кузнецов, припоминая недавно прочитанный роман «Таис Афинская» Ивана Ефремова.
– Пока не знаю, – улыбнулся уже спокойно профессор. – За три дня я перевёл лишь пять первых строк. Благо письмо разборчивое, надеюсь за неделю управиться полностью. Представляете, автор назвал Птолемея братом царя. Это уже само по себе потенциальная сенсация, так как их возможное родство базировалось на невесть откуда появившемся мифе, что у них один отец – Филипп, царь Македонии.
– Да, занимательное чтиво, судя по всему, – задумчиво вымолвил Сергей. – А почему Александра Великого в Иране называют Искандером Малым? Я просто иранист, но никогда не слышал об этом.
– Очень правильный вопрос, товарищ подполковник! – вновь загорелся энтузиазмом профессор. – Потому что великим его изобразили Птолемей и триста лет воспеваний в трудах иных греков и римлян. Образ некоего царя, нёсшего прогресс диким варварам, культивировался всей западной цивилизацией на протяжении тысячелетий. А кем он был для большинства народов, чьи земли покорял? За три года горной войны здесь, у нас, он уничтожил столько мирного населения, что его сподвижнику Гефестиону пришлось реализовывать целую программу по заселению опустевших городов Согдианы и Бактрии. А в Персии! Чего стоит только варварское уничтожение тогдашней столицы Персеполя! Просто по пьянке был сожжён дворец персидских царей с архивами империи за сотни лет. Кстати, якобы та самая Таис надоумила пьяного царя в качестве мести за ранее уничтоженные персами Афины. Количество награбленных и вывезенных Александром ценностей по сегодняшним меркам сопоставимо со стоимостью трети мирового золотого запаса. Караванами измерялся объём похищенных трудов по философии, медицине, математике, истории, астрономии, географии и иным наукам. Но самое страшное, что он сотворил, – это гонение на древнюю арийскую веру в Ахура-Мазду и уничтожение Авесты, святого писания пророка Зардушта. Александр не стремился создать в своей империи синкретичный народ. Ему было достаточно того, что жрецы в каждой провинции посвящали его в таинства местных религий. Для эллинов он был потомком полубога Геракла, в Египте – потомком Гора, а затем сыном Амона. В Иудее он принёс жертвы в иудейском храме, а в Вавилоне поклонялся Белу. Нигде Александр не посягал на основы веры, кроме Персии. Формально он тоже чтил священный огонь Ахура-Мазды. Но бесценный свод сакральных знаний бехдинов, или, как их сейчас называют на Западе, зороастрийцев, уничтожил – вероятно, слишком опасны для его власти были каноны единобожия. Через триста лет по той же причине поступят аналогично, только уже не с Писанием, а с самим очередным пророком Единого Бога – Иисусом из Назарета. Поэтому Малый – это ещё не самое унизительное прозвище Искандера в Передней и Средней Азии. Нередко даже в научных трудах его называют Искандером Проклятым.
– Действительно, кому великий, а кому проклятый… Так вы не сказали, почему никто не видел письменных источников времён азиатского похода. Куда они все делись, коль за Александром тащилась целая армия учёных и летописцев?
Профессор развёл руками:
– Никто не знает. Известно лишь, что в триста двадцать седьмом году в царской походной канцелярии случился пожар; возможно, там хранились эти труды. А может, они пропали вместе с Александрийской библиотекой, что основал Птолемей. И я не исключаю, что их могли уничтожить намеренно, такое не раз случалось в истории. Новый правитель, подстраивая прошлое под себя, начинает со сжигания книг. Неизвестно, одним словом. Может, где-нибудь в архивах Ватикана или закрытых хранилищах английского или каирского музеев лежат эти манускрипты. А может, просто валяются в подвале египетского министерства древностей среди тысяч доселе не изученных свитков. Человеческая история пестрит чёрными пятнами, и, как это ни парадоксально, самая противоречивая – у современной западной цивилизации. Чего-чего, а в искусстве фальсификации, лжи и манипуляций сознанием она преуспела, как никакая другая. И началось всё с Искандера и его продолжателя – фараона Птолемея. Опять же очень странное совпадение, но именно после их похода на восток в четвёртом веке до нашей эры в Средиземноморье отмечается необъяснимый взлёт научной мысли. Птолемей создаёт в Александрии крупнейшую библиотеку с неслыханным фондом в девяносто тысяч свитков. Потом наследники в разы его приумножат, скупая, захватывая и выменивая письмена любыми способами. Но откуда при основании взялось сразу столько текстов?! А знаменитая александрийская школа? А еврейская александрийская философия? Её религиозно-мистическое прозрение во многом основано на идеях Платона об Абсолюте, столь схожем с авестийским Ахура-Маздой. И заметьте, все эти и последующие знания уже выдаются как продукт греческой, потом римской, ну а сейчас – западной культуры и науки. От персидского, наверное, осталось лишь название орехов, которые македонцы привезли с собой из Средней Азии; да и то со времён Византии в России и многих других странах их именуют грецкими. Впрочем, как и чёрный рис, который Искандер также привёз с собой из азиатского похода: его мы больше знаем как гречку.
Профессор встал со стула и подошёл к шкафу, откуда достал довольно большую книгу.
– Посмотрите, Сергей Васильевич. – Он открыл том на одной из страниц. – Это изображение Будды. Третий век, найдено в одном из храмов на севере Индии. Ничего не напоминает?
– Ну… мягко говоря, не очень классическое изображение. Какой-то он не такой.
Ердоев хохотнул:
– Потому что он в эллинской тоге и стоит в контрфорсе, почти как Аполлон. Представляете теперь, как они тут натоптали, что через триста лет после их ухода Будду в храме по-прежнему изображали на греческий манер? А это египетский фараон, – он показал фото барельефа с улыбающимся лицом. – Тоже неегипетская классика ваяния. Этот фараон почти с актёрской улыбкой и есть Птолемей.
– Очень интересно; всё себе присвоили, даже гречку, – искренне отреагировал Сергей. – Никогда не смотрел на историю под таким углом. Я изучал фарси и много читал про Персию, поэтому считал, что неплохо разбираюсь в иранистике. Но, оказывается, мне предстоит ещё немало поучиться. – Он улыбнулся. – Может, посоветуете, что из доступного моему скудному уму будет полезно почитать именно про период греческой экспансии в Среднюю Азию? И про зороастризм. Я служу в Хороге. В Горном Бадахшане остались последователи пророка Зардушта.
– Конечно, Сергей Васильевич, я подготовлю вам списочек книг, доступных в республиканской библиотеке. И не принижайте себя: чувствую в вас очень острый ум и потенциал искателя, столь необходимый для учёного.
– Ну и для офицера КГБ.
Оба искренне рассмеялись. Ердоев сел за стол и закурил, выпустив в сторону закрытого окна струю сизого дыма. В отсутствие сквозняка облако застыло над его головой, причудливо играя светотенями в солнечных лучах.
– Кстати! В Хороге, в отделе памироведения нашего Института археологии, работает замечательный специалист-религиовед Исматулоев Араш Хусейнович. Он помешан на изучении зороастризма, поэтому с удовольствием порекомендую вас в качестве потенциального слушателя его бесконечных историй об огнепоклонниках.
В заключение встречи профессор пообещал немедленно сообщить о завершении перевода и чуть ли не потребовал от Сергея держать его в курсе хода расследования дела в отношении мошенника, что искал покупателя на якобы древний артефакт. Кузнецов, в свою очередь, напомнил о тайне следствия и вообще необходимости помалкивать об их беседе.
Они уже попрощались, как вдруг подполковник что-то вспомнил и обернулся.
– Профессор, хотел ещё кое о чём у вас спросить. Вы не знаете, что означает слово «апостасия»? Судя по звучанию, оно имеет греческие корни. Может, как филологу и знатоку древнегреческого приходилось сталкиваться?
Ердоев сначала задумался, но, всплеснув руками, быстро ответил:
– Не слышал; по фонетике похоже на греческий. Но сейчас быстро посмотрим. Зачем придуманы словари, верно? – Он достал из огромного шкафа толстенный греко-русский словарь и шумно перелистал страницы, найдя нужную: – Так… ага. Вы же христианин? Ой, вы же офицер! Какой христианин… такой же, как и я – мусульманин. – Он засмеялся. – Значит так: «Апостасия – отступничество от христианской веры. В широком смысле клятвопредательство, отступничество от Бога. Религиозный термин, встречающийся в Ветхом и Новом Заветах. Тягчайший грех в христианстве». Примерно так. – Он широко улыбнулся.
Облако сигаретного дыма расслоилось и теперь висело двумя пластами, поделив кабинет на миры: нижний, где сидел Ердоев, средний, где пребывал стоящий Кузнецов, и верхний, где на потолке обитали мухи, спасающиеся от удушья.
Профессор встал и открыл форточку, смущённо причитая:
– Извините, вы, наверное, не курите. Сейчас я быстро проветрю. – Он щёлкнул шпингалетом и распахнул окно. После чего налил стакан воды и подал его побледневшему Сергею: – Выпейте, пожалуйста. Простите меня за неучтивость.
Офицер сделал глоток.
– Ничего, не переживайте. Слегка голова закружилась. От жары, наверное.
Дымные слои растворились, оставив после себя еле заметную седую паутину. Кузнецов смотрел сквозь неё, и ему казалось, что это не табачный смог, а пелена, скрывающая прошлое. Он вспомнил, где наяву, а не во сне слышал это слово.
В девять утра следующего дня Сергей стал первым посетителем Центрального телеграфа. Времени имелось немного, так как в 11 вылетал его рейс в Хорог. Несмотря на цейтнот, он ещё ночью твёрдо решил позвонить сегодня маме и выяснить крайне важный момент. Мать, конечно, обрадовалась, услышав сына, но и не меньше опешила от его вопроса.
– Серёж, ну я не помню уже. Мама, твоя бабушка, умерла больше пятнадцати лет назад, столько времени прошло. Мы после твоего рождения почти два года у родителей в Уссурийске жили. Отец же после войны на заставе в Приморье служил, а там ни света, ни условий нормальных. Но ты всегда со мной находился, окромя, может, нескольких дней, когда меня в больницу положили, на седьмое ноября прям. А бабушка, да… воцерковленной была, каждое воскресенье в церковь ходила. Дед смеялся над ней, но не препятствовал, хотя сам коммунистом был. Она никогда не навязывалась с религиозными разговорами. Я, по крайней мере, не помню, чтобы она мне предлагала в храм сходить или что-то ещё такое. Икона у них была дома, это единственное помню. Отец твой всё в шутку ругался, когда приезжали в гости, что у деда партбилет хранится в шкафу, рядом с ней.
– Ну а после смерти наследство же осталось какое-то кроме квартиры? Драгоценности, может? А, кстати, награды дедовы, они где?
– Да какие там драгоценности. Не было ничего у них ценного. Медали с орденом Олег, дядя твой, забрал, да и всё. Иконка осталась. Серёж, зачем тебе это?
Кузнецов ответил что-то невразумительное и, поглядывая на часы, перевёл разговор на иную тему.
Через час вместе с другими пассажирами Сергей вышел из здания аэровокзала Душанбе и быстрым шагом направился к самолёту. Несмотря на утро, лётное поле уже успело раскалиться, и воздух над бетоном поплыл, размывая силуэты военных бортов вдали.
Грациозный и миниатюрный пассажирский Як-40 с задорно вздёрнутыми аккуратными крыльями был верхом изящества на фоне стоящего рядом жирного и обрюзгшего транспортника Ил-76. Он гостеприимно распахнул бортовой трап, встречая гостей улыбкой миловидной стюардессы, камерной обстановкой салона и неповторимым запахом нутра самолётов Аэрофлота.
Рейс Душанбе – Хорог длился всего 45 минут, однако любой, кто хоть раз летал им, забыть полученные впечатления уже никогда не сможет. Низкий полёт над горными пиками и посадка через узкое ущелье, называемое Рушанские ворота, завораживали пассажиров и требовали от пилотов наивысшей лётной квалификации. Сергей неотрывно глядел в иллюминатор, в который раз рассматривая знакомые хребты, долины, склоны и расщелины. Вот на горном плато, затерявшемся посреди непроходимых скал и теснин, стоит еле заметная кошара. Где-то рядом должно быть стадо овец. Как они сюда добираются? Где их кишлак? Кто он, их чабан, месяцами живущий один в окружении бестелесных дэвов и парий? Сергей никогда не видел этой отары, но каждый раз пытался найти и разглядеть её. Пастбище использовалось, о чём свидетельствовал другой оттенок зелёной поверхности, нежели вокруг. У самой кошары, в обширном загоне, земля вообще коричневая; значит, недавно овцы точно здесь паслись. А дальше отвесной стеной вздымался величественный пик, ослепительно сверкающий снежной шапкой, за ним ещё один, и ещё… Терра инкогнита непроходимая, даже для горных архаров и винторогих диков. Никогда нога человека не ступала там; пусть так будет и дальше. Потому что лишь крушение подобного рейса сподвигнет спасателей добраться к недоступным пятитысячникам. Здесь время застыло, иногда напоминая о себе тенью пролетающего самолёта. Для чабана тень – наверное, единственный источник новостей, и он каждый раз улыбается, видя её: значит, всё хорошо там, откуда она, мир ещё не рухнул, а человечество живо.
Кузнецов даже порадовался за пастуха: «Счастливчик – пасёт вечность и никуда не спешит». Он тяжело вздохнул, и необъяснимая печаль вновь навалилась на него. Так же, как две недели назад, под звёздным небом Афганистана. Совершенно беспричинная и абсолютно безнадёжная. Ему опять стало страшно. Он вдруг представил себя на месте чабана, и дикий холод вселенского одиночества пронзил его сердце. Незнакомый таджик внизу был однозначно счастлив, Сергей почему-то в этом не сомневался. Но почему он сам, находясь даже среди людей, чувствует себя покинутым и пустым? Что с ним происходит? Сергей уткнулся носом в холодный плексиглас иллюминатора: «Где ты, чабан? Покажись. Где твои овцы, коих ты пасёшь? Почему ты там, не имея почти ничего, счастлив, а я здесь представлен к ордену Красного Знамени, скоро получу полковника, всё замечательно, а утешения и покоя нет…»
Наблюдая сверху за миром окаменевшего времени, Сергей медленно погружался в созерцательный транс. Все мысли угасли, ум замолчал, и память, лишившись ревностной опеки цензора, постепенно стала выгружать давно забытые образы былого. Как в первые недели учёбы в Суворовском училище кусал губы от отчаяния и неутолимой тоски по дому. Тогда мир его детства кончился стремительно, в одночасье, оставив мальчишке лишь право хранить фото родителей и письма. И то не больше трёх, аккуратно сложенных на полке уставной прикроватной тумбочки. В те дни казалось, что одиночество тринадцатилетнего пацана, оторванного от мамы, столь абсолютно и непоправимо, что облегчения ему уже не будет никогда. Но утешение пришло внезапно, и до сих пор Сергей помнил тот момент невероятно ярко. В далёкое сентябрьское утро суворовец Кузнецов сразу после зарядки за четверть часа успел умыться, заправить кровать и приготовиться к утреннему осмотру. У него оставалось пять минут. Он вышел на улицу, сел на лавку и, отвернувшись в сторону, тихо заплакал. Не сильно – так, чтобы после команды: «Рота! Выходи строиться!» успеть проморгаться и скрыть следы своей слабости. Сергей не услышал шагов, поэтому когда рядом с ним сел ротный старшина Залогин по прозвищу Дизель, парень замер от ужаса. Фронтовик двухметрового роста, с кулаками-кувалдами и голосом, как у пароходного ревуна, был грозой для всех суворовцев училища, независимо от курса и роты. Сергей попытался встать, но тяжёлая ладонь опустилась на его плечо. Он не смел поднять глаз и посмотреть в лицо мужчине, уставившись на орден Красной Звезды на его груди.