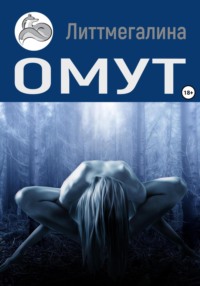Полная версия
Отпусти меня
– Мы не заблудимся? Скоро начнет темнеть.
– Нет. Я часто тут бываю. Предлагаю дойти до конца каньона, встретить закат. А затем пойдем обратно.
– В темноте? – поразилась Надишь.
– У меня есть отличный, яркий фонарь.
Увидев ее скептическое лицо, Джамал рассмеялся.
– Я знаю это место как свои пять пальцев. Даже без фонаря я сумел бы вывести тебя отсюда.
Все это звучало как авантюра, но, признала Надишь, довольно увлекательная. Она решила довериться Джамалу и согласилась.
Они спустились в каньон и далее их путь пролегал по весьма пересеченной местности. Где-то им приходилось карабкаться по молочно-белому песчанику, где-то они протискивались боком. Сильный, крепкий Джамал легко преодолевал все препятствия и, ухватив за руки, поднимал Надишь на возвышенности с такой легкостью, как будто она ничего не весила. Надишь, будучи весьма выносливой в целом, не была привычна к подобной физической нагрузке и вскоре заметно запыхалась. Джамал все время над ней подтрунивал:
– Ну, соберись же, слабачка! Всего-то пять километров.
Когда Надишь все-таки преодолела эти нелегкие пять километров, она была очень горда собой. Они выбрались на поверхность, цепляясь за предусмотрительно закрепленную кем-то веревку, и сели. Небо уже начинало розоветь. Надишь все еще тяжело дышала и заранее переживала, как ей удастся проделать обратный путь в темноте, но все же улыбка не сходила с ее лица. Все это было так ей нужно. Эта странная местность, непохожая на все, что она видела обычно, лишь усиливала ощущение, что они с Джамалом оказались в другой реальности. Здесь Надишь была далеко от Ясеня и всего, что с ним ассоциировалось: гниющей, мертвой плоти, откромсанной от живого человека; ведер, забитых перепачканными перчатками и пропитанной кровью марлей; резкого запаха антисептика и вороха мучительных, противоречивых чувств.
Ей хотелось, чтобы у нее был только Джамал. Простой, понятный, ясный Джамал, который не занимал в ее мыслях места больше, чем следовало бы. Чтобы она не знала Ясеня вовсе, ведь еще до того, как он сделал ей гнусное предложение в кабинете при ординаторской, его рыжие волосы навязчиво притягивали ее взгляд. С самого начала он не давал ей покоя.
Надишь не могла больше тревожиться в одиночестве и рассказала Джамалу о ситуации с Ками.
– Это вообще не твоя проблема, – выслушав, сказал Джамал. – Это семейное дело. В семейные дела не вмешиваются.
– Я боюсь, что он будет обращаться с ней жестоко.
– Ну не убьет же он ее, – ведь за нее уплачен выкуп. Даже если и отвесит ей затрещину за какую-то провинность, так с нее не убудет. Тем более что, как ты говоришь, она и дома привыкла к подобному.
– У него дурная слава, Джамал. Он вспыльчивый, неустойчивый. В округе у него друзей нет.
– Если он вызывающе ведет себя с мужчинами, это не значит, что с женщиной будет так же. Может, они поладят. А ты не мешай, дай им время.
– С воскресенья, как она вышла замуж, от нее ни слуху, ни духу…
– А что, раньше она к тебе каждый день бегала?
– Нет…
– Тогда все как обычно.
Его слова отчасти успокоили ее, но и оставили неприятный осадок. Уже не в первый раз Надишь замечала, что Джамал рассуждает куда более по-кшаански, чем она сама. Она связывала это с тем, что, в отличие от нее, попавшей в приют вскоре после рождения, он до шести лет прожил в семье. У Джамала умер отец. Его мать, оставшись одна, не смогла содержать ребенка и была вынуждена отдать его. Вот и все, что было известно.
Обычно Надишь старалась избегать этой грустной темы, но сейчас спросила:
– Ты помнишь своих родителей?
– Да.
– Скучаешь по ним?
– Каждый день представляю, какой могла бы быть моя жизнь, если бы я остался с ними, – Джамал отвернулся и посмотрел на закат. Небо действительно было поразительно красивым, так и пылало, как будто в нем металл плавили. Отраженный свет вспыхивал красными огоньками в зрачках Джамала, окрашивал его радужки в фиолетовый цвет.
– Вот уж не знаю, что хуже – когда и вспоминать-то нечего или когда только воспоминания и остались, – пробормотала Надишь.
– Как по мне, так первое. Неужели ты никогда не задумывалась о своих настоящих родителях?
– Нет, – честно призналась Надишь.
Слово «мать» оставалось для нее абстрактным понятием, а что касается отца, так она не хотела иметь его в принципе – отцы наказывали, и заставляли, и принимали решения за тебя. Да и такая мать, как у Ками, едва ли давала в жизни какое-то преимущество. Никто не обнимал и не целовал Надишь в детстве, и она выросла, не ощущая в этом потребности. Даже будучи маленькой девочкой, она все время играла одна, пока Джамал с его навязчивыми, порой нахальными попытками подружиться не пробил ее невидимую стену. Вот с ним она сблизилась по-настоящему, но потом он ушел, тем самым заставив ее осознать, что она сможет обойтись без него. Что в училище, что позже в больнице, Надишь держалась особняком и считала другом разве что Леся, хотя и о нем, в сущности, мало что знала, кроме того, что он добр и относится к ней с симпатией.
– Закрой глаза, – предложил Джамал. – Попытайся их представить. Неужели не увидишь?
Надишь закрыла глаза и увидела вытянутое лицо Астры в ореоле вечно взъерошенных темных волос, ее выпуклые близорукие глаза с короткими прямыми ресницами.
– Нет, Джамал, это бесполезно. Мне разве что вспомнилась Астра. Знаешь, мне порой казалось, что она относится ко мне чуточку лучше, чем к остальным… Хотя по ней, конечно, было сложно сказать.
– Ах, эта сука Астра, – небрежно бросил Джамал. – Вечно она пыталась разлучить нас.
Надишь была шокирована его выпадом, но попыталась этого не показать. Парадокс, но, при всей их эмоциональности, кшаанцы едва ли использовали бранную лексику (если только не сидели в очереди под дверью у Ясеня). Сдержанные ровеннцы на деле куда чаще прибегали к грубым словечкам, тем более что обилие таких слов в ровеннском языке позволяло уместно подбирать их к ситуации. Та же Нанежа, атакуя Надишь, делала это исключительно на ровеннском.
– Когда она настраивала меня против тебя? Я не помню такого.
– Я помню. Ты мне рассказывала.
– И все же… она не была сукой. Это благодаря ей я стала медсестрой.
– И что это тебе дало? С утра до ночи на побегушках у бледных. Как подумаю об этом, у меня челюсти до боли сжимаются. В нормальной ситуации ты была бы замужем и не работала вовсе.
Надишь вспомнился Лесь, который в пятницу утром забежал к ней, чтобы спросить, как у нее дела, и вручил ей большое яблоко.
– Я не хочу замуж, Джамал. Я люблю свою работу. И ровеннцы не все плохие. Они такие же люди, как и мы.
– Нет, не такие же, как мы. Они захватчики, чужаки. Если бы не они, у нас были бы свои врачи, учителя и полицейские. Которые действовали бы в наших интересах и не обслуживали бы чужую, ненавистную нам страну, держащую нас в загоне, обратив в тупой, невежественный скот.
Слова Джамала вызвали у Надишь двойственные чувства. Она признавала правоту Джамала – ровеннцы были захватчиками, и кто бы из власть предержащих ни принимал решения насчет Кшаана, она ненавидела этих людей до глубины души. Одновременно с этим ей хотелось спорить. Лесь не был плохим человеком. Едва ли он придавал какое-то значение тому, что детишки, которых приводили к нему на прием, были темненькие, а не светленькие. И тот же Ясень, несмотря на всю его холодность и пренебрежительность, делал для своих пациентов все что только мог.
Небо начало тускнеть.
– Пошли обратно, – решила Надишь. – Я не хочу продираться сквозь каньон в непроглядной тьме. Так можно и ноги переломать.
К ее удивлению, обратный путь оказался куда проще и как будто бы занял значительно меньше времени, хотя до захода солнца они все равно не успели, и далее им светил только фонарь. Джамал действительно держался так, как будто свет не нужен ему вовсе, настолько он изучил в этом каньоне каждый подъем и склон. Надишь показалось это странным – зачем кому-то приезжать в подобное место так часто? Но затем она забыла об этом.
В машине Надишь ощущала себя усталой и сонной и едва ли что-то говорила, осмысливая услышанное от Джамала. И Ясень, проклятый Ясень, все еще витал рядом с ней. Иногда она видела его лицо на поверхности оконного стекла – мягко мерцающий образ, оттененный ночной тьмой.
Казалось, невозможно найти двух более непохожих людей. Ясень, с его средним ростом, мягкими разлетающимися волосами и поблескивающими очочками в тоненькой серебристой оправе, не производил впечатление силы. Однако Ясень вырос в привилегированных условиях. Свою дорогую машину, огромную квартиру он принимал как должное, так же, как свое высокое положение в больнице и покорность со стороны персонала. Его белая, гладкая, казалось бы, такая беззащитная кожа не вводила Надишь в заблуждение: под ней пряталась сталь. Самоуверенность, которую невозможно пошатнуть, упрямство, которому едва ли удастся что-то противопоставить.
Джамал был высоким, смуглым и весь состоял из литых мышц. В детстве он часто вел себя необузданно и грубо, постоянно делая что-то в пику воспитателям. И все же Надишь всегда чувствовала в нем боль, как будто где-то внутри него оставалась незаживающая рана, оставляющая его слабым и уязвимым.
В получасе езды от ее дома Джамал остановил машину и тихо предложил.
– Давай переберемся на заднее сиденье.
После секундного колебания Надишь согласилась.
На этот раз, неудобно устроившись на тесном заднем сиденье, они целовались долго и куда более откровенно. Сейчас Джамал был так разгорячен, что Надишь впервые задумалась, как далеко все это может зайти. Нет, она не боялась Джамала, будучи уверенной в том, что он не воспользуется своей силой. Решение было за ней, но она не знала, что планирует делать. С одной стороны, она чувствовала возбуждение, пусть даже такое слабое, что открой окно – и его ветром сдует. К тому же она до сих пор принимала противозачаточные таблетки, и отсутствие риска забеременеть давало ей определенную свободу…
– Ты такая красивая… – обхватив ее щеки своими большими ладонями, хрипло пробормотал Джамал.
Это был очень неудачный выбор фразы, и слабенький жар сменился леденящей волной, оставившей мурашки там, где она прошла по коже. В следующую секунду ладони Надишь уперлись Джамалу в грудь и начали толкать.
– Я сказал что-то не то? – отстранившись, растерянно осведомился Джамал.
– Все в порядке, – сказала Надишь и провела по лицу ладонями, пытаясь прогнать воспоминание о другом мужчине, который не раз говорил ей то же самое, лежа рядом с ней в постели. – Я просто устала. Отвези меня домой.
Хотя во вздохе Джамала отчетливо послышалась досада, его ответ прозвучал мягко и терпеливо:
– Как хочешь.
Джамал открыл дверь, обошел машину и занял водительское место. Надишь осталась на заднем сиденье, чувствуя себя разочарованной и растерянной. Ясень переживал из-за ее чрезмерно укрепившихся отношений с алкоголем, но только теперь, много недель спустя, она испытала по-настоящему зверское желание напиться. Уж тогда бы она устроила. Она бы убедилась, как мало ей нужен Ясень для веселья. Она бы заменила воспоминания о нем другими, с Джамалом. Ей хотелось, чтобы это наваждение закончилось.
В полном молчании Джамал довез ее до дома. Стоило ей выйти из машины, и на нее набросился ветер.
– Прости меня, – сказала Надишь, стоя возле раскрытой дверцы машины и чувствуя, как от холода зубы уже начинают выбивать дробь.
– За что?
– Просто прости.
– Ладно… – кивнул Джамал. – Завтра меня не жди. Я занят.
Он сел в машину и уехал.
В одиночестве своей комнаты Надишь призналась себе, что рада, что все оборвалось в последний момент. Джамал был слишком кшаанец, чтобы не счесть ее решение отдаться ему предосудительным, пусть даже он был тем, кто получит выгоду от ее распущенности. Однажды она уже рискнула его уважением… ей не стоило делать это еще раз.
***
В понедельник Надишь и ее паранойя приступили к работе одновременно. «Кто из них?» – думала Надишь на пятиминутке, всматриваясь в смуглые лица. Перехватив ее взгляд, Нанежа послала ей ослепительную улыбку. Надишь решила, что ей померещилось.
В первую половину дня Ясень так часто отлучался в стационар, что к обеду Надишь уверилась, что теперь он терзает одну из палатных медсестер. Она также заподозрила, что сходит с ума.
Во вторник, когда на пятиминутке Нанежа улыбнулась ей снова, ощущение безумия усилилось. В больнице стартовал обязательный медосмотр для медсестер. К сожалению, психиатр не входил в список врачей, необходимых для посещения.
В среду скорая привезла девушку с перерезанными венами. Врачи скорой наложили давящую повязку, так что на момент прибытия в больницу кровотечение уже остановилось, но порезы на руке требовали швов.
– Опять ты, – вздохнул Ясень. – Какой раз уже? Третий? Четвертый?
Несмотря на явное недомогание, вызванное потерей крови, девушка послала ему милую улыбку. У нее были нахально вздернутый носик и круглые, как пуговицы, глаза. Все это в сочетании с удлиненными передними зубками придавало ей сходство с крольчишкой.
– Он теперь целый месяц будет меня жалеть, – уверяла девушка в перевязочной, пока Ясень накладывал тоненькие, едва заметные швы поверх белесых шрамиков предыдущих порезов. – Может даже женится.
– В предыдущие три раза не женился, а теперь женится? – выразил скепсис Ясень. – На руку свою посмотри. Во что ты ее превратила?
– Ты красиво шьешь, аккуратно. Не то что тот балбес, к которому меня в первый раз привезли. Я теперь всегда прошу только к тебе.
– Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Пойми ты, дуреха: однажды скорая не успеет или вовсе не приедет – это же Кшаан, тут многое может случиться. И не будет тебе ни того парня и никаких других…
Ясень до последнего стежка продолжал увещевать ее, и девушка, кажется, таки прониклась. Во всяком случае начала посматривать на обновленную коллекцию шрамов с сожалением.
– Лучше бы любви не существовало вовсе, – печально посетовала она перед уходом.
– Тут я с тобой согласен, – кивнул Ясень. – От всех этих избыточных привязанностей одни проблемы. Попроси у постовой медсестры стакан воды и езжай домой. Надеюсь больше не увидеть тебя на приеме.
– Какая очаровательная беседа, – едко прокомментировала Надишь, едва за пациенткой закрылась дверь.
– Да, приятно наконец-то пообщаться с девушкой, которая не считает меня монстром, – буркнул Ясень, наспех делая пометки в амбулаторной карте. – Очень милая девочка, даже если мозги немного набекрень. Тот парень не знает, что теряет.
– И тебе ли жаловаться на избыточные привязанности? – продолжила Надишь. Следующий пациент уже вошел, но она не могла остановиться, поэтому просто перешла на ровеннский. – У тебя то одна медсестра, то другая. Ты имена-то хоть запоминаешь?
– С твоим у меня не возникло сложностей.
– Ура, – злобно сказала Надишь. – Я была особенной.
– Нади, откуда все эти навязчивые фантазии про мои связи с медсестрами?
– Даже не знаю, с чего бы я такое заподозрила. Мы, кшаанки, все такие тупые.
Ясень снял очки и потер переносицу.
– Почему бы не перестать обсуждать мою мнимую сексуальную жизнь и не заняться тем, что люди на работе делают? Работают. Тут вообще-то человек с переломом сидит.
Надишь наконец-то обратила внимание на пациента и при виде его распухшего втрое носа густо покраснела.
В четверг, когда Надишь забежала к Лесю и Нанежа в очередной раз ослепила ее своим сияющим видом, она не выдержала.
– Ты окончательно спятила, Нани?
– Я просто счастлива, – невинно сообщила Нанежа. – И хотела поделиться радостью с тобой. Ой… хотя вот именно тебе за меня порадоваться не удастся.
– Что между вами происходит? – спросил Лесь, тревожно переводя взгляд с одной на другую. – Откуда эта ненависть?
– Все хорошо, – сказала Надишь, ощущая, как ее сердце оплетают ядовитые побеги. – Мы почти дружим. Видишь, она даже радостью пыталась со мной поделиться.
В пятницу, пройдя в течение недели электрокардиографию, флюорографию, рентгенографию и оставив самое противное напоследок, Надишь отправилась на гинекологический осмотр. Гинекологом была полноватая ровеннская женщина в очках. Учитывая, что за все время заполнения амбулаторной карты в лицо Надишь она ни разу не взглянула, есть вероятность, что пациентки запечатлевались в ее памяти в весьма непристойном виде.
– Половую жизнь ведешь? – делая записи, буднично осведомилась гинеколог.
– Уже нет, – ответила Надишь.
– Какие лекарства принимаешь?
– Только противозачаточные таблетки.
– Надеешься? – уточнила гинеколог тем же нейтральным тоном.
Надишь впала в такую растерянность, что не нашлась с ответом. А ведь действительно, зачем она продолжает каждый вечер глотать по таблетке, хотя в контрацепции уже давно нет необходимости? В любом случае, последний блистер из тех трех, что Ясень вручил ей в октябре, был на исходе.
– Иди на кресло.
Многочисленные применения органа по прямому назначению так и не избавили Надишь от дискомфорта и болезненности при введении гинекологического зеркала, и она была рада до смерти, когда экзекуция закончилась и она смогла натянуть на себя одежду, возвращая себе уверенность вместе с трусами. Внезапно на нее снизошло озарение, которому следовало бы снизойти ранее.
– У меня осталось совсем мало таблеток. Вы не могли бы выписать мне рецепт на… скажем, еще полгода?
Приобретение лекарств в Кшаане проходило по усложненной схеме. Практически на все требовался рецепт, по которому пациент получал ровно такое количество таблеток или мази, какое было назначено врачом.
Гинеколог оторвалась от амбулаторной карты и впервые посмотрела ей в лицо.
– Так сильно надеешься? – спросила она.
Выходные Надишь провела в постели, перечитывая старые учебники и не поднимаясь даже для того, чтобы поесть. Она чувствовала себя совершенно изнуренной, самым несчастным человеком на свете. Против воли она постоянно прислушивалась – не появятся ли Ками или Джамал. Никто не пришел. Странно, но после всех этих лет она впервые испытывала от одиночества отчетливый дискомфорт.
Глава 8
– Как прошли выходные? – злобно осведомилась Надишь в понедельник, стоило им с Ясенем оказаться наедине в перевязочной. До приема оставалось десять минут. Сидя за маленьким столиком, она быстро сворачивала куски марли, пополняя истощившиеся запасы марлевых шариков.
– Довольно уныло, но спасибо, что спросила, – бросил Ясень, продолжая перебирать коробки в шкафу с лекарствами.
– Как так? – наигранно удивилась Надишь. – Неужто Нанежа не развлекла?
– А у меня отношения с Нанежей? – спросил Ясень из-за дверцы шкафа.
– А ты думаешь, что нет?
– Я думаю, что нет.
– Действительно, разве это отношения… – оскалилась Надишь. – Зачем тебе эти избыточные привязанности? Потрахушек достаточно.
Ясень выхватил одну из коробок и бросил ее Надишь. Надишь поймала ее автоматически.
– Вот у этой пачки срок годности истекает через два дня, – сердито уведомил он. – А она все еще здесь. Ты бы лучше сосредоточилась на своих должностных обязанностях, а не на лихорадочных образах своего больного воображения.
Нижняя губа у Надишь задрожала от несправедливой обиды.
– Я знала об этой коробке и убрала бы ее через два дня. Ты не можешь отчитывать меня за промах, который я еще даже не допустила!
– Это ты мне говоришь? – Ясень осаднил ее колючим взглядом. – Нади, я устал от твоих бредовых нападок. Перестань скрещивать меня с Нанежей и прочим персоналом. Я вообще не склонен к случайным связям. Я так часто прикасаюсь к посторонним людям на работе, что вне работы мне этого делать совершенно не хочется.
– Ха, – хмыкнула Надишь.
– Ты можешь мне не поверить, но у меня было немного женщин, – приглушил голос Ясень. – И каждую из них я любил. По крайней мере какое-то время.
– Да, я тебе не верю.
– Почему?
– Потому что ты лживый, злой, омерзительный человек, которого я глубоко ненавижу!
Ясень снял очки и устало потер лоб.
– Я уже вообще не знаю, как мне с тобой разговаривать…
– А не знаешь – так молчи, – огрызнулась Надишь и мстительно добавила: – В чем проблема-то?
Вечером, вернувшись домой, она обнаружила под дверью записку от Джамала. Он собирался завтра забрать ее с работы. Что ж, хоть что-то хорошее после этого ужасного дня.
***
Надишь разозлила Ясеня и сделала это очень хорошо. Заряда хватило надолго, и бедная стажерка, приставленная к ним во вторник, хлебнула страданий. К оправданию Ясеня, стажерка действительно демонстрировала редкое отсутствие сообразительности, и даже Надишь уже чувствовала себя весьма заведенной, по кругу объясняя очевидные вещи.
Вот сейчас стажерка в очередной раз воткнула иглу в руку перепуганного пациента. Игла вошла в вену, наискосок прошла сквозь нее и вышла с другой стороны. Кровь из поврежденного сосуда хлынула под кожу. Эти синяки будут сходить долго.
Ясень закатил глаза и издал мученический стон.
– Сил моих нет смотреть на это! Что за издевательство над людьми!
Согнав стажерку, он протер руку пациента спиртом и сделал инъекцию самостоятельно. Во время процедуры пациент сверлил стажерку злобным, обиженным взглядом.
Ясень сопроводил пациента на выход и тщательно запер за ним дверь. Затем сбросил халат и начал расстегивать на себе рубашку. Стажерка уставилась на него с ужасом, Надишь – ошарашенно. Швырнув рубашку на спинку стула, Ясень сел на кушетку для пациентов, обернул предплечье салфеткой и самостоятельно затянул на себе жгут.
– Объясняю в последний раз… натягиваешь кожу… иглу держишь срезом вверх… продвигаешь вдоль вены… – перечислял он, яростно сжимая кулак. – Вводишь иглу не больше чем наполовину… не надо ее всю туда запихивать! Нади, дай ей шприц и ампулу с физраствором… Смотри у меня, если опять облажаешься, вышвырну тебя из больницы без права на возвращение!
Сжимая в дрожащей руке шприц и ампулу, стажерка робко подступила к нему.
– И давай без истерики, – уже спокойнее бросил Ясень. – У меня идеальные вены.
Действительно, сквозь его тонкую светлую кожу они просвечивали так, словно были нарисованы синим фломастером. Стажерка приступила, отчаянно шмыгая носом. Наблюдая за ней, Надишь слышала, как ее собственные нервы звенят от напряжения.
По завершении идеально выполненной инъекции, Надишь обессиленно рухнула за стол. «Сумасшедший дом, – отчаянно подумала она. – Хуже некуда».
Она ошибалась.
***
– Коза? – медленно повторил Ясень и снова посмотрел на козу, лежащую в грязной облупленной тележке посреди чистейшего хирургического кабинета. Ни коза, ни тележка никуда не исчезли. – Кто вообще позволил войти в отделение с козой?
В дверь хирургического кабинета просунулась взъерошенная черноволосая голова кшаанского санитара.
– Он так просил, так молил, аж плакал. Нога, говорит, у козы поломалась.
– Пошел к черту, сердобольный, – Ясень скрипнул зубами.
Голова санитара скрылась.
– Я не ветеринар, – обратился Ясень к низенькому старику, стоящему возле тележки. – Я людей лечу, не животных.
– Где ж я возьму ветеринара? А она – вот, страдает, – прошамкал старик, снял кепку и заплакал. У него на лице были такие глубокие морщины, что слезы терялись в них как в лабиринте, в какой-то момент растираясь полностью.
В его словах была правда. С ветеринарами в Кшаане было еще хуже, чем с врачами. В восьмом часу вечера найти хоть одного из них едва ли представлялось возможным.
Ясень растерянно оглянулся на Надишь. Нечасто она видела на его лице это выражение.
– Я с ума сойду, – сказал он по-ровеннски.
– Мы давно уже все съехали, – отозвалась Надишь ровным тоном.
Ясень снова бросил взгляд на козу. Сломанная нога была укреплена с помощью палки – что хорошо. Палка к ноге была примотана в несколько слоев невероятно грязной тряпкой, сквозь которую сочилась кровь – что очень плохо. Лежа на боку, коза похрипывала и часто дышала от боли, и ее обращенный в потолок глаз с прямоугольным зрачком выражал невыносимое страдание. Ясень присел возле козы на корточки, заглянул в глаз и сказал:
– Ладно, дед, у меня на этот вечер остались только протоколы. Видать, судьба мне спасать твою козу. Но даже не надейся, что я пущу ее в операционную.
– Пойду подготовлю кушетку в перевязочной, – сказала Надишь.
– Постели клеенку и простыню. А лучше две клеенки, – потребовал Ясень и сам себе поразился: – Коза в перевязочной… До чего я дошел… Дед, расскажи, что случилось?
Старик скорбно свел брови.
– Чужая собака забежала в сарай и давай лаять… А Пушиночка напугалась, побежала, прыгнула через забор, да и сломала ножку…
– Пушиночка, – эхом повторил Ясень. – А не скажешь, дед, Пушиночка на сколько килограммов потянет?