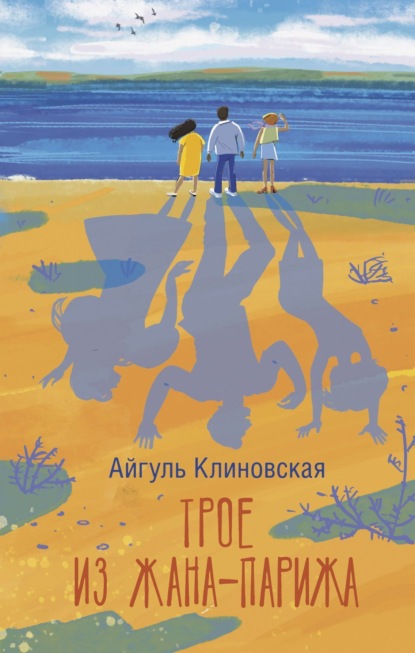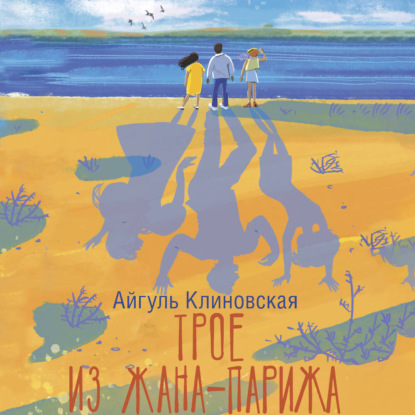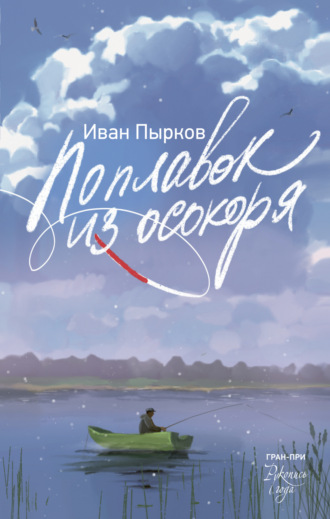
Полная версия
Поплавок из осокоря
Семеныч приехал в Мостотряд еще молодым, но уже на пенсии. Был он совсем в других краях и в другой жизни машинистом – повелителем товарных поездов. И когда до Става среди декабрьского притихшего денька долетали тревожные гудки электровозов, он поднимался со своего стула и долго смотрел в сторону, откуда доносился звук. Как будто хотел увидеть мчащийся поезд. И чем больше проходило времени, чем крепче прикипал к Ставу Семеныч, тем дольше становились эти его вглядыванья в снежную круговерть.
Однажды он так загляделся и задумался (это Семеныч-то, с его цепким прагматизмом!), что не заметил, как брезентовую сумку с рыбой и удочками утащила подбежавшая пронырливая собачка Муха. Дело в том, что на Ставе, кроме рыболовов и голубятников, жил еще и собачник. Домик его располагался на пару метров выше уровня воды. И к дому каким-то образом присоединялся просторный низенький сарайчик – своего рода собачье общежитие. Собачника звали Митек, он работал где-то на севере вахтовым методом, и когда жил дома, собаки были как шелковые. Но когда уезжал… Стоило только, к примеру, явиться кому-то впервые на Став, начиналась самая настоящая собачья атака на пришельца. Сначала с двухметровой высоты спрыгивала самая маленькая шавка, она озиралась, поджимала хвост и недобро полаивала, призывая на помощь стаю. Следом, как по команде, высаживался на лед собачий десант. Беспородные, шакаловидные, здоровенные, совсем маленькие – каких только не было собак в этом Митькином спецотряде. Семеныч, надо сказать, недолюбливал Митькиных собак. Недолюбливал – это если говорить, смягчая его конфликт с собачьей армией. Сидит он, допустим, над луночкой заветной, под коряжкой пробуренной, сидит себе, окуньков тихонечко потаскивает. Самая паршивая собачонка подкрадется как можно ближе к Семенычу, нагадит ему прямо под валенки и быстренько ретируется на исходную позицию, в сарайчик. Николай Семенович гонится за ней по Ставу с черпаком в руке, размахивается, кидает что есть силы черпак и попадает… в стоящее на берегу дерево. От черпака отлетает ручка. Несколько мгновений Семеныч, багровея от злобы, смотрит на собачонку, а собачонка из своего сарайчика – на Семеныча. Потом он кричит: «Ну все, я за берданкой! Сейчас всех этих сучат перестреляю. Митек, выходи, в этот раз никаких шуток!» Митек не выходит, собачка скалится не то от смеха, не то от ненависти, Семеныч прикручивает ручку к черпаку, поминая матерей всего Мостотряда.
Так что да, воевали собаки с Семенычем, и он, если не считать пинков или пущенных вслед снежков, никакого зла собакам не делал. Только грозился. И вот как-то раз загляделся Семеныч вдаль, в лирическом, видать, настроении. И в этот как раз момент подоспела Муха, взяла в зубы сумку с уловом и удочками. И была такова. Растворилась в метели. Семеныч взревел: такой наглости он не ожидал даже от Мухи. Что делать? Пошел на приступ собачьей крепости. Семеныч лезет, пыхтит (все-таки два метра, а он грузный, в ватных брюках, ватнушке), а стая его на все голоса обгавкивает. Хорошо, Митек подоспел, пропажу Семенычеву компенсировал, как-то все замял, уладил, мировую поставил.
Но рыбаки – народ памятливый. Сидит Николай Семенович на своих прежних местах, рыбу в ведре держит, карку не разевает, а мимо Володя Седой идет, из-за поворота чешет. Они вообще-то друзья с Семенычем, но подколоть друг дружку никогда случая не упустят.
– Семеныч, – говорит Володя загадочно. – Ты знаешь, что я давеча-то видал?
– Не знаю. А чего?
– Я за молоком вечером-то иду…
– Да сдалось мне твое молоко!
– Послушай ты, обожди – не сбивай. Иду, говорю, по мостику через речку, за молоком, гляжу на Став, уж темнеет, рыбаки все разошлись. – Тут Володя делает паузу. И выпаливает: – Зато собаки твоими удочками рыбу ловят! И, знаешь, одну за одной таскают. Удочки, видать, уловистые!
Семеныч не выдерживает и взрывается ревом:
– Все, за берданкой, всех перебью, всех до одной! Первую Муху, так ее растак!
Потом садится на стульчик, стирает пот со лба и прибавляет:
– Завтра, завтра – всех до одной! И первую – Муху!
Впрочем, она, Муха-то, оказалась долгожительницей. И мы еще услышим ее насмешливо-подленькое подлаивание…
Когда разгорались весны, на Ставе было как-то особенно хорошо. Синицы тинькают-токуют, струящийся теплый воздух плавится на солнышке, лучатся сухие тростники, рыба клюет яркая, икряная. День длинный. Не день – целую жизнь проводишь на игольчатом, рассыпающемся на кристаллы, но все еще прочном льду. По утрам, после ясной ночи, каждая лужица оправлена хрустальной каймой. Наступишь – звон мелодичный. И вчерашние лунки схвачены звонким ледком. А прислушаешься, особенно утро пока, пока еще мостовой гул не разошелся, в небе, высоко-высоко, – жаворонковые переливы. Семеныч ценил красоту, умел увидеть что-то, заметить, мог улыбнуться чему-то, но никогда не объяснял своей улыбки.
Утром, пока можно, пока, как говорят весной рыбаки, «шарик» невысоко или за туманцем, есть резон посидеть на льду, потешиться верными весенними поклевками. Но ближе к полдню нужно отступать на берег, чтобы не провалиться, не попасть в коварную хрустальную ловушку. Я, Батька, Яшка, Володя Седой и Семеныч перебираемся на береговую льдину, прикрепляем удочки к длинным и гибким тростниковым побегам и опускаем их в заранее подготовленные лунки. Это отец придумал. И назывался такой способ – на бамбук. Обряд был такой: кто ловит таким образом первую рыбку, тот кричит: «Только на бамбук!» Остальные, после поимки рыбы, повторяют то же самое. На льдине хорошо, сидишь, ничем не рискуешь, любуешься лазурным ее ледяным срезом, слушаешь птиц, загораешь, здесь же, на льдине, устраиваешь чаепитие – все под рукой, все замечательно. А сам поглядываешь на поплавок в луночке. А он поглядывает на тебя. И вдруг скрывается за кромкой льда. Тогда бросаешься к тростнику, делаешь резкую подсечку, тростник сгибается, ходит ходуном, но ты выходишь победителем и выворачиваешь из лунки золотистую береговую красноперку. «Только на бамбук!» – кричат все разом. И снова затихают, напружиниваются в ожидании новых поклевок – у кого-то из нас на этот раз согнется тростниковая холудина[8]?
Вдруг Семеныч говорит: «Надоело мне с вами. Сейчас на середину выйду, за настоящей рыбой! Хочу кру́пну! Кру́пну хочу!» Володя Седой и папа в один голос удерживают Семеныча: «А чем плоха красноперка? Не рискуй, не надо!» «Да что не надо, – отмахивается Семеныч, – это же мой Став, я тут живу, я тут каждую льдинку знаю…»
– А я знаю, что вытаскивать тебя не буду, – флегматично замечает Яшка, чем только подливает масла в огонь Семенычевой решимости.
Николай Семенович делает один решительный шаг, второй, а третий, к счастью, не успевает и как-то разом, тихо погружается в густой и жирный ставский ил. Попытка выбраться самостоятельно приводит к погружению почти по горло – глубина у берега чуть больше, а лед довольно крепкий, и его не проломить руками. Ситуация просто-таки дурацкая. Отец оглядывается. Он всегда принимает в трудных случаях верные решения. Чудь позади – мощный куст верболоза. Ветви длинные, гибкие и прочные. Николай Семенович молчит. И погружается еще чуть глубже. Мы с Яшкой и с Володей Седым изо всех сил пригибаем вершинку лозины к полынье с тонущим, вернее, погружающимся Семенычем. Отец находит какую-то рейку, чтобы «знающий тут каждую льдинку» смог чуть приподняться из воды, оперевшись об нее, и ухватиться за верхушку куста. Получается. Яшка замечает: «Кру́пна… Кру́пна… Ну и тяжел ты, Семеныч, ну и дерьма в тебе! – А потом спрашивает: – А поллитру нам принесешь, как тебя вызволим?» «Да что вы, мужики, – оживает Семеныч, – и поллитру, и закуску, у меня бабка сало такое славное сделала, целый шмат огромный и притащу!..»
Наконец, после нескольких неудачных попыток, мы все же извлекаем из ледяной Ставской водички Семеныча. И Яшка, живущий по соседству, провожает его до дома.
Через минут десять он возвращается, и мы продолжаем ловить на бамбук красноперку. И все ждем, когда же придет Семеныч и принесет свою «поллитру». Но не дожидаемся ни самого главного ставского рыбака-зимника Семеныча, ни поллитры, ни тем более обещанного огромного шмата сала.
Это ж Николай Семеныч, понимать надо.
Вселенная в кармане
Зимняя рыбалка – дело громоздкое. Тяжелое дело – в прямом смысле. Один ледобур чего стоит, а если еще и пешню за собой волочь, то и вовсе без сил останешься. Почему к ледобуру нужна пешенка? Да потому что всегда есть места на льду, в которых не уверен. А проверить их сподручней всего звонким ударом пешни. С другой стороны, пешней много лунок не набьешь, измотаешься. Вот и комбинируешь – ледобур с пешней таскаешь. В придачу рюкзак с удочками, снастями, термосом, запасными носками, черпаком и прочим, и прочим. Ну как не взять с собой в белое безмолвие горячего чаю с клюквой – чай выпиваешь, а ягодки потом долго во рту перекатываешь, кислинкой их волшебной греешься, пока не лопнут. А одежда? Даже сегодня, при всех модернизациях, она нелегка, а представьте – валенки с калошами, «химдым»[9], ватные штаны, телогрейка, пропитанная за несколько сезонов влагой и навсегда отяжелевшая. И вот идет рыболов, сопит, отдувается, потеет, а некоторые еще и саночки за собой волочат или специальные ящики на полозьях, куда весь скарб рыболовный помещается. Нет, тяжка зимняя ловля, обстоятельна. Без стульчика – нельзя, без термоса – нельзя, без рукавиц – нельзя. Кое-кто, между прочим, и без палаточки никак. Собираешься на зимний лов с вечера, варишь кашу на прикорм, ухетываешь рюкзак, за окошком, как назло, расходится снег, и домашние смотрят на тебя с сочувствием – охота, мол, была.
И это речь о дальних переходах. Но тот же Семеныч со Става, ведь он живет в трех минутах ходьбы от речки, а и ведро при нем, и стул-скамеечка, и ледобур, и сумка для рыбешки, и черпак, чтобы лунки чистить да в собак Митькиных швыряться. В общем, много чего. Однако являлась на Став наш родной фигура, полностью опровергавшая прописные истины зимнего ужения.
Всегда в одно и то же приблизительно время, где-то к часу дня («к обеду», как Семеныч бы сказал), из тростников вышагивал щупленький, низенький старичок. В руках у него никогда не было ничего. На ногах его никогда никто не видел валенок. Никаких калош. Никакого «химдыма». Никаких пешен или ледобуров. И одет был так, точно вышел выбросить мусор. Легкие желтовато-серые штиблеты-ботинки неопределимого фасона, коротенькое пальто на пуговицах, желтая шапка-ушанка, одно ухо которой обязательно было спущено, а другое непонятным образом держалось поднятым.
– Здоровеньки булы! – приветствовал он обычно ставскую братию.
– И тебе не хворать, – бурчал себе под нос Семеныч. – Уже домой идти надо, мы уж тут портки просидели, на баб поглядели, сворачиваться пора, а он только прется.
Старичок не спеша подходил к каждому рыболову, здоровался, перебрасывался парой слов. Типа:
– Не берет?
– Да с самого утра, с темна еще пяток взял, а потом как отрезало.
– Это она солнышка ждет, сейчас разогреет, и она проснется.
– Да ночь уж вот настанет, како солнышко? – негодовал Семеныч.
И было отчего негодовать. Странный рыболов почти всегда перелавливал всех тружеников Става. Они ловили с темна, мерзли, просыпались, когда полоска февральского неверного света только лишь мерещится в небе, и тащились на лед, к заветным своим луночкам, а с собой тащили ведра, прикормку, стулья, пешни…
А наш герой не тащил ничего. И просыпался не раньше десяти. И приходил на ловлю к обеденному времени. Как же он ловил? Чем? На что? Это отдельная песня.
Сначала щупленький старичок запускал руку в карман своего коротенького и какого-то ветховатого для зимы пальто. Долго шерудил там пятерней, что-то приборматывал и наконец извлекал оттуда довольно ладную зимнюю удочку с длинной и гибкой подсечкой. Как она умещалась в кармане, как не ломалась? Загадка. Просто тайна. Затем он начинал хаотично передвигаться по Ставу в поисках какой-нибудь старой, чуть примерзшей лунки. Таковых, брошенных, бесклевных и бесперспективных, луночек оказывалось всегда вдоволь. И вот рыболов подходил к ней, примеривался и резким движением ноги пробивал ледяной панцирь. Носки его странных ботинок были чуть заострены и пробивали ледок на раз-два. Он склонялся над вновь рожденной луночкой, ладонью выгребал ледышки, громко крякал – «Эах!» – передергивал плечами и шел дальше, оставив у лунки удочку. Шел он добывать насадку.
Тут пускалась в ход психология. К Семенычу он не подходил, а вот к Володе Седому, мягкому и безотказному, всегда направлялся в первую очередь. Вопрос всегда следовал один и тот же: «Пары мотыля не найдется?» Понимаете, если спросить коробку мотыля – никто не даст. Горстку или щепотку – тоже. Ведь в коробочке и есть-то щепотка. А пары – вроде и не жаль. С другой стороны – как выберешь именно пару мотылей, всегда захватишь со дна мотыльницы больше – хотя бы десяток. Десяток Володя, десяток Яшка, десяток – мы с отцом. И на рыбалку хватит. Так что расчет был вывереннейшим. Рыболов доставал из все того же кармана весьма вместительную мотыльницу, перекладывал туда мотыликов, говорил неизменное: «Спасибо вашим от наших с кисточкой!» – и возвращался к лунке.
За пристрастие к одной и той же одежде, за умение извлекать из куцего пальтеца все необходимое для зимней рыбалки рыболова так и прозвали – Карман.
Карман садился перед лункой на одно колено, под которое подкладывал извлеченный опять же из недр чудесного пальто сложенный в несколько слоев плотный целлофан, и начинал удить. У всех кивки – длинные, из лавсана или из кабаньей щетины, с красненькими клювиками. У Кармана – простой серый ниппель. У всех катушечки быстрые, тоненькая леска наматывается и сматывается в секунду. У Кармана – связанная во многих местах старая клинская леска накручена прямо на комель удочки, и он долго разматывает ее, отмеряя нужную глубину. У всех мормышки самодельные, у Семеныча и вовсе из драгоценного вольфрама. У Кармана – потемневшая, тусклая, как зимние вечерние сумерки, дробинка.
Но вот он как-то весь, всем телом, вздрагивает, подскакивает и начинает быстро отходить от лунки, вываживая рыбу. Попадается ему завидная плотва. Карман улыбается, обнажая пожелтевшие зубы, между нами, редкие и кривые, и бросает плотвицу на снег. Вообще-то в Ставе так делать не принято. (Только Семеныч себе позволяет иногда.) Речка маленькая, узенькая, подбегут, оббурят, все расшугают. Поэтому рыбу вытаскивали незаметно, быстренько перебирая леску руками и отправляя добычу воровским, резким движением под себя, в рыболовный ящик, либо в ведро. А Карману что – вытащил рыбину и лыбится. И папиросу закуривает. Он «Приму» только жаловал. Отец предлагал ему, помню, «Космос», но Карман был верен своим принципам во всем.
Случилось как-то, к Карману подбежала собака с подмороженной лапой, он порылся, порылся в полах пальто и достал оттуда небольшой бутер с колбаской. Половину съел сам, половину отдал псу. У Кармана с морозом были сложные отношения, и если очень уж припекало, то он не выдерживал и быстро сматывал леску: «Пойду греться ухой. И поллитровочкой». Если же мороз позволял, то грелся Карман притоптываньем – все-таки в ботинках на льду не сахар. Его не раз спрашивали, отчего не носит валенок. Но добиться внятного ответа не удавалось. Самое связное, что говорил Карман по этому поводу: «Да ну ее к черту!»
Так, стало быть, выудил плотвицу, присел тем же макаром к луночке, пошевелил тихонечко кивочком-ниппелем – и еще одна добрая рыбка затрепетала вскоре на снегу. За какой-нибудь час Карман вылавливал столько, сколько и не снилось дрожащим над лунками с рассвета. Потом он собирал улов в сумку, являющуюся все из того же пальто, довольно осматривался, щурился на низкое, скользящее по крышам ставских бараков солнышко, говорил: «Спасибо этому дому, пойдем к другому», – и растворялся в камышиных дебрях. Семеныч, бывало, ненавистно провожал его завидущими глазами, бросался к освободившейся уловистой луночке, азартно подсекал – и вынимал со ставского дна окушка-недомерка. Все хохотали: «Слово ты не знаешь заветное, у Кармана другой раз выведай!» «Да нужно мне его слово! – цедил сквозь зубы Семеныч. – Ну ничего, завтра поглядим, к завтраму я тоже дробинок напаяю…»
Зимняя рыбалка, она ведь любит постоянство, это история с продолжением. Сбегать раз-другой на разные места – значит не понимать ничего в подледном лове. Нет, ходить на зимнюю рыбалочку нужно каждый день и лучше всего – на одно и то же место, срастаясь с коллективом единомышленников-единомормышечников. Мы все настолько свыклись с появлением Кармана, который являлся к обеду в Став пять или шесть зим подряд, пропуская редкий денек, что сделалось нам не по себе, когда целую неделю не было его на льду. «Заболел…» – качали головой одни. «Запил…» – сокрушались другие. «Да просто на Волгу стал ходить…» – махали рукой третьи, самые недальновидные и непроницательные. И всем стало почему-то не хватать Кармана, его присказок, его чудесной уловистой удочки и серо-желтого пальто. Как время к полудню, так кто-нибудь из нас нет-нет да и глянет в сторону тростников, где еще виднелась протоптанная штиблетами Кармана тропинка. А он все не появлялся и не появлялся.
Но вот наступил март, и однажды в полдень из тростников вышагнула на лед знакомая фигура.
– Здоровеньки булы!
Карман был побледневший, какой-то осунувшийся, но по-прежнему жизнерадостно улыбался, обнажая кривые редкие зубы.
– Ты где пропадал, мы тебе прогул запишем.
– Старость не радость, – отшучивался Карман. – А пары мотыля не найдется?
И тут все бросились набивать мотыльницу старика мотылями, и даже Семеныч достал щепотку каких-то полузаморенных, меленьких мотылишек: «Как от сердца отрываю, не мотыль – зверь!» И кто-то пробурил ему несколько новеньких луночек и вычерпал из них лед.
– Спасибо вашим от наших с кисточкой! – несколько растерянно благодарил своих нечаянных ставских побратимов Карман.
И Батька мне сказал тогда, помню, что Став, с его людьми, с его домишками-бараками, с его нравами – это тоже кармашек, где прячется от цивилизации и от времени целая Вселенная.
Вова Родник
Какой он, Вова? Да никакой какой-то. Худенький, остроносый, с птичьими глазами, с шелушащейся кожей. Лицо у него бледное, а руки – красные. В «петушке» обычно, в сине-фиолетово-зеленоватой длиннющей курточке, в валенках на высоченной резиновой подкладке, позволяющей обходиться без калош и быстро двигаться. Только вот был Вова на этой стороне Става, а через минуту – уже на той, только вернулся с Волги, а уже собирается на Травянку – мелководный заросший залив, где можно и в безнадежное глухозимье добыть пару кило окуньков. Но чаще Вова на Ставе, рядышком со своим бараком, где ждет его мать. «Домой пора, – так и говорит он обыкновенно, сворачиваясь, – мамка ждет».
Известно о Вове и то, что несколько лет провел он где-то на Сахалине («Вахту трудовую нес, пока вы здесь бездельничали»). А теперь нигде не работает, имея не то справку, не то пенсию по здоровью.
В Ставе вообще собирались люди, нигде не работающие, вольные, но к труду привычные. Тот же Вова. Настанет осень, начнут облетать ставские березки и шуметь-поскрипывать на ветру осокори, отправляется он на сезонные работы. Например, едет среди прочих за яблоками, на специально подогнанном к Мостотряду автобусе. «Девять ведер сберу, а десятое мне, – радуется Вова, – так за день пяток ведер и наберется, мамке на варенье, или просто в солому бросим – до весны хватит. Яблоки-то поздних сортов – Северный сенат». Он так и говорил всегда – Северный сенат, вместо «синапа», переиначивая название сорта на какой-то особенный благородный манер. Вова говорит по-своему, нелогично. О перволедке скажет: «Лед замерзает». О последнем льду: «Вода тает». Иногда отец, чтобы поддержать разговор, обратится и к Вове, и к декабрьскому закату одновременно (да и кто их различит-то?):
– Вечер мягкий, завтра сорожка брать должна.
– Утро покажет, – отрезает загадочно Вова.
Так про Вовины труды я продолжу. Когда с полей уберут картошку, свеклу, капусту, Вова, похожий на ворону, летит в поля с рюкзачком за плечами, ведь и картошечка остается в земле, и капустка. Немного, но есть. Эти действия не очень-то одобрялись полевой охраной, но случались дни, когда никого нет в поле, и тут-то Вова трудился весь недлинный, серенько-сумрачный октябрьский или уж ноябрьский денечек. По краешку лукового поля мог пройтись и нашелушить себе полные карманы светящихся осенним светом луковиц. На бахчу заглянуть с тележкой – нет ли безнадзорных или отбракованных, «зряплатных», как Вова выражался, арбузиков-дынек? А коли дождик пройдется по здешним посадкам-перелескам, то первым мчит на велике в ближний лесок – «за шпионами», за «березовиками».
«Я мытарь, – говорил он о себе с достоинством. – Осенний мыт самый урожайный».
Мы с отцом позже тоже начали называть мытарями и лесных, и полевых, и речных людей. И сами, если подумать, были отчасти из этой, мытарской, породы вольных скитальцев – сборщиков податей водных. Для людей Става, я думаю, мытарство было философией, каждодневной реальностью, способом жизни. Мытарей по призванию больше, чем принято думать. Я знал человека, например, лесного мытаря, который каждый день ездил из города в лес, чтобы собирать паутину, и готовил из нее лекарство, заживляющее самые глубокие порезы. Да, мытарство, распространенное на периферии жизни, на ее обочине, на кромке ее полей и на ее берегах, врачевало жизнь, заполняло смыслом ее пустоты…
…Ну а весной, в путину, в икромет, когда подходит к дамбовой Стенке самая разная рыба отбивать икру, Вова превращается в промысловика-рыбника. В мытаря Волги. Идешь, бывало, мимо его барака с ловли, несешь домой пойманных на удочку десяток плотвиц, а Вова сидит себе посреди дворика (в приоткрытую калитку видать) и, доставая из мешка здоровенных рыбин, чистит, потрошит, разделывает их острющим ножичком. Руки у него становятся еще более красными, «рачьими» после нерестовой сетевой вахты и шершавее обычного, потому что исколоты они окуневыми и судачьими колючками, карасиными плавниками-лучами. Под ногтями у Вовы в эту пору – тина и чешуя. А во дворе чешуя перемешана с лепестками абрикосов. И сразу не разберешь – где лепесток, где чешуина. Издалека пахнет водой, сыростью, рыбным свежаком. Рядом с Вовой обязательно трутся три-четыре кота, поедающих рыбные потроха или пересортицу-мелочевку.
Взгляд у Вовы плывущий, уставший – ловля-то браконьерская ночами идет, днем и попасться можно. А принцип ловли простой: привязывается к палке на бельевой леске косынка крупноячеистая (это сеточка такая квадратная или, чаще, треугольная, почему и косынкой зовется), огружается снизу свинцовой плашкой, опускается с высокой Стенки (участок дамбы, под которым очень глубоко и течняк, бырь) в воду и волочится метров двадцать-тридцать по дну. Промышляющий таким образом рыбу словно бы удерживает на своих плечах реку, идя всегда против могучего майского течения. Затем косынка, набитая донными корягами, плавнями и всевозможной рыбой, поднимается на верх Стенки, освобождается от рыбы и сора и снова пускается в дело. И снова тянет мытарь-рыбак груз реки на своих плечах. Килограммов сорок-пятьдесят за ночь – это в половодье норма, а сама путина длится не больше недели.
Вова часто рассказывал, как вместе с другими тянульщиками-косыночниками ныкался от рыбнадзора. Подплывает, грохоча и угрожающе фыркая, рыбнадзоровская моторка, а мешки с рыбой мужики уж попрятали – рядом горы намытого земснарядом песку, так прямо в песок и зарыли. Найдешь ли в темноте? А сами быстренько спиннинги достают – у нас, мол, закидушки, сторожим судачка, вот, по два-три бершика поймали и тому рады, хоть бы на ушицу наскрести. Рыбнадзор матюкнется да и отплывет куда-то в темноту ни с чем, браконьеры тогда – снова за свое. Вот еще почему так тяжело было обрабатывать Вове улов – приходилось промывать рыбу от песка.
Но мне лично Вова запомнился именно по Ставу и именно по зимней ловле. Да, и на Травянку он гонял, и к Пономаревским островам, и в Баранниково даже, что километрах в десяти от Мостотряда, и все-таки чаще всего появлялся Вова в ставском зимнем мире.
Сидел он всегда на ведре, носил с собой тонкую, но очень острую пешенку, которой открывал старые лунки даже после сильных ночных морозов. Еще у него был привезенный с Сахалина термос, которым он очень гордился. Да, удочка у него была интересная – с длинным-длинным самодельным кивком. Само удилище – короче ладони, и подсечка коротенькая, а кивок – в три раза длиннее. Вова высоко поднимает руку, почти вертикально, и кивок начинает работать, оживает, плавно колышется. И когда окунь щелкает в кивок, Вова поднимает руку с удилищем еще выше, перехватывает леску, привстает с ведерка и отправляет туда пойманную добычу. «Хорошо, – говорит он себе под нос, – мамка уху сегодня сварит».
Любимым местом Вовы был на Ставу родник. Среди береговых непролазных кустов и тростников, под самым бережком пульсировала всю зиму, в любые морозы, темная водная жилка. А в оттепель или к весне она становилась смелее, лед вокруг делался хрупким, и наконец ледяной панцирь протачивала живая вода, образуя круглое озерцо. В марте оно уж никогда не замерзало, становясь ото дня ко дню на пару сантиметров шире. И легкий (легче Кармана) Вова со своим ведерком подходил, простукивая дорожку пешенкой, почти к самой кромке открытой воды и двумя-тремя легкими ударами пробивал себе луночку. Рыба, скучающая по солнышку и кислороду, собиралась у родника целыми стайками, и Вова всегда бойко таскал плотву, щурят, окушков, красноперок, посматривая на всех с веселой хитрецой и попивая чаек из своего знаменитого термоса.