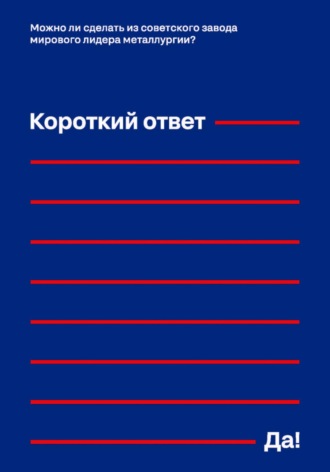
Полная версия
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»
Я могу говорить об этом открыто и подробно, потому что все это было законно. И мое участие в приватизации было продиктовано поставленными передо мной целями, которые я блестяще выполнил, – защитить комбинат от покупки кем-либо сторонним. Я просто хорошо сделал то, что мне поручили.
Приходилось слышать и такое мнение: дескать, Липухин подарил Мордашову завод. Или Мордашов его как-то отжал. Но ведь Липухину ничто не мешало сына, например, поставить во главе «Северсталь-Инвеста». Или дочь, или еще кого-нибудь. Или самому встать. Он же не стал этого делать. И причины две. Вторая причина, я думаю, была в том, что они просто до конца не понимали, как все это сделать. Это сейчас любой студент-экономист понимает, что такое акционерный капитал, а тогда даже руководители крупнейших предприятий в теме не разбирались. Но самая главная, первая, причина была очень простая. Это же 1993 год, всего 2 года российскому капитализму. Все боялись, что вот сейчас эта вольница быстро закончится и те, кто побежал впереди паровоза, в лучшем случае окажутся в тюрьме. Когда моя мама узнала про эту схему, про «Северсталь-Инвест», она сказала: «Алексей, зачем ты в это влез? Они тебя подставят. Тебя посадят». Наши мамы были из того же поколения, что и директора. Они боялись, что за это дело потом по голове настучат. Вот и решили бросить кого-нибудь, кого не жалко. А потом, когда уже стало понятно, что рыночная экономика – это надолго, а владелец акций – это владелец предприятия и что он всем командует, да еще и получает доход, да еще и предприятие я начал вытягивать, – тут уже началась совсем другая история.
Нужно еще понимать, что за актив мне достался. Рентабельность Череповецкого металлургического комбината, когда я его возглавил, была минус 10 %. Это было глубоко убыточное предприятие с целым шлейфом самых разных проблем. Того ЧерМК, который был приватизирован государством, сейчас не существует, его больше нет. Если посмотреть на нынешний комбинат и все наши ГОКи – это принципиально другие предприятия, имеющие очень мало общего с тем, что было там 30 лет назад.
За это время они прошли глубочайшую реконструкцию, перевооружение, изменение всей системы управления, мотивации, развития – все у нас изменилось кардинально. Поэтому, когда сейчас я слышу иногда, что вот такой жирный лакомый кусок достался какому-то, так сказать, раздолбаю… Ребята, те заводы и фабрики, большие и маленькие, которые действительно достались раздолбаям, уже давно распилены на металл. А нашей команде пришлось очень-очень попотеть, чтобы получился тот «лакомый кусок», которым предприятие теперь действительно является.
Приватизацию не я придумал. Это было общее решение. Все тогда были от него в восторге. Можно было пойти по какому-то иному пути? Наверное. Но пошли по этому. И важно же, что в итоге. А в итоге – колоссальный рост уровня жизни. По сравнению с той обстановкой, которая была в начале 90-х, жизнь россиян сегодня можно без всяких натяжек назвать процветанием. Изобилием, которого еще никогда не было в истории страны. Оно откуда пришло-то? А вот от таких предпринимателей, как мы, и пришло. От тех, кто не побоялся взять на себя риск, кто умел вовремя учиться, кто искал и находил лучших в отрасли людей и выращивал своих. Кто в конечном счете и раскрутил экономику.
Я очень много раз приводил в пример восточную поговорку: когда караван разворачивается, последний верблюд становится первым. Когда развернулся весь советский караван, то я, последний верблюд в советском караване, оказался автоматически первым. И в ситуации, когда система развалилась, получилось, что я, незашоренный, молодой, энергичный и хоть чему-то где-то учившийся, оказался в нужное время в нужном месте. Был очень активен и наивен одновременно. И мне очень повезло. Что никто не добрался до меня и до нас. Что Липухин переоценил себя, недооценил меня. При этом я хочу сказать, что он хороший руководитель и человек. В старой системе координат, наверное, Юрий Викторович был одним из лучших красных директоров. Мы всегда держались строго в рамках уважения друг к другу. Наши пути разошлись, и какие-то взаимные обиды остались, но я ему благодарен за опыт и за вот это взаимное уважение. И именно я хоронил Юрия Викторовича в Санкт-Петербурге, когда он в 2011 году умер.
Такова жизнь, и в ее течении каждый видит свое. Кто-то – козни. Кто-то – предназначение. Кто-то – гениальное провидение. Ничего этого в моем случае не было. Это было стечение обстоятельств. Я попал в струю. Я был очень способный энергичный парень. У меня и по сей день высокая, сумасшедшая энергия. Я даже не знаю, почему и откуда она берется и по сей день. Это внутренний огонь. Он всегда меня драйвит. Второе: я достаточно неглупый, судя по всему. И третье. У меня хорошие этические ценности. От базовых «не убий, не укради» до элементарного уважения к людям. Все. И в этом караване я был последним верблюдом. Но караван развернулся, и я оказался первым.
Глава 2
From Russia with steel: закалка Западом
Приватизация и наведение элементарного порядка – победа над откровенным воровством, пьянством и бесхозяйственностью на комбинате – остались позади, девальвация 1998 года принесла первые крупные доходы на экспортных рынках, ЧерМК стал показывать устойчиво положительные финансовые результаты. Появление свободного денежного потока поставило непривычный вопрос – куда вложиться? Выбор, по сути, определял траекторию стратегического развития компании как минимум на ближайшее десятилетие.
Первые решения после завершения фазы выживания были фактически безальтернативными – «Северсталь» выстраивала вертикальную технологическую интеграцию, приобретя контроль в своих «родовых» поставщиках сырья.
В 1999 году был куплен «Карельский окатыш», в 2001-м – Оленегорский ГОК, в 2003-м доведен до контрольного пакет акций «Воркутаугля». А годом ранее в схватке с другими металлургами удалось заполучить контроль над еще одним поставщиком коксующегося угля – компанией «Кузбассуголь». А вот контроль над железорудным Ковдорским ГОКом, закрепленным за ЧерМК в советской плановой матрице, достался группе «Еврохим». Тем не менее фундамент для бесперебойных поставок сырья по стабильно низким внутренним ценам, а значит, для сквозного управления себестоимостью был заложен.
И дальше «Северсталь» оказалась перед стратегической развилкой. По большому счету она выглядела так – развиваться «вовнутрь» или развиваться «вовне». Первый вариант подразумевал масштабную модернизацию основных фондов комбината, фокусировку инвестиций на тотальное технологическое перевооружение предприятия. Второй – быстрое масштабирование контролируемого металлургического бизнеса за счет приобретения действующих и строительства новых профильных активов. Причем, так как к этому времени в России бесхозных либо выставленных на продажу интересных металлургических и смежных (угольных, железорудных) активов уже не осталось, речь шла именно о зарубежной экспансии – покупках и гринфилдах на зарубежных рынках.
Алексей Мордашов со своей командой решили, что это не альтернатива, а две параллельные возможности – международная экспансия шла на фоне обновления основных фондов.
Конечно, нельзя умолчать об ответвлениях от основного сюжета – так, в 2000 году по инициативе директора по продажам «Северстали» Вадима Швецова компания покупает Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы, на базе которых через два года образуется автомобильная дочка группы – компания «Северсталь-Авто». Акционерный контроль над ней в
2007 году переходит лично к Швецову в обмен на миноритарный пакет «Северстали», и в дальнейшем на базе этих активов выросло ПАО «Соллерс» – одна из крупнейших на данный момент автомобилестроительных компаний России. Но все же стратегическое содержание развития «Северстали» в первое десятилетие нового века определил вовсе не этот автомобильный «боковик», а масштабные инвестиции на американский и европейский рынки.
Этого требовал не только «ген глобальности», но и ряд вполне прагматических обстоятельств, которые мы обсудим чуть ниже. Но вот размах зарубежной экспансии, в которую были вложены несколько миллиардов долларов не только собственных, но и заемных ресурсов, был, оглядываясь назад, пожалуй, чересчур амбициозен – эта ставка сыграла бы полностью лишь в случае благоприятного стечения рыночных обстоятельств. Но не будем торопиться с оценками.
Весьма показательной для решения вопроса о том, развиваться «вовнутрь» или «вовне», оказалась поездка в Штаты в конце 90-х годов, в которую отправились Алексей Мордашов и занимавший тогда позицию главного стратега компании Вадим Махов. Технологи с ЧерМК поставили вопрос ребром: требуется срочно выделить 200 млн долларов для реконструкции кислородно-конвертерного цеха. В то время для компании это была совершенно фантастическая сумма, и череповчане полетели на американский завод компании LTV, чтобы ознакомиться с их технологическим уровнем производства. По итогам визита оказалось, что у американцев конвертер еще более старый, чем работавший на тот момент в Череповце, но с поддерживающими капексами и сравнительно скромными инвестициями в оснастку и вспомогательное оборудование агрегат показывает отличные характеристики, и менять его никто не собирается. На обратном пути Вадим Махов, как гласит корпоративный эпос, говорит Алексею Александровичу: «Ну вот, одной поездкой мы с вами сэкономили 200 млн долларов».
Мордашов отреагировал более радикально, заявив коллеге, что в дальнейшем все точки принятия технических и экономических решений в компании будут сверяться с глобальными бенчмарками. Это оказалось принципиальным решением, определившим стратегию развития и образ действия компании «Северсталь» на многие годы вперед – она не бездумно вбухивает средства, а добивается максимально высокой эффективности.
Размер имеет значение
«Чтобы понять мотивы менеджмента компании в решениях о зарубежной экспансии, надо окунуться в контекст металлургической отрасли, в котором она – и наша компания не исключение – тогда находилась, – приглашает к размышлениям Андрей Лаптев, в 2005–2018 годах возглавлявший подразделения „Северстали“ по стратегическому планированию и корпоративной стратегии. – Наша отрасль до самого последнего периода была абсолютно глобальной.
Сталь – суперторгуемый товар, до 40 % этой продукции на пути к потребителю пересекает государственные границы. И самочувствие отрасли в каждой стране, будь то Штаты, Индия, Россия или Таиланд, определялось глобальным, а не национальным балансом спроса и предложения».
Обладатель победоносной лучезарной улыбки и диплома с отличием МГУ по специальности «экономическая география», Лаптев стилем и манерами больше похож на инвестбанкира, чем на металлурга. И то правда: главный бриллиант в послужном спис-ке Андрея – он был одним из ключевых персон компании, готовивших IPO «Северстали» в Лондоне зимой 2006-го. Есть «за поя-
сом» у Лаптева и еще несколько «скальпов» – экономические и бизнес-дипломы, полученные в Англии в начале нулевых годов. Блестящий концептуальный ум, приятно сдобренный вкусом к деталям и мужеством обсуждать неудобные темы, делают Андрея полезным и нетривиальным собеседником.
Первая половина 2000-х годов была отмечена невероятным бумом в глобальной металлургической отрасли. Индустриально-инфраструктурный подъем превращавшегося в сверхдержаву Китая, как пылесос, высасывал сталь по всему миру, разгоняя котировки металла и акций сталелитейных компаний. Потребление прокатной стали в КНР с 2000 по 2003 год удвоилось, достигнув 247 млн тонн, а ввод собственных металлургических мощностей пока отставал. В результате неожиданно мировой рынок стали, еще недавно испытывавший перепроизводство, стал остро дефицитным, и это гнало вверх цены.
На этом фоне развернулся бум слияний и поглощений – как внутри национальных рынков, так и на международной поляне. Причина этих процессов заключалась в том, что уровень консолидации сталелитейной отрасли по сравнению с поставщиками сырья и отраслями-потребителями (прежде всего автопромом) был крайне низок, что затрудняло справедливый раздел прибыли в этом «треугольнике».
Пользуясь своей рыночной властью, автопром перетягивал значительную часть маржи, как одеяло, на себя за счет продавливания своих цен. Уже к середине 2000-х годов на первую пятерку крупнейших автоконцернов приходилось 70 % мировых продаж. Тогда как металлургическая отрасль оставалась более раздробленной. Консолидация мировой металлургии стала неизбежной. И она не заставила себя ждать.
В 2002 году испанская Aceralia, люксембургская Arbed и французская Usinor решили сложить свои усилия в единой компании Arcelor. А еще с конца 1990-х развернулось энергичное масштабирование частного металлургического бизнеса магната индийского происхождения Лакшми Миттала: контролируемая им Mittal Steel совершила серию поглощений по всему миру, включая бывшие советские металлургические гиганты в Кривом Роге и Темиртау. Объемы производства Arcelor и Mittal Steel к 2005 году перевалили за 50 млн тонн стали в год, притом что прежние мировые лидеры производили не более 30 млн тонн.
И «Северсталь» включилась в гонку укрупнения. В фокусе внимания сначала оказался американский рынок – хорошо обеспеченный железорудным и угольным сырьем, обладающий сравнительно дешевой энергией и качественной рабочей силой, и вдобавок стабильным спросом на высокомаржинальную стальную продукцию, прежде всего автомобильный прокат. Первой ласточкой зарубежных приобретений череповчан стала покупка Rouge Steel (впоследствии переименована в Dearborn) в штате Мичиган. В декабре 2003 года россияне выиграли аукцион по продаже обанкротившегося пятого по величине производителя стали в США, выложив за актив 285,5 млн долларов. В феврале 2004 года «Северсталь» закрыла сделку, переведя актив на баланс только что созданной своей стопроцентной дочки Severstal North America. Ценность актива заключалась в наличии долгосрочных контрактов на поставку автомобильного листа ведущим американским производителям, прежде всего Ford Motor Co (долгое время Rouge Steel была дочкой Ford).
«В Штатах был выбран понятный нам завод, поменьше размером, чем ЧерМК, но с близкой нам интегрированной технологией получения металла, с понятными методами снижения издержек и драйверами создания стоимости», – рассуждает Андрей Лаптев. Согласовав с профсоюзами увольнение 500 из 2500 сотрудников и щадящую для собственников схему формирования пенсионных обязательств, внедрив собственные управленческие регламенты и ноу-хау, новые владельцы уже в 2006 году смогли вывести актив из убытков – EBITDA составила 143 млн долларов.
Небольшое лирическо-патриотическое отступление. Новый Свет не вызывал восторженных эмоций у представителей «Северстали». Попав в США, череповчане ностальгировали по родине, даже несмотря на то, что русскоговорящих в Детройте, штат Мичиган, около 70 тысяч человек.
– Приготовить вареную картошку с соленым огурцом здесь не проблема, – рассказывает директор по стратегическому планированию SNA Михаил Смирнов, он провел в Америке несколько месяцев. – Есть даже магазины, в которых можно купить шоколад «Красный Октябрь», детское питание, пряники «Тульские», причем русского производства и порой по более низким ценам, чем в России. Можно спокойно туда зайти за бутылкой «Балтики» и вяленым лещом. Есть даже роскошная библиотека и книжные магазины с большим выбором русских книг. Доступны также некоторые российские телеканалы.
Но все эти «целебные средства» все равно не помогали справиться с ностальгией. От мыслей о Родине отвлекала лишь ежедневная работа с 7.00 до 18.00.
– Люди в Америке, в отличие от европейцев, очень гордятся тем, что они своеобразные hard workers – много времени отдают работе, – рассказывает Михаил. – Но в то же время складывается ощущение, что американцы достаточно узко подходят к делу. Основная часть сотрудников редко задумывается над тем, каким образом можно оптимизировать свою деятельность. Они считают, что для этого существуют специалисты из консалтинговых компаний, и это их хлеб.
Нового владельца такое положение дел не устраивало. Представители «Северстали», изрядно поднаторевшие в серьезных преобразованиях на российском предприятии, заменили сторонних консалтеров (и уже этим сэкономили немалые средства), вовлекая в процесс постоянных улучшений широкие массы сотрудников Severstal North America. Это было непросто. Еще в тридцатые годы прошлого столетия Ильф и Петров в своем очерке «Одноэтажная Америка» заметили: «Средний американец терпеть не может отвлеченных разговоров и не касается далеких от него тем. Его интересует только то, что непосредственно связано с его домом, автомобилем или ближайшими соседями…» Спустя 80 лет «средний американец» ничуть не изменился. В бизнесе, по крайней мере у людей, работающих на заводе в Детройте, эту ментальность М. Смирнов определил следующим образом: «Есть проблема – надо решать. Решили – забыли». Сделать так, чтобы исключить проблему в дальнейшем, – это уже подвиг, на который «средний американец» не способен. По крайней мере без какой-то особой мотивации.
Между тем завод в Детройте производил впечатление компании с высоким потенциалом снижения издержек. «Учитывая, что издержки в данном случае прямым образом воздействуют на прибыль, величина этой прибыли не только зависит от рынка, но и находится в наших руках, – продолжает Михаил Смирнов. – От того, насколько мы снизим эти издержки, зависит размер прибыли».
Мотивацию российские владельцы завода нашли очень быстро – идеи по оптимизации стали поощрять долларом. Первым через преобразования на SNA прошел цех производства горячекатаного проката. Ко всеобщему удивлению, люди с энтузиазмом стали относиться к внедрению улучшений. Оказалось, что сотрудники полны идей и готовы высказывать их, чтобы они были воплощены в жизнь.
Благодаря таким преобразованиям российские металлурги расширили цели своей экспансии. В феврале 2005 года «Северстали» удается сделать крупное приобретение на европейском рынке: за 430 млн евро она покупает 62 % акций частной итальянской сталелитейной компании Lucchini, номер два в стране по объему производства. Ее заводы производили почти 4 млн тонн стальной продукции в год. Финансовое положение итальянской компании оказалось подорвано огромным долгом, который стал неприятным побочным эффектом дорогостоящей модернизации мощностей, проведенной итальянцами. Потребовался стратегический инвестор, и Мордашов сумел предложить лучшие условия, оттеснив конкурентов – Arcelor и австрийскую
Voestalpine.
Впрочем, прямой рыночной синергии с покупаемым активом у «Северстали» не просматривалось – итальянцы специализировались в основном на длинном прокате, прежде всего рельсах – то есть продукции, не знакомой череповчанам ни по технологии производства, ни по системе продаж. Эта покупка, как признавали все аналитики, диктовалась единственным мотивом – масштабированием бизнеса.
Но приобретениями дело не ограничилось. В конце 2005 года «Северсталь» затевает в Америке строительство с нуля суперсовременного электрометаллургического завода мощностью
1,5 млн тонн автомобильного листа в год. Инвестиции в предприятие составили $880 млн (собственных средств было вложено около 200 млн долларов, остальное – заемное финансирование). Меньше чем через два года после начала строительства, в октябре 2007 года, сталелитейный заокеанский гринфилд, завод SeverCorr, был запущен. Локация предприятия – Коламбус, штат Миссисипи – была выбрана неслучайно: это ядро мощного автопромышленного кластера, причем растущего – на тот момент об инвестициях в строительство новых заводов на юге США объявил целый ряд европейских, японских и корейских автопроизводителей. Кроме того, «Северстали» удалось получить долгосрочный контракт, зафиксировавший льготный тариф на электричество.
Мотором проекта и гендиректором нового завода стал Джон Корренти, один из ключевых менеджеров компании Nucor, который вместе с Кеном Айверсоном в 1993 году построили первый мини-завод, заложив основы будущего лидера американской металлургии. Прежде считалось невозможным достичь высокого качества проката на электросталеплавильных предприятиях.
В частности, не удавалось получить тонкий сляб. Но Корренти и Айверсону это удалось сделать.
Собственно, сам Корренти и явился инициатором проекта, «Северсталь» выступила финансовым и бизнес-партнером. «Это была типичная предпринимательская, очень американская история, – вспоминает Андрей Лаптев. – Заброшенный угол штата, который власти готовы были оживить серьезными льготами для крупного инвестора, плюс прямые контракты с крупными автомобильными компаниями – покупателями продукции, плюс гибкая, сравнительно дешевая технология получения металла из лома в электропечах».
«Мы верим в силу американской экономики и имеем самые серьезные намерения в отношении американского рынка. Регионы, на которые мы ориентируемся, характеризуются высокой концентрацией потребителей, предъявляющих спрос на нашу специализированную стальную продукцию», – заявил Алексей Мордашов на открытии SeverCorr.
Первая волна зарубежной экспансии оказалась воодушевляющей. К концу 2005 года «Северсталь» заняла двенадцатое место в мире по объему продукции (17 млн тонн) и шестое – по доходу от операционной деятельности (EBITDA достигла 3,1 млрд долларов). И все равно компания оставалась недостаточно крупной, чтобы чувствовать себя сравнительно защищенной на конкурентном рынке. Требовался дальнейший рост за счет приобретения новых активов.
И тут судьба предоставила Алексею Мордашову с коллегами невероятный случай сорвать джекпот – объединить бизнесы с крупнейшей металлургической компанией Старого Света Arcelor, позволяя последней избежать поглощения со стороны всеядного Лакшми Миттала, основателя и владельца Mittal Steel Company N.V.
Суперприз ушел из рук
В конце января 2006 года крупнейшая на тот момент сталелитейная компания мира, англо-голландская Mittal Steel объявила оферту – официальное предложение акционерам – на выкуп акций Arcelor. К охоте за сладкой добычей Лакшми Миттал подошел основательно, подключив к делу все свои лоббистские и пиарресурсы. На стороне индийца работал пул ведущих инвестиционных банков мира во главе с американским Goldman Sachs.
Высший менеджмент Arcelor был поначалу противником сделки. Председатель правления Ги Долле и председатель Совета директоров люксембургского гиганта Джозеф Кинш выражали настороженность отсутствием у покупателя плана долгосрочного развития бизнеса. Уязвило пожилых руководителей Arcelor и то обстоятельство, что оферту Миттал предъявил напрямую акционерам, никак не советуясь и не согласовывая свои планы с менеджментом.
Против были и профсоюзы – за индийцем прочно закрепилась слава хищника, не ставящего ни в грош интересы рабочих и не церемонившегося с увольнениями. Но среди акционеров Arcelor единства не было. Крупными держателями акций являлись американские инвестфонды, которые были не прочь получить быструю прибыль от ожидаемого роста капитализации бизнеса.
Миттал тем временем увеличивал давление и развернул скупку мелких пакетов акций привлекательного актива. Становилось ясно, что Arcelor не миновать поглощения, если не предпринять нетривиальных решений. Нужен был «белый рыцарь» – так на корпоративном сленге именуется новый партнер, выводящий конфликтные стороны из клинча.
Такую роль готов был сыграть главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Если Миттал собирался получить контрольный пакет Arcelor, то Мордашов соглашался на 32 % объ-
единенной компании и совсем не доминирующие позиции в ее управленческом контуре.
«И шеф, и Вадим Махов давно поддерживали контакты с топ-менеджерами Arcelor. И в общем-то еще до появления интриги с Митталом французы затевали какие-то разговоры о потенциальном альянсе, – погружает в подоплеку событий двадцатилетней давности Андрей Лаптев. – Им нравились низкие издержки Череповца, и они понимали выгоды получения такой базы в России. Нам в свою очередь нужны были премиальный рынок и технологии».
Первоначально французы общались с представителями «Северстали» снисходительно-высокомерно: «Давайте мы купим у вас завод и все сырьевые активы, и вы лично получите кэш, мы вам поможем купить виллы на юге Франции, чтобы вы себя хорошо чувствовали».
Но череповчане не для того десять лет поднимали свои активы из руин, чтобы так просто «уйти на пенсию». Ответ россиян был однозначен – мы при любом раскладе не уходим из бизнеса и готовы только к равноправной кооперации.
Когда перспектива враждебного поглощения со стороны Миттала стала почти неизбежной, топ-менеджеры Arcelor ухватились за «Северсталь» и ее главного акционера как за спасательный круг. Вот как выглядели параметры альтернативной сделки, предложенные акционерам люксембургской компании.

