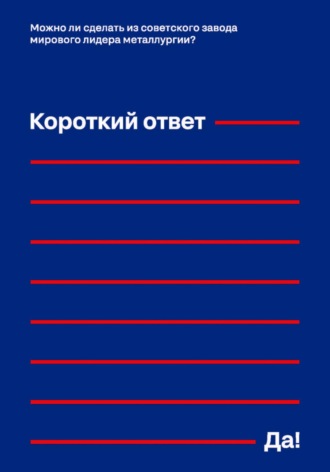
Полная версия
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»
При этом и в 2000-е, и в 2010-е инвестированы серьезные средства в модернизацию производственных мощностей. Реконструированы третья и четвертая домны, в 2024 году дошла очередь капитально ремонтировать пятую: после ремонта обновленный агрегат существенно повысит производительность и экологические характеристики.
Гордость прокатного производства, стан горячей прокатки 2000, хоть и работает на комбинате с 1975 года, в нем трудно найти узлы, которые не прошли многочисленные замены и модернизацию. Уже не говоря о том, что у сегодняшнего агрегата другие «мозги» и управляется он при деятельном участии искусственного интеллекта. А еще в нулевые годы сотни миллионов долларов были инвестированы в оборудование для производства продукции с высокой добавленной стоимостью – технологические линии полимерных покрытий металла и оцинковки холоднокатаного листа, которые и сегодня выглядят как интерьер космического корабля. По сути, сегодняшний ЧерМК с точки зрения оборудования мало общего имеет с советским наследием.
И тем не менее принцип «люди важнее железа» на ЧерМК доминирует. Главным его проповедником является сам Алексей Мордашов. На внутренних встречах он любит цитировать главного мечтателя в истории человечества – писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль».
Этот принцип декларируют многие компании, некоторые не только провозглашают, но и честно пытаются реализовать. Но фишкой «Северстали» является то, что для нее эта максима стала неотъемлемой частью Бизнес-системы. Над корпоративной культурой здесь работали не менее системно, чем над производственными процессами.
Еще в 2010 году, когда цель компании формулировалась как «стать лидерами мировой металлургии по показателю EBITDA», глава «Северстали» назвал две группы критериев, по которым будет измеряться движение вперед: «Первая группа связана с культурой… Вторая – бизнес-цели: доходность, прибыльность, рентабельность».
Говоря о культуре, Мордашов признал, что значимость ее для компании гораздо выше, чем, к примеру, современное оборудование или новые технологии: «Успех или неуспех определяется людьми. Оборудование можно купить. Новые технологии можно освоить. А вот изменить отношение людей к делу – то, что мы называем культурой, – гораздо сложнее… Это называется вовлеченностью, когда каждый работник, прежде всего руководитель, не только сам следует принципам и демонстрирует наши ценности, но и вовлекает в это других».
Алексей Мордашов был последовательным: в этом же 2010 году сменилась почти вся команда руководителей дивизиона «Северсталь Российская сталь» во главе с генеральным директором. В руководство пришли люди, которые, по мнению Алексея Александровича, разделяют ценности, главная из которых – уважение к людям. Чтобы создать настоящую команду единомышленников, на «Северстали» развернули проект «Изменения культуры». Для достижения его целей были определены три практических пути: улучшение социально-бытовых условий, создание прозрачных и понятных процессов управления персоналом (найма, оценки, обучения, продвижения, мотивации) и выстраивание диалога с коллективом. «Уровень информированности работников оставляет желать лучшего, – комментировал результаты корпоративного социального исследования в 2010 году Алексей Мордашов. – Мы намерены пересмотреть и улучшить существующую систему обратной связи».
Одним из нововведений, работавших на эту цель, стало создание единой газеты «Северсталь», которая теперь помогала подразделениям делиться лучшими практиками со всеми предприятиями компании. Это сложно было сделать, издавая отдельные многотиражки. Чтобы сократить расстояние между руководством и коллективами многочисленных активов, появились новые каналы передачи информации о насущных проблемах снизу – через SMS. Ответы руководителей на вопросы сотрудников, в том числе главы компании, начали публиковать в новом печатном органе «Северстали» практически еженедельно.
Результатом всех этих изменений стал феноменальный рост доходности бизнеса «Северстали». Так, к 2017 году маржа EBITDA достигла гроссмейстерской в мировой металлургии отметки 32,8 %. Ни одна металлургическая компания в мире не может похвастаться таким результатом.
Приведем лишь одно красноречивое сопоставление. По итогам 2017 года, если сравнивать с предкризисным 2008-м, маржа по EBITDA выросла почти на треть, с 24 до 32,8 %, притом что физические объемы производства за этот период снизились на 40 % в силу продажи зарубежных активов (11,7 млн тонн против 19,2 млн). Отказ от гонки объемов производства посредством целенаправленных сверхусилий был конвертирован в один из самых высоких в мировой металлургической отрасли показателей рентабельности бизнеса.
Естественно, конкуренты не стоят на месте. На технологическом радаре, в части цифровизации и роботизации металлургического производства, сильно продвинулся Китай. Сегодня эта страна не просто объемный лидер мировой черной металлургии – здесь производится более половины стали планеты, а из 50 крупнейших по физическому объему выпуска сталелитейных компаний мира чуть меньше 30 сегодня китайские, – но и в значительной степени законодатель мод и трендсеттер.
Ну а что касается качества продукции, например, среднего числа дефектов на километр проката, то тут «Северсталь» приблизилась к Олимпу, но господствуют на нем пока японцы и корейцы. Можно ли взять и эту высоту?
Адресовав этот вопрос Якову «Шнитке» Сергиенко, мы получили нетривиальный, отрезвляющий ответ: «Рассуждать об абстрактном качестве не имеет большого смысла. Качество – конкретная категория, определяемая наличным составом оборудования, типом входящего потока сырья и производимого продукта. Электрометаллургический комбинат, работающий на
однородном ломе, некорректно сравнивать с интегрированным комбинатом полного цикла, работающим на железорудном концентрате и коксе. Или есть, скажем, суперинвестированная корейская POSCO, производящая сталь, допустим, чуть лучшего качества, чем ЧерМК, но она существенно менее эффективная как бизнес-актив. Любое качество должно быть экономически оправданным в контексте условий рынка, где эта сталь будет потребляться. Можно расшибиться и начать делать металл по качеству лучше POSCO, но этот металл будет „золотым“ и его в России никто не купит».
Устать сложнее, чем не устать
К концу прошлого десятилетия стало ясно, что догоняющая мировые бенчмарки модель развития череповецкой компании исчерпала себя. Во весь рост встала нетривиальная задача генерировать собственные смыслы и ориентиры дальнейшего развития компании. Ядром новой корпоративной стратегии «Северстали», утвержденной в 2018 году, стала клиентоориентированность и человекоцентричность.
Это был своего рода кризис среднего возраста для компании – команде предстояло ответить на вопрос: «Какова она, новая „Северсталь“?» После долгих обсуждений было сформулировано актуальное видение компании: «Северсталь» должна стать лидером металлургии будущего и компанией первого выбора для сотрудников, клиентов и партнеров, работать в которой безопасно и привлекательно».
И видение это питало вовсе не абстрактное человеколюбие, а стальной расчет: не могут люди, которые не чувствуют себя на своих рабочих местах комфортно, уважаемо, обеспеченно и безопасно, давать лучший сервис клиенту.
История разработки новой стратегии компании стартовала в 2017 году. Одним из ее главных генераторов и проводников стал нынешний генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Собственно, его назначение на высший исполнительный пост в компании и стало следствием выбора главным акционером концепции перемен.
Уроженец вологодской деревни Коротово, по первому образованию инженер-механик, Александр Шевелев на первый взгляд совсем не похож на топ-менеджера индустриального гиганта. Невысокий, худой, подвижный, улыбчивый, с цепким живым взглядом, он больше напоминает научного сотрудника средних лет, очень увлеченного темой своего исследования. Впрочем, есть в нем что-то и явно инженерное, прогрессивное и одновременно про людей, и эта рабочая инженерная косточка, полное отсутствие любого позерства и пафоса сильно подкупают и резко повышают эффективность коммуникации.
Начав трудовую карьеру в 1997 году, Шевелев за пятнадцать лет прошел все ступеньки рабочей лестницы от слесаря-ремонтника до исполнительного директора Череповецкого сталепрокатного завода (в 2004 году завод в качестве подразделения «Северсталь-метиз» вошел под зонтик большой «Северстали»). В 2012 году на полтора года он ушел во власть – работал заместителем мэра Череповца и целым вице-губернатором области, затем вернулся на пост гендиректора «Метиза», а потом еще полгода успел поруководить деревообрабатывающим бизнесом Мордашова, холдингом «Свеза», который является крупнейшим в мире производителем березовой фанеры.
«На момент моего прихода в „Северсталь“ ее стратегия была сфокусирована в основном на одном направлении – снижение издержек, повышение операционной эффективности, где компания была явным лидером, – вспоминает Александр Шевелев. – У „Метиза“ была другая стратегия – выстраивание специализированных продуктовых направлений, уход в ниши, сопровождение клиента после продажи. И этот подход давал хороший результат. В большой „Северстали“ также уже был накоплен огромный опыт по работе со сложными продуктами и требовательными клиентами, поэтому мы с командой предложили главному акционеру пересмотреть стратегию дальнейшего развития предприятия: не теряя фокуса на операционной эффективности, построить клиентоцентричную компанию с фокусом на решение задач наших покупателей. Компанию, в которой будут работать лучшие таланты в отрасли, способные создавать сложные и высокомаржинальные продукты и решения, обеспечивать высочайший клиентский сервис. И Алексей Александрович нас поддержал, дав мандат нашей команде на реализацию новой стратегии».
Основными ингредиентами стратегического коктейля нового розлива стали четыре приоритета. Первый – по-прежнему операционная эффективность. На этом треке до сих пор есть количественная цель: быть лучше ближайшего конкурента по сквозной себестоимости (с учетом эффекта от продаж железорудного сырья) не менее чем на 15 %.
Второй – формирование превосходного клиентского опыта. Эта непривычная, явно калькированная с английского excellent client experience формулировка значит ровно одно – неслыханный ранее уровень внимания к покупателю. И это не вежливые письма и кофе с печеньками в приемной, а такой большой набор инструментов, что быстро и не расскажешь, – поведаем вам об этом в отдельной главе (см. «Мы продаем не сталь»).
Следующая фишка – новые возможности. Прежде всего это цифровизация, резко меняющая представление об эффективности технологических процессов, и, шире, тестирование различных направлений, способных устроить революцию в металлургии, – тут и венчурные инвестиции в материаловедение (металлопорошки и композиты), водородную энергетику и прочие пионерские изыскания, нащупывающие точки прорыва нынешнего технологического периметра отрасли.
Наконец, это продолжение совершенствования корпоративной культуры компании.
«Сколько же можно ее совершенствовать? – удивились мы. – Разве в компании уже не все в порядке с коллективом? Уважение, человечность, взаимопомощь процветают, никто не злоупотребляет крепкими жидкостями и даже матом не ругается».
«Нам по-прежнему не хватает вовлеченности сотрудников, а значит, креативности и готовности раскрывать свои таланты, – урезонил нас Шевелев. – Мы исходим из того, что любая технология, любое оборудование, любой продукт могут быть скопированы. Не может быть скопировано только одно – это отношение людей к своей работе, своим коллегам, своей компании, своему продукту и своему клиенту. Это и должно стать и станет нашим конкурентным преимуществом».
Алексей Мордашов:
«Я человек, который очень быстро передвигается в пространстве»
– Я был очень талантливым студентом. Круглый отличник. Ленинский стипендиат. Я прогуливал две трети учебного плана – занимался наукой, сидел в библиотеке, ходил в публичку, много читал. И получал только пятерки. Такой у меня был внутренний непонятный драйв, который всегда помогал мне двигаться вперед. И порой мешал потом в отношениях с людьми. Но меня мало это пугало. И так до сих пор.
Я шел первым по распределению. Из предложенных вариантов работы мог выбрать любую. Меня оставляли на кафедре, но мне хотелось на производство, в настоящую жизнь. Решил ехать домой. В Петербурге ждало общежитие, перспектив получения жилья нет. А в Череповце жили родители. Они очень помогли мне тогда, царствие им небесное.
Естественно, пошел работать на комбинат, куда же еще? На самое большое, самое значимое предприятие. Я учился на инженера-экономиста в машиностроении. А что такое машиностроение на комбинате? Ремонтная служба. Я пришел к начальнику ремонтного механического цеха № 1 Каморину. Он говорит: «Слушай, у нас экономисту 74 года. Она, конечно, свои таблицы еще рисует, но уже как-то надо, наверное, двигать ее на пенсию. Давай, ты год с этой дамой поработаешь, а потом ее заменишь».
Меня сразу заметили как человека, который очень быстро перемещается в пространстве. Когда мне нужно было попасть в какую-нибудь из комнат, я бегал. Не ходил, а бегал. Мне нужно было быстрее. Я бежал по коридору. И это многим выносило мозг. Все привыкли, что экономист – это такая серьезная тетя. От нее зависит, план выполнен или не выполнен. А тут пришел парень, который бегает. Шок.
Конец 80-х, перестройка, эксперименты тогда были в моде. Я хотел перевести свой цех с учета по нормо-часам, которые были неправильные и затратные, на цены внутренние, адекватные. Чтобы их установить, нужно было обработать много данных. Я договорился с айтишниками. Да, тогда уже существовали айтишники. Система 10.36 с перфокартами. Ночами их набивал. Принес это все начальнику цеха – вот такими формулами можно цены определять. И нам поменяли систему подсчета результатов: с нормо-часов на условные тонны. Так правильно все нарисовал, что мы в итоге хорошо выполнили план. Нам причиталась большая премия. И все сказали, что это правильная система. А этот парень – хороший специалист.
Где-то в середине 1990 года вызывают меня в кадры. Говорят: дело такое, Алексей, есть идея отправить тебя на стажировку в Австрию. Советский Союз тогда лихорадочно пытался искать какие-то пути реформирования своей неэффективной системы. Было понятно, что все движется в сторону рыночной экономики. У нас ее нет, а на Западе есть. Надо ее изучать. И Министерство черной металлургии решило отправить группу из пяти перспективных менеджеров с заводов на стажировку в Австрию. Вышла разнарядка: один человек с Орловского сталепрокатного, один с Первоуральского новотрубного, еще один с ЧерМК, а Новолипецкому комбинату достались две «путевки»: одну дали реальному специалисту, а вторую – сыну министра металлургии СССР Серафима Колпакова. Много слухов по этому поводу потом слышал – почему именно меня отправили от ЧерМК? А ларчик открывался просто – нужны были мужчины не старше 30 лет с экономическим образованием и с хотя бы базовым знанием немецкого. У нас в экономическом отделе было всего пять мужчин, двое из них – до 30, и только я один изучал немецкий в школе. Вот и все.
Еще одна история, которую журналисты любят додумывать, – конфликт, который случился у нас с тем самым сыном министра. Мы приехали, я с горящими глазами – давайте тут все изучать, набираться знаний. А он никуда не торопится – чего ты лезешь? Он предпочитал изучать европейские развлечения, а не производственные процессы… И все кончилось тем, что он нажаловался папе и меня со стажировки отозвали дней на десять раньше, да еще и с черной меткой. Уже потом мне Липухин (директор ЧерМК) рассказывал: министр ему звонил лично и ругался. Но моей карьере это, наоборот, помогло. Юрий Викторович и сам с министерством конфликтовал постоянно. А супруга его, Раиса Ивановна, была начальником отдела обучения ЧерМК и реально рулила кадрами она, а не директор по кадрам. Раиса Ивановна решила, что я крутой парень: не только показал себя на работе, но еще и с министерством заелся. Женщина она была энергичная, боевая. А тут как раз замначальника планового отдела Валентина Васильевна Чистякова отказалась занимать место уходящего на пенсию начальника по семейным обстоятельствам: у нее мама тяжело заболела.
Так я стал замначальника планового отдела 18 декабря 1991 года в 25 лет. Все были в шоке от того, насколько молод и зелен новоиспеченный замначальника, в том числе сам Юрий Викторович, который не поверил своим глазам, когда увидел воочию, какого юнца назначил на ответственную должность по совету жены. Да и для меня такое назначение было огромным сюрпризом – был уверен поначалу, что вышла какая-то ошибка. А Валентина Васильевна на прощание устроила мне боевое крещение: отправила месяца на три-четыре по цехам комбината. Это один из самых интересных и полезных периодов моей работы, мне было безумно важно на каждом участке докопаться до сути, а в итоге я получил огромный задел на всю оставшуюся жизнь. Я в значительной степени разобрался в производстве. И потом, когда мы разбирали производственные темы, уже очень неплохо во всем ориентировался.
Крах Советского Союза я встретил уже в должности заместителя начальника планового отдела. А 18 декабря 1992 года меня назначили финансовым директором. В самый, так сказать, интересный исторический момент. Интересней не придумаешь.
Это была прямо какая-то новая реальность. Как будто тебя с Земли на Марс перенесли. Как будто сила тяжести уменьшилась в два раза. Сейчас в это трудно поверить, но в советской системе счетами предприятий в банках управляли не сами предприятия, а банки. И вдруг в одночасье появилось то, что теперь мы называем корпоративной финансовой системой. Еще вчера деньги у предприятий как бы были всегда, а теперь нужно платить только из тех средств, которые есть на счете. Еще вчера заводы и фабрики обеспечивало оборудованием и сырьем государство, поставки производились по разнарядкам Госснаба, оплата была неважна и никак не влияла на поставку, а сегодня нужно все покупать за реальные деньги. Самим проставлять акцепты, самим давать
команды банку на платежи. Я помню: заходишь в финансовый отдел, там три девочки, три стола, а полкомнаты занимает гора счетов. Они не справлялись. У меня был знакомый. Будучи владельцем небольшого ремонтного предприятия, он приходил к девочкам с коробкой конфет, находил в стопке бумаг свои счета, клал сверху коробки на стол. И тогда платеж вне очереди обрабатывался.
Все и везде уже было в тотальном дефиците, и прежде всего – деньги. Когда сегодня мы слышим, что пришли какие-то реформаторы, взяли и развалили замечательную страну, – тут даже спорить бессмысленно. Так говорят либо те, кто в те времена еще не достиг сознательного возраста, либо те, у кого очень плохая память. Когда Егор Гайдар стал заместителем председателя правительства РФ, золотовалютные остатки России насчитывали 60 миллионов долларов. Это был тотальный экономический коллапс. Огромный внешний государственный долг. Главная тема новостей – даст МВФ кредит или не даст. Если даст, заплатят пенсию. Не даст – не заплатят.
О производительности труда в позднем СССР говорили без умолку, но на деле желание работать уничтожалось десятилетиями. Зачем прыгать выше головы, если все получали более-
менее сходную зарплату. Система принятия решений в стране тоже была парализована огромным бюрократическим аппаратом. К середине 80-х все это по совокупности стало запретительным барьером даже не для развития, а для элементарного функционирования экономики. Да и простому народу система в конец осточертела, люди устали от дефицита, устали от бюрократии и отсутствия мотивации куда-то двигаться. Только частная инициатива была способна понять спрос, реагировать на него, брать на себя риск, действовать. Очевидно, что без коренного демонтажа системы, без развития рыночных отношений, без появления частной собственности было невозможно спасти страну.
О том, как именно проходила в России приватизация, уже написаны десятки отдельных книг. Чековые фонды, залоговые аукционы, рейдерские захваты, криминал – всего этого нам на Череповецком металлургическом удалось избежать. Мы стали частным предприятием мирно и в полном соответствии с законодательством. Просто потому, что действовали грамотно и не лезли на рожон. Такая история для тех времен – скорее редкость.
Предприятие акционировалось в сентябре 1993 года. 24 сентября я ездил в мэрию, получал удостоверение о регистрации АО «Северсталь». Название предложил председатель Совета трудового коллектива Андрей Евсеевич Бобров, очень уважаемый в те времена человек. Всем оно тут же понравилось – патриотично звучит, возражений не вызвало.
Акции были распределены среди трудового коллектива – как было положено по закону. Но когда собственниками являются все – это значит, что собственником не является никто. Более того, может прийти кто-нибудь со стороны, скупить акции у сотрудников и захватить комбинат, выжать из него последние соки и испариться. В те времена это была главная угроза для любого серьезного предприятия, и нередко она реализовывалась, и все искали способы от нее защититься.
Чтобы ее избежать, 12 августа 1993 года решением все того же Совета трудового коллектива создается компания «Северсталь-Инвест», в которой 76 % принадлежит Мордашову Алексею Александровичу и 24 % – Череповецкому металлургическому комбинату – «Северстали».
Решение это было продиктовано тем, что в приватизации тогда по закону могли участвовать только физлица и юрлица с долей участия государства не более 25 %. А «Северсталь», очевидно, на тот момент была государственная. «Северсталь-Инвест» в дальнейшем стал основным накопителем денег для скупки акций самого предприятия. Происходило это так. Мы («Северсталь-Инвест») покупали металл у «Северстали». Важно подчеркнуть – покупали по тем же самым ценам, что и все, но просто с отсрочкой оплаты месяца на два (хотя и для внешних контрагентов такие отсрочки в те времена не были редкостью). За это время металл успевали реализовать, в том числе и по бартеру, который в то время на фоне всеобщих неплатежей расцвел пышным цветом. Очень много продукции мы отправляли, например, автозаводам в обмен на автомобили, которые потом продавали за живые деньги. А на вырученные деньги скупали акции, аккумулируя их в «Северсталь-Инвест».
Я слышал критику, что, дескать, на эти деньги, которые мы тогда получали от продажи металла, надо было не акции скупать, а пускать их на зарплату людям. Отвечаю. Зарплату людям платили. Она была рыночной, иначе кто бы у нас остался работать. В то время была задержка, где-то два месяца. Но это была очень небольшая задержка на фоне того, что происходило тогда в стране. В Воркуте, когда она еще не была под руководством «Северстали», люди ждали зарплату по шесть месяцев. Так что наши задержки были связаны не с нашей деятельностью, а с тем, что в стране царил кризис неплатежей везде и всюду. И потом: то, что мы ворочали огромными деньгами, которые коренным образом могли бы изменить ситуацию на предприятии, – это просто миф. Прежде всего потому, что огромные деньги тогда просто были не нужны, чтобы выкупить комбинат, который целиком стоил тогда что-то около 66 млн долларов. Сегодня компания, несмотря на дорогой доллар и санкции, стоит почти 12 млрд долларов, потому что это абсолютно другая компания.
Так вот, затем 51 % акций компании «Северсталь» был выставлен на торги в соответствии с законодательством. Работники комбината любого уровня могли подписаться, но не более определенной суммы. Даже пенсионеры. И многие подписывались, а потом выкупали. Именно поэтому сегодня каждый десятый житель Череповца и Череповецкого района – акционер «Северстали». Но далеко не все понимали тогда значимость этих ценных бумаг, хотя мы агитировали, ходили по цехам, всех уговаривали, рассказывали, что защищаемся от враждебного поглощения. Начальники это осознавали, поэтому все подписались на максимальную сумму. Платить можно было ваучерами и кэшем. Цена была по закрытой подписке по номиналу – сущие копейки, как того и требовал закон. А на открытом рынке акция «Северстали» тогда стоила 3 доллара. В итоге 48 % компании было выкуплено членами трудового коллектива. Остальные 3 % впоследствии были выставлены на торги. На чековом аукционе в апреле 1994 года консолидация акций комбината «Северсталь-Инвестом» была продолжена: компания приобрела за ваучеры 26,6 % из выставленных на торги 29 % АО «Северсталь».

