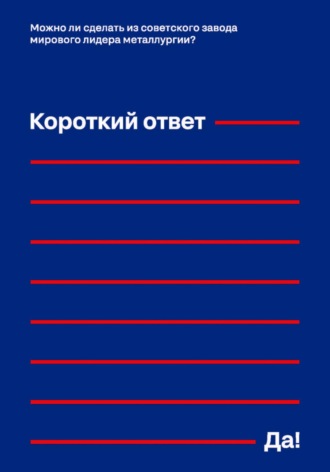
Полная версия
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»

Дмитрий Соколов-Митрич, Ирина Догадина, Борис Челноков, Александр Ивантер, Александр Рохлин, Евгения Пищикова
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии?
Короткий ответ – «Да!»
2-е издание
Череповец
ИД «Череповецъ»
2025
Авторы: Соколов-Митрич Д. В., Рохлин А. Л., Пищикова Е. В., Ивантер А. Е., Догадина И. А., Челноков Б. В.
Авторы идеи: Гусева Л. А., Мишанина А. Ю.
Сотни книг написаны про ударные советские предприятия и человека труда. Тысячи книг рассказывают про «успешный успех» звездных компаний и предпринимателей. Мы не претендуем ни на то, ни на другое. «Короткий ответ – „Да!“» – это одна из немногих историй, которые произошли в уникальную эпоху и едва ли когда-нибудь еще повторятся.
Как мощный гигант советской металлургии не растерялся в совершенно новой для себя реальности, искал и обрел себя в рыночных условиях, и не просто выжил, а всего за 15 лет стал самой эффективной металлургической компанией в мире. Но вот секрет успеха от компании «Северсталь» универсален: достигать выдающихся результатов на фоне любых тектонических сдвигов, будь то смена формации, глобальные кризисы или санкционные удары, можно только с опорой на самый мощный источник энергии – на человека. Высвободить его энергию, вдохновить, заинтересовать, научить, дать возможность действовать…
Эта книга – про изменения и про людей, которые способны создавать перемены и управлять ими. Историю предприятия рассказывают сами участники этих уникальных событий, в том числе ее главный герой – глава «Северстали» Алексей Мордашов. Для кого эта книга? Только для сотрудников компании и соседей по отрасли? Короткий ответ: нет. Для широкой аудитории, для тех, кто хочет на своем предпринимательском, а может быть, и личном пути обрести ту самую движущую силу? Короткий ответ: да!
ISBN 978-5-94022-241-5
© ПАО «Северсталь», 2025, с изменениями
Предисловие
Приступая к предисловию этой книги, мы вдруг поняли, что какое-то важное понимание стиля жизни Череповецкого металлургического комбината мы взяли с потолка. С потолка городского кинотеатра «Комсомолец», который был открыт в 1957 году. Здание запроектировано было с привычной пышностью общественных пространств сталинского ампира: напольная мозаика, дубовые двери, люстры, расписной потолок. Кто традиционно плавает в облаках на такого рода живописных плафонах? Нимфы, музы и другие симпатичные обитатели полубожественных пространств. На советском потолке, разумеется, планировалось разместить образы советских девушек. Кого-то из пантеона кинобогинь?
Первые зрители были уверены, что художники – а расписывали потолок московские монументалисты Николай Ильин и Лев Веркман – изобразили актрис. Реальных или воображаемых. А молодые живописцы взяли моделями череповчанок – двух девушек-штукатуров, которые рядом с ними ровняли стены.
Главная нимфа, Ольга Васильевна Шукалова, говорит: «Хотели было ехать за натурщицами в Москву, но мы им приглянулись. И вот мы с мастерками трудимся, а они делают наброски. После смены надевали красивые платья и уже специально позировали. А ведь у меня тогда уже было двое детей».
И Ольга Васильевна стала в городе известной персоной – ее узнавали на улицах, здоровались. Потому что она плавала в небе перед каждым киносеансом, являя собой локальный случай обожествления маляра-штукатура.
К чему это лирическое отступление? К тому, что Череповец – город, в котором реально получилось создать особое отношение к людям труда. Остров Че. Здесь в кинотеатре или ресторане посетители могли встать, если в зал входили знаменитые сталевары или доменщики – особенно в те годы, когда те уже начали получать золотые звезды Героев Социалистического Труда.
Далеко не на всей территории Советского Союза такого рода отношение к рабочему статусу было искренним – чаще всего оно носило формальный характер, проходило по ведомству идео-
логического величания. А в Череповце стало реальной частью городского характера.
Комбинат Череповцу поначалу давался непросто. Строительство крупного завода для снабжения Северо-Запада России собственным металлом стало возможным после открытия в 1930–
1933 годах кольских железных руд и печорских углей. Но суровые климатические условия делали нецелесообразным строительство комбината в непосредственной близости от залежей руды и угля. В июне 1940-го постановлением Совнаркома СССР было решено расположить предприятие около Череповца – на перекрестке потоков руды, угля и готовой продукции, в месте пересечения железнодорожной линии Вологда – Ленинград с Мариинской водной системой. Несмотря на всю логичность этого решения, многие не верили в его успех – никто и никогда не строил предприятия так далеко от ресурсов. А потом была война, которая отсрочила строительство на долгих семь лет… Когда в 1955 году проходил первый выпуск чугуна, директор предприятия Семен Резников говорил: «Основная особенность Череповецкого завода – удаленность и от источников угля, и от источников руды, но, несмотря на это, завод будет рентабельным предприятием, так как на нем предусмотрены самые совершенные технологические процессы, новейшее оборудование и автоматизация».
Самое интересное, что это заклинание первого директора в итоге осуществилось – просто не сразу. Это стало возможным благодаря людям, имена которых навсегда вписаны в историю комбината и города Череповца, их смелым и совершенно инновационным для своего времени решениям. Одним из таких героев стал академик Бардин, который не просто поверил в комбинат, но определил его путь как путь предприятия полного цикла – от кокса до проката.
ЧерМК, который при своем рождении производил самый дорогой чугун в стране, таки прошел свою дорогу до предприятия, которое делает самую низкую по себестоимости сталь в мире.
И комбинат ведь по большому счету ничего и никогда не получал просто так, за красивые домны, не был особенно обласкан подарками свыше – ему приходилось бороться за каждую копейку, за эффективность каждого трудового процесса.
И когда нам повторяли (а в городе любят говорить об этом), что Череповец – уникальное место, потому что все заводы сидят либо на руде, либо на угле, иначе их неэффективно строить, мы поняли, что есть еще один неучтенный фактор, важный ресурс – этот завод сидел и сидит на людях. С череповецким характером.
Мы напомним вам о том, откуда он пошел и как складывался. И познакомим вас с характером и культурой «Северстали» сегодняшней. И если есть понятие селф-мейд – человек, который сам себя сделал, то это предприятие – сообщество, которое само себя сотворило: селф-мейд комьюнити.
Голландский исследователь бизнеса Ари де Гиус считал, что на любую компанию можно смотреть либо как на машину по зарабатыванию денег, либо как на живое существо. Опыт Череповецкого металлургического показывает, что это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие взгляды: только компания-живое-существо и способна быть наиболее эффективной компанией-машиной-по-зарабатыванию-денег.
Подобно тому, как счастлив (а часто – и благополучен) человек, в жизни которого нашелся смысл, так успешна и компания, которая в ежедневной работе опирается на набор незыблемых ценностей. А ценности «Северстали» – это, пожалуй, единственное, что не меняется в этой неугомонной компании уже много лет – они лишь дополняются по мере того, как компания-живое-существо познает себя и мир вокруг.
Ценности «Северстали» невозможно расположить по степени значимости – не будет одного, как карточный домик распадется вся конструкция, но мы позволим себе начать с той, которую чужак не может не заметить невооруженным глазом, проведя в этом коллективе хотя бы один день, – это уважение к людям. Оно проявляется во всем – начиная с того, как подчеркнуто, иногда будто чуть нарочито уважительно общаются друг с другом северсталевцы самых разных статусов и профессий, заканчивая готовностью компании вкладывать в благополучие своих людей и философским отношением к каждому сотруднику как к источнику ценных идей и улучшений.
В основе всего бизнеса компании лежит глубочайшее понимание клиентских потребностей. Металлурги Череповца давно перестали мыслить тоннами проката – они создают возможности для клиента. Здесь принято смотреть на себя глазами потребителя, глубоко анализировать его рынок и бизнес и проактивно предлагать комплексные решения, разработанные специально под конкретную задачу конкретного клиента.
В этой вселенной не боятся принимать решения и брать на себя ответственность за них, быть готовыми меняться и делать свою работу лучше конкурентов каждый день – именно это предполагает ценность «Эффективность и оперативность». Этот подход, в свою очередь, естественным образом перетекает в культуру командной работы. В доменном цехе, как и в управляющей компании, ценят не просто профессионализм, а умение видеть общую цель. Специалисты «Северстали» сформировали уникальную атмосферу доверия, где инициатива каждого становится ресурсом для всех.
Венчает эту систему ценностей безопасность – абсолютный приоритет, не подлежащий компромиссам. «Никакая производственная задача не может быть важнее человеческой жизни» – это не просто корпоративное правило, а глубокое убеждение, пронизывающее все.
Эти принципы воплотились в стратегических приоритетах, ведущих компанию вперед. «Северсталь» планомерно движется к лидерству в безопасности труда и экологии, в качестве жизни сотрудников, в кастомизированных решениях для клиентов, в цифровой трансформации и эффективности производства. Этот баланс технологической и организационной мощи и человечности создал особую формулу успеха, которая позволяет «Северстали» заявлять об амбиции «стать лидером металлургии будущего». Быть может, для неподготовленного читателя все это пока кажется абстрактным набором корпоративных фраз, но наберитесь терпения – с каждой страницей эту теорию будут наполнять реальные истории, голоса и лица людей.
Не исключено, что в итоге окажется, что перед нами еще более нестандартная история, чем та, что нам сейчас видится. Возможно, на комбинате удалось в максимальной степени реализовать тот идеал, который зародился в сознании рабочих коллективов еще во времена перестройки, но потом угас под напором слишком буйных ветров перемен.
Книга состоит из двух частей – исторической и современной.
В английском и ряде романских языков есть несколько глагольных времен: скажем, настоящее продолженное (Present Continuous) и прошлое совершённое (Past Perfect). А в латинском еще есть великолепное название языкового времени: предбудущее (Futurum exactum). Этими несложными языковыми терминами мы решили назвать и две основные части этой книги, а также ее предисловие. Ведь именно об этих эпохах мы и пишем. О совершённом, героическом, незабываемом прошлом, давшем заводу тех людей-гигантов, которые создали это огромное предприятие. О случившемся на переломе эпох и длящемся прямо на наших глазах настоящем, в котором новое поколение управленцев, стоя на плечах их гигантов-предшественников, продолжает их дело по-новому. И так как день сегодняшний нам всем ближе, мы ведь в нем живем и действуем, то начать мы решили именно с событий новейшей истории ЧерМК.
В настоящем продолженном времени, в современной части книги, мы встретимся с топ-менеджерами комбината, будем говорить о его стратегии, идеологии и предбудущем. 7 глав, 7 этапов, 7 вызовов, 7 авторских, если так можно сказать, решений.
В исторической части мы исследуем историю завода и города.
Города обязательно – он ведь еще одна, «запасная», домна Череповецкого металлургического, плавильный котел «Города Ч.», который вырос вокруг комбината и наполнился молодыми людьми со всей страны, приехавшими сюда за лучшей долей и интересной работой. Есть и третья линия в книге – рубрика «Очень прямая речь». В ней вы услышите голоса людей, особенно важных для завода, тех, кому ЧерМК обязан своим благополучием и которые привязаны к нему всей своей жизнью. В новой истории предприятия и компании, ядром которой он является, это, конечно, Алексей Мордашов – бессменный собственник и настоящий капитан этого корабля.
«А что за странное название на обложке? Короткий ответ – „Да!“» – спросит читатель, и по этому вопросу мы сразу опознаем в нем человека со стороны. На ЧерМК все знают, про что эти лаконичные слова. Краткость и точность стали одной из основ корпоративной культуры. Алексей Мордашов, председатель Совета директоров «Северстали», заразил команду своей привычкой отвечать по существу дела. Если есть конкретный вопрос, на него должен быть получен конкретный ответ. Долгие и пространные объяснения – это оправдания. Идеальный набор ответов состоит из трех вариантов: «Короткий ответ: да»; «Короткий ответ: нет»; «Короткий ответ: не знаю». И только после этого – минимум подробностей. Честное слово, в этих словах есть что-то волнующее. Эта книга так и должна называться. Потому что всеми годами своего становления и развития Череповецкий завод самой Вселенной выдал именно такое сообщение: «Ответ: да!».
И последнее, о чем хотелось бы сказать. Много лет мы искали рецепт настоящих гостовских заводских котлет. Такая была у части нашей команды факультативная миссия. Рецепт считался утерянным. Не ищите его в Сети – там обманывают, а в «Книге о вкусной и здоровой пище» действительно есть рецепт того самого времени, пятидесятых годов, но не общепитовский. А хорошие домашние котлеты и котлеты из хорошей рабочей столовой – совсем разные вещи. Не хуже и не лучше – просто разные. Мы думали, этот вкус невосстановим уже. И что же – в одну секунду нам наизусть рассказала его Екатерина Васильевна Смирнова, два десятилетия подряд проработавшая в отделе корпоративного питания ЧерМК. Так что много чего важного сохранено и живет в городе Череповце и на металлургическом комбинате. Путь к которому лежит через душу, разум, сердце и даже… через желудок.
Часть 1. Настоящее продолженное
Глава 1
Всё по бенчмарку, или Как взобраться наверх по спирали собственной ДНК
Череповецкий металлургический раскинул свои владения на 30 квадратных километрах – это без малого четверть городской территории. Город в городе, со своими улицами, транспортом, распорядком жизни, легендами и достопримечательностями. Со своими «городскими сумасшедшими» – в особом, благородном, смысле этого словосочетания. Именно они, люди «Северстали», герои этой книги, ставят себе и другим «невозможные задачи» – и выполняют их. Именно они вдохновляют завод, учат его быть еще смелее и эффективнее.
А завод взбадривает и дисциплинирует город. Шутка ли, на комбинате сегодня работает каждый шестой череповчанин. Если не брать пенсионеров и младенцев, считайте, каждый третий. И когда любуешься с Соборной горки величественной Шексной, в очарование пейзажа невольно вливается гордость – здесь производится сегодня каждая седьмая тонна русской стали.
Еще в XIX веке Череповец, заметный торгово-купеческий хаб в бассейне Верхней Волги, стремительно сбрасывал с себя сонную провинциальность. Сегодня же благодаря металлургическому гиганту непривычное для нерусского уха название прочно укоренилось на промышленной карте мира.
Поверх барьеров
Самоидентификация «Северстали» как глобального игрока – важнейшая часть генетического кода компании. Конечно, неспроста. Объективные предпосылки всемирного статуса лежат на поверхности. Это, во-первых, специфика отрасли, ключевой продукцией которой являются глобально торгуемые товары, прежде всего стальной прокат: еще совсем недавно каждая третья тонна мировой стали потреблялась вне границ страны производства. Это, во-вторых, изначально заложенный масштаб: ЧерМК – один из 14 крупнейших советских металлургических комбинатов полного цикла. Это, наконец, уникальное отличие Череповецкого комбината от конкурентов – близость к экспортным портам.
После распада СССР внутренний спрос на металл сжимался, как шагреневая кожа, – это обстоятельство непреодолимой на тот момент силы стало все сильнее выталкивать продукцию комбината за рубеж. Как и все отечественные сырьевые и первопередельные отрасли, черная металлургия за считаные годы стала – во многом вынужденно – экспортоориентированной: высвободившийся в результате системного кризиса тяжелых отраслей (ВПК, станкостроения, автопрома, инфраструктурного строительства) металл поехал за границу.
Сказался и субъективный фактор – глобальный кругозор главного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, его неукорененность в автократичной советской хозяйственной системе. Нет, он не был диссидентом и нонконформистом. И, родись он лет на 10–15 раньше, возможно, вполне мог найти себя в больших проектах шестидесятых-семидесятых годов. Но к концу восьмидесятых эта система свой век отжила.
«История про то, что жил-был Советский Союз, и, может, там были отдельные недостатки, но в целом была великая страна, где все друг друга любили, где не было всякой грязи, а все с воодушевлением собирались и пели песни и под яркими красными флагами ходили на демонстрации, полные радости, любви и веселья, – это иллюзия, которую могут питать лишь те, кто не жил на закате СССР. Несомненно, в более ранние годы у страны были сильные стороны, но, когда я пришел работать, на КПСС все были злые как собаки, – не скрывал эмоций в интервью для этой книги Алексей Мордашов. – Все попытки создать хоть какие-то стимулы к труду для предприятий и индивидуумов полностью разбились о несовершенство бюрократической системы. Было очевидно, что без ее коренных перемен развиваться невозможно».
Окончив Ленинградский инженерно-экономический институт в 1988 году, Мордашов возвращается в Череповец и устраивается на ЧерМК в плановый отдел. Реалии трещавшей по швам экономической системы позднего социализма Мордашов успел застать, но с первых же шагов на комбинате старался противопоставить им стремление к эффективности – обсчитывал на большой ЭВМ, по ночам загружая программу перфокартами, расчетные внутренние цены на продукцию. Более справедливые, как ему казалось, чем «плясавшие» от затрат нормо-часы.
В институте Алексей был круглым отличником и ленинским стипендиатом. Но брал не усидчивостью и дисциплиной, а любопытством и въедливостью – неинтересным лекциям предпочитал часы самостоятельных мозговых штурмов в библиотеке. Получил инъекцию представлений о рыночном устройстве хозяйства – Мордашова, единственного из студентов, пригласил в свой рыночный кружок в ЛИЭИ преподававший у Алексея Анатолий Чубайс.
«Был в те времена такой клуб „Перестройка“, – рассказывает Алексей Александрович. – Его возглавлял Егор Гайдар в Москве. А филиалом в Петербурге руководил Чубайс, который состоял ассистентом на кафедре. Он был куратором студенческого научного общества, а я был председателем этого общества. Я познакомился с ним, когда мне было 18 лет. А Чубайсу 28. Он проводил лекцию по перспективам экономики. Я пришел на эту лекцию, проявил активность, задавал вопросы. И после выступления он меня подозвал к себе, стал интересоваться моей научной работой. Хотел, чтобы я писал у него диплом, но не сложилось. С тех пор мы целых десять лет не общались – в следующий раз встретил я его уже на очередном правительственном совещании уже в статусе гендиректора „Северстали“».
А в 1990 году, уже как сотрудник ЧерМК, Мордашов угодил по разнарядке в полугодовую стажировку в Австрию. Там произошло событие, которое в другие времена могло бы поставить крест на карьере юного управленца, – конфликт с другим командированным, сыном главы Минчермета, работавшим на НЛМК. Сынок пожаловался папе, министр гневался, досрочно отозвал Мордашова домой и сообщил об инциденте гендиректору ЧерМК Липухину. Но вместо нагоняя Алексей получил от Юрия Викторовича, славившегося своей неуступчивостью и фрондой с министерством, лишь повышение по службе.
Неудивительно, что, сосредоточив сначала акционерную, а затем и управленческую власть на комбинате в своих руках – эта драматическая, за 30 лет сильно обросшая мифами история столь важна, что мы решили подробно изложить ее «от первого лица» (см. «Я человек, который очень быстро перемещается в пространстве»), – Мордашов приступил во второй половине 1990-х к реформированию компании, руководствуясь полученным опытом.
А именно: поставил себе и команде цель создать амбициозного мирового игрока, ориентированного на глобальные бенчмарки – лучшие в отрасли значения ключевых индикаторов производительности, качества продукции, доходности бизнеса. Личные амбиции Алексея Мордашова и его любовь к комбинату (получившего к тому времени новое звучное имя «Северсталь»), который стал первым и, по сути, остается единственным его местом работы, не позволяли довольствоваться меньшим.
Зазеркалье
Ожидания от рыночной экономики у граждан СССР были, мягко говоря, завышенными. Вместо капиталистического рая страна получила обвал всего и вся. Прежняя ненавистная система разрушилась, но на то, чтобы сложилась новая, понадобится еще 10–15 лет очень болезненных перемен. Так что первые годы жизни комбината в рынке сегодня кажутся чем-то нереальным. Да, за тридцать лет пройдено несколько кризисов, каждый из них был неожиданным и по-своему болезненным, но все эти неурядицы меркнут на фоне коллизий начала 90-х годов.
Самым страшным бичом всех производственников в те годы стали неплатежи. «Мы меняли все на все, – вспоминает Алексей Мордашов. – Я попросил потом специально уточнить: за 1993 год мы не получили оплату примерно половины месячного производства. Это больше, чем триста тысяч тонн проката. Сначала финансовым, потом генеральным директором я подписывал акты на списание металла, отгруженного и неоплаченного».
Комбинат, в свою очередь, вынужденно задерживал платежи своим контрагентам – угольщикам, железной дороге. Были задержки в выплатах зарплаты сотрудникам – хотя и не такие жесткие, как на многих других предприятиях страны. Иногда платили натурой. «Решили часть металлопродукции обменивать на товары, – рассказывает Мордашов. – Мужики получили в счет зарплаты мешок махорки. В другой раз был насыпной чай мешками. Помню, мама поливала этим чаем грядки. Считалось, что он чем-то полезен для растений. Это был какой-то дикий кошмар, и продолжался он долго, несколько лет!»
Понятно, что ни о какой модернизации и развитии комбината в те годы не было и речи. Перейдя на рыночные рельсы, предприятие столкнулось с жестокой реальностью: производить в текущих исторических условиях оно способно одни лишь убытки. Руководство и топ-менеджмент ЧерМК изо всех сил старались хотя бы удержать комбинат на плаву, минимально необходимыми ремонтами поддерживать жизнеспособность устаревшего оборудования, кормить трудовой коллектив. Даже в уже относительно стабильном 1997-м зарплату на комбинате платили хоть и деньгами, но не полностью и раз в неделю, по 150, затем по 200 рублей, фактически на уровне прожиточного минимума. Сам Алексей Мордашов вспоминает, как часами висел на телефоне с поставщиками и железнодорожниками, уговаривая их помочь «под честное слово», хотя на обоих концах провода собеседники понимали, что платить по счетам фактически нечем.
Торговые споры и опасные «помогайки»
Не было бы счастья, да несчастье помогло. После кризиса 1998 года, когда страна объявила дефолт, курс рубля рухнул в три раза – это радикально удешевило себестоимость российской стали и сделало ее конкурентоспособным экспортным товаром. Но на внешних рынках «Северсталь» тоже никто не ждал с распростертыми объятиями. «Металлургия исторически в мире является самой уязвимой отраслью для торговых споров, а в конце 1990-х и в 2000-е количество антидемпинговых и компенсационных расследований против российской стали побило все рекорды», – вспоминает Дмитрий Горошков, руководивший в тот период работой компании по торговым спорам.
Негромкая четкая речь, выверенные фразы, отсутствие жестикуляции, неизменная прямая спина и стильные очки – в правильном голливудском кино Дмитрий без дублей сыграл бы роль матерого юрисконсульта. Тем более что играть бы пришлось сцены из собственной биографии: «Особенно тяжело нам приходилось в первые годы. Если помните, была такая „поправка Джексона – Веника“, принятая американскими властями еще в 70-е годы. Она ограничивала торговлю со странами с нерыночной экономикой. Отмена этой поправки затянулась аж до 2002 года, и, пока Россия формально считалась „нерыночной“, нам выкручивали руки по полной программе, используя в обосновании придуманного демпинга не наши фактические издержки, а вменяя расчетные издержки производителей третьих, так называемых суррогатных стран».

