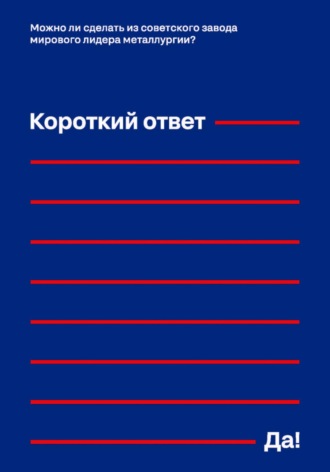
Полная версия
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»
«Северсталь» отбивалась грамотно. Пригодился полученный Горошковым в МГИМО диплом экономиста-международника. В ходе ожесточенных торговых споров команде Дмитрия не раз удавалось доказать, что «Северсталь» не имеет демпинговой маржи либо что приписываемый компании демпинг не нанес ущерба потребителям. Это позволяло разблокировать экспорт либо снижать ставки антидемпинговых пошлин до приемлемого для «Северстали» уровня. Особым шиком в этом противостоянии было привлечение на свою сторону лобби потребителей продукции, и тогда уже их структуры подключались к работе с регуляторами целевых стран.
В эпопее вхождения компании в большой мир была еще одна специфическая подробность. Риск, ловушка, искушение. Еще не освоившимся на глобальных рынках отечественным металлургическим заводам настойчиво стали предлагать услуги влиятельные иностранные посредники, быстро обзаведшиеся ловкими российскими партнерами. Степень настойчивости определялась нередкими в то время связями таких «помогаек» с криминалитетом. К середине 1990-х несколько крупных российских алюминиевых и сталелитейных предприятий оказались под плотным управленческим контролем английской трейдинговой компании Trans World Group. TWG навязала своим подопечным кабальную толлинговую схему работы, в рамках которой комбинаты выполняли роль, фигурально выражаясь, суррогатной матери: потоками сырья и готовой продукции полностью владела внешняя торговая структура, с помощью трансфертного ценообразования выводящая прибыль на себя в офшоры. Металлургические предприятия лишь производили продукцию, получая минимум прибыли и не имея никаких перспектив для инвестиций в производство и дальнейшее развитие. По сути, это означало гарантированную медленную смерть.
«Нас тоже обхаживали трейдерские структуры, – вспоминает Горошков. – Но мы сошли с этого пути, первыми в черной металлургии организовав собственное дочернее подразделение „Северсталь Экспорт“, работу которого мы с командой налаживали в начале 2000-х. Выходили на новые рынки, знакомили конечных потребителей с нашей продукцией, организовывали необходимый сервис и учились обеспечивать своевременный возврат экспортной выручки».
Десант немецкой слободы и команда ТОП
Уже тогда команде Алексея Мордашова стало ясно: надо вкладываться в людей, обучать их мировым практикам, перенимать все самое ценное из мирового опыта. У еще недавно советских людей был большой потенциал, но не было опыта работы в условиях жесткой конкуренции. На то, чему западный бизнес учился столетиями, у россиян не было и пары лет. Именно в этом заключается курс на то, чтобы стать полноправным глобальным игроком, а вовсе не в том, чтобы оказаться в кабальной зависимости от какого-нибудь мирового гранда.
Обучение проходило при помощи известных еще с петровских времен встречных курсах – топ-менеджеры комбината активно стажировались за рубежом, причем речь шла не о стандартной корочке мастера делового администрирования, а о рабочей стажировке в лучших сталелитейных компаниях Европы и Америки. А в Череповец зачастили умники-варяги, носители лучших отраслевых практик из ведущих компаний стратегического консалтинга.
У акционера была позиция: если мы хотим стать лучшими, мы должны работать с лучшими. Мы должны использовать передовые технологические решения, все доступные технологии управления, а последнюю четверть века все они были, к сожалению, не в России.
Ресурсные подразделения «приводили в чувство» специалисты из The Boston Consulting Group, а в блок Downstream на долгие годы были заброшены эксперты американской McKinsey.
Первые годы работы консалтеров в компании были посвящены, как выражались варяги, «сбору низко висящих плодов» – наведению элементарного порядка и подтягиванию базовой производственной эффективности. В корпоративную летопись этот этап вписан под энергичной аббревиатурой ТОП – программой тотальной оптимизации производства.
«Моей первой задачей в составе команды BCG на „Карельском окатыше“ в 2010 году стала оптимизация пересменок, – вспоминает Агнес Анна Риттер, десять лет проработавшая техническим директором „Северстали“. – Я находилась в железорудном карьере и делала хронометраж пересменок, изучала процесс на предмет производственных улучшений».
Австрийка Риттер на неплохом, с легким акцентом русском языке с теплым чувством вспоминает годы работы в России, лучшие в ее карьере. А в компании не могут забыть энергию австрийской коллеги и ее способность совмещать несовместимое – бывали случаи, когда молодая мама отлучалась на пятнадцать минут с заседаний директоров, чтобы покормить свою
малышку-дочь.
Агнес, имевшая два экономических, одно по политологии и ни одного технического или инженерного диплома, привнесла в компанию свежий, незашоренный взгляд на производственные процессы. «Важным этапом перестройки компании был сквозной анализ цепочки создания стоимости, – поясняет экс-техдиректор „Северстали“. – Например, инвестиции в повышение содержания железа в окатышах на отдельно взятом карельском активе могут не иметь экономики для железорудного карьера, но если вы посчитаете эффект, который дадут эти окатыши с более высоким обогащением на череповецкой доменной печи, то он с лихвой окупит вложения на сырьевом кусте».
Одной из первых ярких побед команды McKinsey на комбинате была оптимизация работы стана горячей прокатки во втором листопрокатном цехе. Прежде этот стан останавливался на переналадку и смену валков 6–8 раз в сутки, и каждый останов, эквивалентный невыпуску сотен тонн металла, а значит, потерянным деньгам, растягивался на 21 минуту. После проведения детального хронометража всех операций по японской методике вся эта работа была оптимизирована. Сегодня стан планово останавливается один раз в неделю, а процедура смены валков во всех клетях занимает 13,5 минуты. Можно было уменьшать простои и дальше, но потом догадались, что общий эффект получится больше, если в эти паузы умудриться впихнуть текущий микроремонт агрегата. Так и поступили.
Но не консультантами едиными, сами череповчане тоже активно включились в этот марафон.
Уже на первых этапах реализации участники программы ТОП – молодые и перспективные сотрудники «Северстали» – выявили серьезные издержки в работе «сердца» комбината. Так на ЧерМК часто называют конвертерное производство (КП) – за объемы выпускаемой стали и важную роль в технологической цепочке. «Интересны и методика программы, и подход к проблемам, когда вначале на интеллектуальном штурме люди выдвигают разные идеи, вплоть до фантастических. Затем выбираются наиболее рациональные, обсчитываются и предлагаются к внедрению», – делился впечатлениями главный механик КП Виктор Иванович Федоров.
Среди особо удачных идей он называет предложение по восстановлению роликов установок непрерывной разливки стали. «Сегодня износившиеся ролики просто сдаются в металлолом (стоимость каждого в 1998 году до 25 тысяч рублей). А нам предложили ультразвуковым прибором «Игла» определять степень их износа и, соответственно, ремонтопригодность. Продление срока службы роликов, а их у нас в работе около 2000, уменьшает их расход на треть».
В руководстве компании оценили итоги пилотной стадии. «Главный результат – наличие на комбинате людей, способных думать по-новому, анализировать, ставить перед собой задачи и их решать», – отмечал на первой встрече с участниками программы ТОП Алексей Мордашов.
Ну а красноречивее всего об итогах программы говорят цифры. За время работы ТОП (с 1998 по 2002 год) было инициировано 2388 мероприятий по всей технологической цепочке, включая и подразделения, обслуживающие основное производство. К началу 2002 года из них реализовано 1835. Общий экономический эффект составил 60,5 миллиона долларов. Совсем неплохо для комбината, который еще десятилетие назад целиком стоил примерно столько же.
Без стакана и мата
Инвестиции в людей часто встречали неожиданное сопротивление со стороны самих инвестируемых. Очень непросто изменить психологию людей, убедить, что отныне ты не винтик огромной машины, а «ответственный и креативный партнер в дерзком проекте построения лидера металлургии будущего». Такими формулировками уже к концу девяностых заговорили топ-менеджеры компании, пугая своим оптимизмом заезжих журналистов. Но среднее звено и рядовые работники ЧерМК в большинстве своем по-прежнему исповедовали старый добрый скептицизм: вы начальство – вы там и думайте, а наше дело – сталь варить, и тут нас учить ничему не надо.
Ломка паттернов отжившей производственной культуры давалась мучительно. Первым делом нужно было побороть расцветшее в рыночные 90-е воровство на комбинате, все заметнее становившееся из бытового промышленным, вплетавшимся в мир местного криминала. Как-то раз в сталеплавильном производстве украли застывшую плавку конвертера – 300 тонн металла.
Не меньшим злом было и пьянство. Выйти на смену – опасную, тяжелую, ответственную работу – с глубокого похмелья или просто выпивши, а после ее окончания сразу нырнуть с коллегами в расположившийся тут же за воротами комбината пивняк было не зазорно, а естественно.
Сознательные сотрудники, лидеры мнений, в том числе те, кого металлурги выбрали в Совет трудового коллектива завода или своих цехов, пытались понять, почему рабочая честь начала тонуть в горячительном зелье. «Разве с выходом сухого закона в стране война с пьянством началась? – комментировал неутешительную статистику по росту задержанных на проходных металлургов машинист экскаватора цеха шлакопереработки Владимир Александрович Кошелев. – Нет. С бутылкой. Как бы ее потруднее достать. А после жестких запретительных мер палаток вокруг заводов наставили».
Против палаток боролись. Особенно Совет ветеранов «Северстали», который регулярно обращался к мэрии и городским законодателям с настоятельной просьбой закрыть пивные шалманы. В корпоративных СМИ регулярно рассказывали об организациях, приобщающих к здоровому образу жизни. В Череповце появился Центр здоровья, где желающих учили жить по системе Порфирия Иванова, одним из правил которой было: не употребляй алкоголя и не кури. Программы избавления от пьянства и курения предлагал и популярный в городе клуб «Оптималист», который за глаза называли клубом трезвости. И некоторые металлурги потянулись в эти центры, а заодно приводили своих коллег.
К теме дисциплины подключились члены Совета директоров, руководители подразделений, профсоюзные лидеры. Они стали регулярно встречаться с трудовыми коллективами, только за две недели апреля 1997 года состоялось 79 информационных собраний – абсолютно во всех череповецких подразделениях компании, включая медицинские, культурные, спортивные учреждения. Весь участвующий в таких встречах «десант» во главе с генеральным директором призывал руководителей цехов и костяк коллективов усилить воспитательную работу с теми, кто злоупотреблял. Но результат оставлял желать лучшего. И тогда пришлось прибегнуть к кардинальным мерам.
Как говорится, доброе слово и револьвер лучше, чем просто доброе слово. Любителей выпить стали безжалостно увольнять. Раз попался поддатым – без разговоров за ворота. И поручать столь ответственную миссию живым контролерам, у которых тоже слабости имеются, не стали. Очень скоро их заменила бездушная электроника, и сегодня на всех проходных комбината и корпусах заводоуправления на входе и выходе человека встречает обязательная процедура общения с алкотестером.
Если в деле борьбы с воровством и пьянством сильно помогали карательные меры – штрафы и увольнения, то тотальный отказ от советского языка индустриальных коммуникаций – трехэтажного мата на повышенных тонах – требовал более замысловатых усилий.
В начале 2000-х по просторам тогда еще не очень просторного интернета разлетелась сделанная тайком запись совещания директора цеха полимерных покрытий ЧерМК, который в доходчивой эмоциональной манере объясняет подчиненным, как скверно они выполнили порученную работу и что он обо всех думает. Несколько минут отборного мата вдохновили сетевых диджеев на создание треков и клипов, которые услышали сотни тысяч, а с тех пор уже и миллионы человек. Ключевые фразы череповецкого оратора стали мемами, которые помнят и сегодня. Начальника-скандалиста, конечно, уволили, но уволить за мат полкомбината было невозможно.
Побороть грубость вообще и матерщину в частности столь же непросто, как вылечить заикание, но «Северстали» это в общем и целом удалось. В среде топ-менеджмента культуру общения при помощи исключительно нормированной лексики последовательно исповедовал сам Мордашов, а далее новая полезная привычка спускалась вниз по административной лестнице вплоть до рядовых сотрудников. Нельзя сказать, что «горячее словцо» навсегда ушло из жизни каждого сотрудника (тут уж на личной совести), но даже на самых сложных совещаниях потребность в мате отпала.
Из советской индустриальной культуры осталось лишь обращение к подчиненным по имени-отчеству, но на «ты»: «Ты, Семен Андреич, абсолютно прав, но я с тобой не согласен».
А в рабочей среде «русского устного» стало гораздо меньше после того, как условия труда и отдыха – туалеты, душевые, столовые – были приведены в человеческий вид. Сама изменившаяся среда обитания более не располагает к употреблению табуированного языка.
Еще одна филологическая реформа заключалась в том, чтобы приучить людей, особенно руководящий состав, излагать свои мысли коротко, точно и конкретно. Это тоже тот самый случай, когда Алексей Мордашов заразил команду своей собственной полезной привычкой.
Никаких лишних канцеляризмов, слов-паразитов и многотонных формулировок, за которыми привыкли прятаться бездельники и карьеристы. Идеальный набор ответов на конкретно поставленный вопрос состоит из трех вариантов: «Короткий ответ: да»; «Короткий ответ: нет»; «Короткий ответ: не знаю». И только после этого – необходимый минимум подробностей. А если подробностей нет, то и формулу можно сократить до двух слов: «Ответ: да». И это не просто утвердительный ответ на вопрос, но и формула эффективности, формула успеха, формула оптимизма – все то, что очень коротко, точно и конкретно характеризует корпоративную культуру ЧерМК.
К 2009 году цели первого этапа были в общем и целом достигнуты, низко висящие плоды собраны. И тогда на первый план выдвинулись новые задачи. Вторым этапом изменений стал производственный консалтинг, когда уже сами руководители ЧерМК занялись изменением производственной культуры. Формированием среды, которая побуждала к работе на результат. Алексей Мордашов принял тогда радикальные решения – в сентябре 2010 года снял с должностей основной костяк топ-менеджмента комбината и привлек новую команду, в которой участвовали и экспаты. Позицию гендиректора стального дивизиона занял Александр Грубман, выходец из российской дочки Coca-Cola. Это при нем началось тотальное очеловечивание санитарно-бытовых условий жизни рабочих на комбинате. Облагораживание отхожих мест, снабжение их туалетной бумагой в неограниченном количестве (прогноз гендира «натащат домой и перестанут» сбылся на сто процентов). Сейчас даже трудно представить, что все это требовало когда-то специальных усилий: к хорошему быстро привыкаешь. А теперь… Представьте себе, что вы садитесь в свой привычный Kia или даже Volvo, а внутри – «Запорожец». Примерно такое ощущение испытали бы сотрудники комбината, если теперь вдруг взять и по волшебному щелчку вернуть все как было.
Высоко висящие фрукты
В начале 2010-х стартовала работа по разворачиванию производственной системы. Дмитрий Горбачев, один из тех, кто стоял у истоков ее создания, дает ей следующее определение: «Это способ достижения конкурентного преимущества за счет вовлечения людей и использования передовых практик операционной эффективности». Работа строилась по трем направлениям: новая операционная система, новые технологические карты и новые модели планирования.
Известный далеко за пределами комбината Горбачев – неизменный участник корпоративных конференций по проблематике производственных систем, автор увесистой монографии по операционной эффективности – не производит в личном общении впечатления скучного мэтра. С большими круглыми глазами и стильной бородкой, живой и подвижный, Дмитрий поделился с нами массой историй из собственной практики.
– Вот, например, хоть и исключительный, но очень показательный для тех времен случай. Идут сотрудники команды McKinsey по цехам, проверяют состояние рабочих мест, общаются с людьми, которых встречают по пути. Заходят в раздевалку. Открывают первый попавшийся шкафчик, чтобы посмотреть, насколько он удобен для использования, а внутри – живой человек. Рабочий, который увидел, что ему навстречу идет «комиссия», решил таким образом спрятаться от греха подальше. А то ведь начнут задавать странные вопросы: «А какие перед вами цели?», «А как вы сами влияете на их достижение?», – смеется Дмитрий.
– И каков же правильный был вариант ответа, если не залезать в шкафчик? – интересуемся мы.
– Ну, например, такой: «Я экономлю расходный коэффициент за счет того, что лучше центрирую полосу в агрегате и снижаю за счет этого обрезь», – без запинки шпарит Горбачев.
Мы посочувствовали мужику из шкафа.
Но, несмотря на все психологические барьеры, перестройка Бизнес-системы «Северстали» из «заговора одиночек» все больше превращалась в широкое революционное движение. Стали появляться руководители, способные мыслить не узкотехнологически, а экономически, системно; не в терминах «давайте новый кран купим», а в масштабах «давайте посмотрим, как нам синхронизировать доменный передел с переделом конвертерным».
«Это была уже более сложная деятельность, нежели простое поднятие эффективности. Она требовала вовлечения большего количества людей, причем принципиально важным было то, чтобы люди почувствовали авторство этой истории, – вспоминает Яков Сергиенко, работавший с ЧерМК в составе команды McKinsey в 2009–2022 гг. – Отсюда слоган „Достичь большего вместе“, с которым начала отстраиваться новая корпоративная культура компании».
Нынешний генеральный директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» Сергиенко – надеемся, его не обидит это сравнение – показался нам похожим на Шнитке. Да-да, гениального композитора Альфреда Шнитке. Внешнего сходства никакого, но та же невероятная «бизнес-музыка», понять которую исчерпывающе по силам только подготовленным, наслушанным меломанам.
Важнейшим решением была организационная революция: сокращение уровней управленческой вертикали комбината – от генерального директора до рабочего – с 11 до 5. Топ-менеджеры теряли культивировавшийся десятилетиями ореол небожителей.
Притом что решение проблем через голову непосредственного начальника по-прежнему не приветствуется, к любому из руководителей можно записаться и попасть на прием. Заодно и закрыли столовую для начальников. С тех пор и директора, и простые рабочие едят вместе, за одними столами.
Наиболее фундаментальной задачей была трансформация системы целеполагания. Лозунг «Даешь миллионы тонн чугуна и стали», родившийся как императив советской индустриализации и многие десятилетия бывший залогом боевых и трудовых побед в противостоянии с внешними врагами, перестал быть священным. «С 2013 года мы начали переворачивать парадигму производства, выставив KPI не от объемов, а от клиента, – рассказывает Дмитрий Горбачев. – У нас появился, например, такой KPI, как OTIF, on time in full – вовремя отгруженный, полностью укомплектованный заказ. То есть мы начали отслеживать и стимулировать безупречное следование графику поставок клиентам».
Учет интересов клиента – не только внешнего, но и внутреннего, ведь, по сути, все подразделения ЧерМК являются клиентами друг друга – помогал повысить эффективность на смежных участках металлургического комбината. В проект «Постоянное совершенствование» на этапе развертывания вовлеклись 500 работников ЧерМК, включая руководство. Заработала «Академия бережливого производства» – кузница эффективных кадров, способных двигать проект. Было выбрано 12 пилотных участков, в том числе в одном из отделений копрового цеха, который готовит лом для сталеплавильных цехов. Склад металлолома превратился в настоящий, удобный для сталеплавильщиков «супермаркет». Причем супермаркет правильный, где «лом-товар» разложен по полочкам, обозначен, постоянно пополняется.
За основу был взят принцип «вытягивания» продукта заказчиком. «Если потребность в нашем продукте есть (а она есть!), – пояснял Николай Сумароков, один из авторов и непосредственных участников того эксперимента, – мы его должны произвести и сразу отгрузить».
Новый подход доказал свою эффективность в первую же неделю: работа от заказа позволила снизить запасы, а это замороженный капитал, улучшить управляемость на участке, обеспечить прозрачность учета и повысить общую эффективность оборудования – машин и механизмов, занятых на подготовке лома. Общее производство участка выросло на 17 %, а общая оборачиваемость запасов – в разы. В итоге на смену безразмерному и плохо организованному складу, на который круглые сутки работало все оборудование, пришли так называемые склады ограниченной емкости. Клиентоориентированный подход постепенно распространялся на весь «организм» компании.
Чистое бизнес-творчество
Было бы непозволительным заблуждением представлять дело так, что какие-то мудрые иностранцы, как пришельцы с другой планеты, приземлились в темном, чумазом Череповце и научили русских металлургов, как надо работать.
В этом мифе неправда все. Начиная с того, что большинство из работников глобальных консалтинговых фирм, нанятых Мордашовым, трудились в московских офисах своих международных работодателей и были, подобно Якову Сергиенко, нашими соотечественниками. Другое дело, что они имели доступ к глобальной базе знаний и методик, опробованных ранее в отрасли по всему миру.
Во-вторых, в процессе работы, как мы уже сказали, активно вовлекались местные кадры, сначала отдельные сталкеры, или, как их здесь именовали, «навигаторы перемен», затем они формировали вокруг себя «команды преобразований» и эта деятельность, как круги на воде, захватывала все большее число сотрудников комбината. Фактически люди из McKinsey лишь помогли свинтить и настроить машинку непрерывных изменений в виде эволюционирующей производственной системы компании.
В-третьих, многие приемы и методы, насаждавшиеся «варягами», не были чем-то невиданным. Значительный пласт использованных консалтерами подходов и инструментов так или иначе присутствовал в арсенале советской научной организации труда и производства. Просто некоторые из них были порядком подзабыты или хуже структурированы, ну и, конечно, не были упакованы в столь яркие и модные англоязычные фантики. Цветущее в советские годы пышным цветом рационализаторское движение было ничем не хуже новомодных фабрик идей, а пилотные проекты оказались хорошо забытыми приемами опытного производства. Отдельный вопрос – насколько эффективно эти инструменты советской индустрией применялись (вспоминаем знаменитую юмореску Михаила Жванецкого об изыскании скрытых резервов на ликеро-водочном заводе).
«Ну и, конечно, эти ребята очень хорошо умели слушать и оперативно оформлять и выдавать за свои чужие идеи», – добавляет свою перчинку в историю работы с консалтерами Людмила Гусева, с 1997 года возглавляющая коммуникационный блок «Северстали». Но работали маккинзевцы зверски. Дмитрий Горбачев вспоминает, как они засиделись с консалтерами в мозговом штурме до поздней ночи, набросав от руки какие-то графики, а к утреннему совещанию уже была готова презентация – за ночь ее отрисовал индийский офис McKinsey.
Наконец, специфика и масштаб задач и вызовов, вставших в ходе реформирования компании, оказались во многом уникальны даже для опытнейших специалистов.
По большому счету, это был многолетний совместный проект чистейшего бизнес-творчества. «Масштаб, скорость и глубина, с которыми мы ушли в организационное развитие, были на тот момент беспрецедентными, – признается Яков Сергиенко. – Многие решения стали уникальными, и впоследствии похожие проекты начали инициироваться другими металлургическими и не только металлургическими компаниями в России, в частности ОМК и „Сибуром“. В этом смысле „Северсталь“ выступила первопроходцем, задала моду на выстраивание производственных систем».
Люди важнее железок
В 2010-е годы начала все заметнее выкристаллизовываться важная фишка бизнес-модели «Северстали». Она заключается в сознательном приоритете труда над капиталом в производственной функции компании. Кто-то предпочитал бездумно менять «железо», в Череповце же прежде всего взялись за культуру людей.

