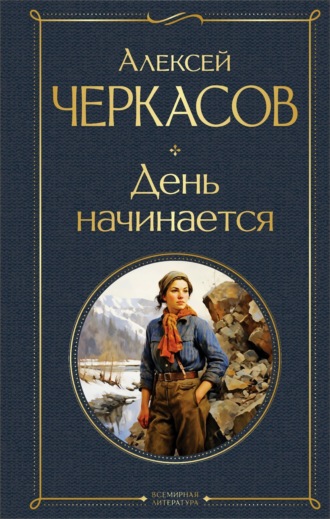
Полная версия
День начинается
– Ну крокодил!
– Это я-то?
– Голубей давно не выпускали на облет?
– Ты что там зубы заговариваешь? Слышь, братан, хитрое поколение отходит от нашей фамилии! Жадность на все: на баб, на работу, на деньги, на весь белый свет!
– Куда им до всего белого света! – откликнулся Феофан, остервенело царапая спину об косяк, так что сенная стена ходуном ходила. – Хитрости в молодом поколении не вижу, а опрощенность. Мастер из стариков или тот же рабочий, хваткий глазом и скрытный сердцевиной. А молодняк – с дрожжами в ногах; устойчивости той нет, какая была у нас.
– Не скажи! – опротестовал Пантюха. – Вот он, перед нами, далеко не ходить. Смыслишь, куда он прет с Приречьем?
– Куда ни прет, а шею намылят.
– Само собой. А все-таки никто из стариков не кинулся бы вниз головой в такую яму. Ни в жисть! Старик подумал бы, покумекал, прикинул бы, а потом поглядел: кто начнет первым и что у него из того выйдет. А молодой – грудь вперед: была не была, а в постели лежала, ха-ха-ха!.. Двинут его по загривку, и тогда не сразу очухается. Покуда не перекипит кровь, все бурлить будет. Ты как, Гришуха, перекипел иль нет?
Григорий выносил голубей и пускал их в облет. Они поднимались сперва на крышу, отдохнув немного, ввинчивались в морозную, аквамаринную высь, наполненную столбами дыма и копоти.
2Юлию мучают кошмары. Что там горит? Зарево! Зарево! Огромное зарево над Ленинградом. И как жарко… жжет! Нестерпимо жжет. Она бежит от зарева по льду Ладожского озера. Лед зыбкий, мягкий и почему-то теплый. Волосы ее растрепались. А она все бежит, бежит, не переводя дыхания. Куда? Далеко, далеко! На восток, в Сибирь. Да, да, на восток. Отчизна там спасет своих детей. А вокруг нее, над озером, вьются черные страшные птицы, похожие на орлов-стервятников, каких она видела на Кавказе. Но ей кажется, что это вовсе не орлы-стервятники, а снаряды. Но почему-то они не падают со свистом, а ткут в воздухе незримые петли и все кружатся, кружатся!..
Юлии страшно. Слезы жгут ее обветренное лицо. А там, над Ленинградом, зарево, зарево!..
Кто-то хватает ее за руку и больно сжимает у запястья, называя Левкой, как звал ее брат Сергей. «Левка ты моя, Левка, а мы-то ищем тебя, ищем, ищем!» Но голос не Сергея, чей-то другой, незнакомый. Он что-то говорит ей о тайге, о геологических разведках, о маральем мясе и почему-то берет ее за руку и куда-то ведет… Нет, это не брат Сергей! И вот опять стучат вагонные скаты: «Мы тут, пи-ут. Мы тут, пи-ут». А теперь она идет пешком. По шпалам, ночью. Идет целую вечность. И вдруг на ее пути вырастает буран – косматый, в телогрейке, весь сгорбившийся. Дует на нее, хватает ледяными руками за щеки и кричит в самое ухо:
– Ноябрь только нос покажет, – зима всю харю высунет.
– Пошевеливайсь, пошевеливайсь!
– Что вы, в самом деле! Ну что вы? – бормочет она. Кто-то сжимает ей горло, не дыхнуть. Душит кашель. Она чувствует, что кашляет, а никак проснуться не может. А кашель все сильнее бьет, вгоняя в пот и расслабляя тело. Она просыпается. Садится на постели, сгорбившись, уткнувшись лицом в колени, кашляет. «Как я простыла, ах, если бы мама!..» Конечно, мама помогла бы ей излечить бронхит. Но мамы нет, и надо заботиться самой.
Где она? Квадратная комната с тремя окнами залита полуденным солнцем. На стенах множество акварелей и полотен с вышивками. Ужели все это сделано руками той Варвары? Она сразу видит две картины: какой-то фантастический тонущий корабль и недурно выполненную копию «Аленушки». Над кроватью – забавляющиеся медведи на рухнувшем заматерелом дереве – «Утро в лесу». Вся комната увешана разнообразными видами тайги, Енисея – вышивки искусной мастерицы. Особенно понравилась полоса у березовой опушки. Вся пашня выпуклая, пшеничные колосья, обремененные от тяжести спелых зерен, гнутся к земле. Юлия сперва подумала, что картина выполнена масляными красками, но, присмотревшись, удивилась: все сделано иглой. Значит, Варварушка и в самом деле художница! Интересно, кто она Григорию? Сестра, тетушка? Может быть, она дочь того толстяка Фан-Фаныча? Что-то он говорил о ней, Юлия не помнит, заспала.
Посреди комнаты круглый стол под узорчатой скатертью, спускающейся до ковра. Еще маленький туалетный столик с зеркалом и флаконами. Буфет с вазами, с салфеточками разнообразной вышивки. Впрочем, вышитых салфеточек везде хватает. И на окнах, под цветочными горшками, и на треугольнике, заставленном фотографиями, и даже графин покрыт салфеткой с вышитой гарусом пунцово-багряной розой.
А тело болит; рук не поднять. Пальцы ног, прихваченные морозом, отдают тупой болью. В горле саднит и трудно дышать. Неужели опять ангина? В пути ее раз пять схватывала ангина. Последний раз в Новосибирске, где ее вынуждены были увезти на легковой машине начальника вокзала в горбольницу. Юлия щупает пульс, но температура будто нормальная. Может быть, пройдет? Только бы ей не свалиться в чужом доме. Она еще не знает, куда сегодня двинется. Что пойдет искать: работу ли, больницу ли, если ангина не в шутку схватит за горло. Что-то надо предпринять, конечно. Вагоны и вокзалы словно выключили ее из жизни.
Медленно двигаясь по комнате, Юлия прибрала разбросанные вещи, постель на широкой, резной, из черного дерева, старинной кровати, настороженно прислушиваясь к соседней комнатушке. Там никого не было. Но вот кто-то вошел…
– Проснулась? – раздался голос с той стороны портьер.
Конечно, она проснулась.
Вошел Григорий. Он так же щурился, как и ночью.
– Ну, как спалось на новоселье? – спросил он.
– Спасибо, хорошо, – ответила Юлия. – Выспалась за много-много дней. Теперь буду искать семью.
– А если семьи нет?
– Нет? Почему нет? Они должны быть здесь… – растерянно пробормотала Юлия.
– Видите ли, я не хочу вас пугать, Юлия Сергеевна, но человеку надо говорить правду. Я уже узнавал: вашего отца нет в городе и в крае. Но не вешайте голову. Может быть, еще отыщется… Не сразу, не сразу…
Юлия слушала молча, устремив взор куда-то в одну точку, с застывшим выражением ужаса на лице. Она будто прислушивалась к тому, что нарастало в ней. «Может быть, ни мамы, ни папы, ни Сергея нет в живых? И я осталась одна!.. Совсем, совсем одна! И в этом далеком городе?!» Ее нижняя губа задрожала, к горлу подкатило что-то тяжелое, давящее, и она, с трудом преодолевая спазмы, не глядя на Григория, проговорила:
– Мне дальше ехать некуда… Я и так проехала полсвета… И может быть, их вообще нет! – высказала она свою мысль вслух, и взгляд ее посуровел. – Я ведь ничего не знаю. Ничего!.. Они уехали в марте прошлого года через Ладожское озеро. А в те дни только и слышно было, как шли эскадрильи за эскадрильями в сторону озера. Мне никогда не забыть те ночи! И вот эти четыре месяца… Где я только не побывала! В Сызрани, в Уфе, трое суток бродила по Свердловску. Была в Челябинске, в Омске, в Кургане, Петропавловске, Новосибирске, Ачинске… И нигде не нашла их. Где еще искать? Куда ехать?
Слушая ее взволнованный, сбивчивый рассказ, глядя на маленькую щуплую фигурку в полудетской позе, Григорий все более чувствовал себя обязанным что-то сделать для нее, оградить ее, успокоить, уверить, что она не одинока, что все люди сейчас стали ближе, роднее и легче понимают друг друга, помочь чем-то этой девушке, которая была там, в опаленном огнем Ленинграде.
– Куда ехать? Зачем ехать? – спросил Григорий и заходил по комнате своими медленными, бесшумными шагами. – Все уладится и будет хорошо. Только надо верить в собственные силы, в минуты испытания и горя люди проверяют свои поступки и дела суровым обдумыванием. Вот и надо обдумать все. Присмотритесь к здешнему народу, и вы увидите, что тут жить можно. Только не отчаивайтесь!.. Да вы же почти окончили академию, что же вы? Пишите картину! Да, картину. Уверьте себя – и вы напишете. Я знаю: вы все еще видите войну с руинами, с горьким и едким дымом пожарищ… А вы взгляните на нее глазами тех, которые будут жить через сто лет после нас. Они будут благодарны героям, отстоявшим жизнь для них. Разве мы не испытываем чувства благодарности Кутузову и его сподвижникам? А ведь руин Москвы от того времени не осталось! Вот ведь какова правда истории. Вспомните, как вы говорили о женщинах, идущих от руин к рассвету. Вот и нарисуйте таких женщин, идущих от руин войны к рассвету!.. Я знаю – картину написать трудно. Так разве лучше совсем не писать? Надо писать. Там, где трудно, там и хорошо. Есть где применить силу и упорство! Надо писать. Я вот скажу про себя… Правда, я не художник и не поэт – я инженер. Но открыть новое месторождение без мечты, без фантазии, без вдохновения нельзя. С детских лет я вырабатывал в себе упорство, настойчивость и наметил цель жизни. Бывали и у меня такие минуты: махнуть бы на все рукой и жить как-нибудь потише и поспокойнее! Другой раз закипит что-то внутри, и тебе кажется, напрасно ты тратишь силы и молодость! Зачем корпеть над книгами? Кому это нужно? А вот теперь вижу: я силен! И не так-то легко меня столкнуть с дороги, по которой я иду к цели. Есть и такие люди, которые хотят жить поуютнее да потише. Им наплевать на то, что должно быть завтра. Такой зароется в свою хорьковую нору, да еще и шипит на других, путается под ногами. И если ты не тверд, легко своротить тебя в сторону. – Григорий остановился у окна и, всматриваясь в дымящиеся горы Правобережья, сказал: – Я хочу, чтобы вы написали картину. Ищите что-нибудь выразительное, хватающее за душу. Такое, чтобы жгло, жгло! Такое, на что никто не посмотрит равнодушно. Может быть, такую картину написать трижды труднее, ну и что? Тем лучше!.. Если я иду в разведку за металлом, я говорю себе: найди, душа из тебя вон! И ищу. Глазом щупаю землю, месяцами не выхожу из тайги – и, знаете, нахожу! А вы разве мало пережили или мало видели?!
– Пережито много. И впечатлений вынесла много, – ответила Юлия, – но все еще не улеглось во мне. И рука у меня огрубела после голода. Стала какая-то чужая, непослушная. А картину… картину я давно хочу написать. Я все писала на фронте портреты. Люблю портреты писать. – И, взглянув на Григория, виновато, по-детски улыбнулась, добавила: – Вот почему-то я была уверена, что папа здесь. Не знаю. Я бы не проехала полсвета, если бы не была уверена, что они в Сибири.
– Все уладится, и все будет хорошо, – повторил Григорий, а подумал: «Надо бы сказать что-то определенное. Есть ли у нее деньги? Ну да не сразу».
3Энергичный Григорий с его оптимистическим, веселым настроением ободряюще повлиял на Юлию; но если бы Юлия могла заглянуть внутрь Григория, она бы поразилась: как можно держаться так бодро, когда у самого на сердце кошки скребут?
Григорий знал, что его ждет неприятность: все его материалы по району Приречья о крупнейшей поисковой разведке, которую он хотел организовать будущей весною, потерпели полный разгром. Но он говорил себе: «Так держать! Полный вперед! Через все преграды, какие бы ни встретились на пути, полный вперед! Мимо всех неприятностей; мимо скептиков и суесловия, полный вперед!»
Но не только вопрос Приречья волновал Григория. Ведь это он настоял свернуть крупную поисковую разведку в отрогах Саян, откуда только что приехал. Три месяца он бомбил докладными начальника геологоуправления Нелидова, чтобы прекратить бесполезную трату государственных средств в отрогах Саян, где на одном участке съехались три экспедиции трех ведомств, не зависящие друг от друга и фактически копирующие работу друг друга.
Нелидов на первые докладные попросту промолчал; он и знать не хотел, что в Саянах съехались три экспедиции; Григорий должен был продолжать работу, чтобы выполнить годовой план изыскательских работ. Но Григорий не успокоился. Дело дошло наконец до крайкома партии, и тогда Нелидов скрепя сердце отдал приказ свернуть поисковые работы в таком-то районе Саян. «А план, план завалили! – думал Нелидов, встретив Григория усталым и долгим взглядом, когда последний вошел к нему в кабинет с кипою бумаг. – Завалили, завалили план, с этими делами, и все такое». – Нелидов даже мысленно повторял свои излюбленные словечки, как бы для наибольшей убедительности.
– Не понимаю, какой черт занес в Саяны новосибирцев и академию? – проговорил Нелидов, вчитываясь в материалы по саянской разведке.
– Не черт, а его превосходительство бюрократизм, – поправил Григорий, стоя возле стола.
– Да, да, понимаю. Он сильнее черта, – буркнул Нелидов, с хрустом перелистывая бумаги.
– И все-таки, как бы ни был силен его превосходительство бюрократизм, ему надо ломать хребет. Нельзя молчать, Андрей Михайлович, когда на ветер швыряют миллионы народных денег. Три экспедиции – десятки геологов, сотни квалифицированных рабочих, машины, средства толкались полгода на одном и том же участке, секретничая друг от друга и мешая друг другу. Вот здесь мы бурим, а рядом с нами, плечом к плечу, буровая академии. А там, через сотню метров, буровая вышка Новосибирского геологоуправления. А что было, когда шла разведка Аханского железорудного месторождения? На сотне квадратных километров съехались четыре экспедиции и толкались там девять месяцев. А там и одной экспедиции делать было нечего.
Нелидов хмуро усмехнулся, но не поддержал разговор. Он и сам прекрасно понимает, что так работать нельзя; надо бы давно скоординировать, согласовать работу изыскательских экспедиций разных ведомств, но ведь Нелидов не начальник Главного комитета? Там не с Григория Муравьева спросят, а с Нелидова. Что он скажет, почему не выполнен план работ? Все его разъяснения и возражения примут как пустые отговорочки, как неумение организовать работы. А Муравьев – что! Ему не отчитываться перед Главным комитетом.
– Из всех зол, которые я осуждаю в человеке, самое неприятное – глупость.
– Глупость? – переспросил Григорий. – Как это понимать?
– Как понимать? А вот так и понимать, как говорю. Именно глупость! Ведь это же ясно, с этими делами, – пора согласовать работу поисковых экспедиций. А на поверку что? Каждый дует в свою дуду. И академия, и новосибирцы знали, что в Саянах – наша экспедиция. Так зачем же их черт занес в тот угол? А в комитете с меня спросят, почему завалили план. Там с меня спросят.
– И правильно сделают, Андрей Михайлович.
Нелидов посмотрел на Григория долгим и упорным взглядом.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Я вам писал в докладной.
– Ах да. Приречье! Вместо Саян – Приречье! А не будет ли это еще одной глупостью? Прежде чем ставить вопрос о разведке Приречья, надо иметь под руками обоснованный материал, Григорий-свет-Митрофанович. Да, да, твердый, ясный и обоснованный материал. А что имеем? Туманности. Одни туманности.
– «Минералы и руды сами на двор не придут: надо их найти», – напомнил Григорий известное изречение Ломоносова и, переложив кипу бумаг из руки в руку, немного пригнув голову, буркнув себе под нос что-то похожее на «всего хорошего», покинул кабинет.
Умные, добрые глаза Нелидова, в лучиках морщин, следили за каждым движением и за выражением лица Муравьева. И когда Муравьев скрылся за черной дверью, обитой дерматином, лицо Нелидова как-то сразу постарело, глаза потускнели, и он, отодвинув от себя толстые папки с делами, вышел из-за стола и заходил по кабинету.
«Вот и еще человек, – вернулся Нелидов к ночным размышлениям о Муравьеве, вышагивая мелкими, осторожными шажками по своему огромному кабинету, – талантливый, выдающийся геолог, а с глупостями!.. Ему же за 25 лет. А каков был я в свои 25 лет? Ну, во мне тогда еще кипело. Но у нас уже родилась Катерина. Катерина! – и вдруг остановился у высокого, затянутого синим бархатом, узкого, как щель, готического окна и, положив свои маленькие сухонькие руки на подоконник, опустил голову. – Что же я просмотрел? Как я просмотрел, а? – спрашивал он себя. – Семья должна быть твердой, устойчивой! Какая же будет ее семья? Надо бы с ним поговорить, – вернулся Нелидов к Муравьеву. – Да, да, надо бы поговорить. Да неудобно!» – И взгляд Нелидова остановился на крыше противоположного дома.
То, что он, отец хорошего и дружного семейства, старый коммунист, вырастив хорошую и умную дочь Катерину, ни разу до вчерашнего ночного объяснения с дочерью и женою не подумал о том, как устроится личная жизнь дочери, теперь беспокоило его, и он готов был оттаскать себя за свои короткие, черные с сединой, непокорные волосы. «И все я! Я! Я прежде всех должен был подумать об этом. А я позже всех узнал. И то случайно! Э, плохо! Плохо. Но что же было у них? – спросил он себя. – А что было? Ничего не было! Не могу же я судить Муравьева только за то, что моя дочь столько лет любила его!»
Вспомнив вчерашний разговор, Нелидов покачал головой, опустился в кресло и вернулся к делам, требующим немедленного вмешательства. Но то, что он что-то проглядел в жизни дочери, все время сверлило его, и он то и дело возвращался мыслями к вчерашнему.
Во второй половине дня Григорий Муравьев сдал Нелидову отчет по саянской партии и закрытую маршрутную карту. Встретились они в присутствии трех начальников изыскательских партий. Григорий, как только закончился деловой разговор, сразу же вышел из кабинета.
«Да, да, перемена в нем есть, с этими делами. Есть, есть перемена», – утвердился в своем мнении Нелидов и до конца рабочего дня никак не мог сосредоточиться на делах.
В буфете, во время обеденного перерыва, за чашкой черного кофе Григорий встретился с Матвеем Пантелеймоновичем Одуванчиком и сделал ему выговор за то, что Одуванчик не выполнил его указания и оставил образцы руд под открытым небом.
– В доподлинном смысле… – начал было Одуванчик.
– Именно в доподлинном, – перебил его Муравьев.
– Я имею в виду… – Одуванчик не знал, что он имеет в виду, но ничего не ответить даже на справедливое замечание он просто не мог.
– К девятому подготовьте доклад по Барольску, – сказал Муравьев, вставая из-за круглого столика.
– К девятому? – Матвей Пантелеймонович удивленно приподнял брови. – Как вас понимать? К девятому декабря?
– К девятому ноября, – повторил Муравьев.
Лицо Одуванчика заиграло всеми красками удовольствия.
– Смею вам заметить, Григорий Митрофанович, – сказал Одуванчик нарочито громко и значительно, – сегодня у нас одиннадцатое ноября! Но если вы имеете в виду ноябрь 1945 года… в доподлинном смысле… то я, разумеется, постараюсь сотню докладов подготовить.
Муравьев нахмурился, отодвинул стул и, не взглянув на самодовольного Одуванчика, уходя, бросил:
– Пятнадцатого ноября я буду слушать доклад! – и ушел.
4После приезда Григорий дни и ночи почти не выходил из кабинета. Он думал о железе, о железе в Приречье. Составлял подробные маршруты, намечал места ходов, шурфов, буровых скважин, канавок. И все это на материалах шатких, зыбких, как трясина. Кое-какие давние находки геологов еще ни о чем не говорили. Они только будили, подталкивали его мысль, ищущую, дерзающую. Много раз он вертел в своих тонких сухих пальцах ржавые камни, сцементированные железистым материалом. Эти камни – результат размыва коренного месторождения. Но где оно, это коренное месторождение? Как определить его координаты? А тайга, где они были найдены, огромная, всепоглощающая! На ее территории разместится вся Западная Европа с ее городами, реками, лесами, со всеми пашнями и фермами. И она, эта огромная территория Южной тайги, местами девственная, тронутая только лапою зверя да изредка ногою смелого охотника.
Иногда Муравьев думал: «Вот по такой-то реке, в таких-то местах надо проводить изыскания». Через два-три дня он опровергал свои доводы, говоря: «Черт знает, где оно лежит, это железо! По Белке или по Чернушке?» – и склонял усталую голову над геологической картой.
5Юлия долго стояла у окна, всматриваясь в подернутую дымкой даль. Вот и Сибирь! И кто это говорил ей, где она слышала, что в Сибири люди злые, холодные, черствые? Все это вздор! Вздор! Разве в Новосибирске, где она заболела, сибиряки не поместили ее в больницу? Все будет хорошо! Она будет писать картину, как посоветовал Муравьев.
Где-то далеко за Енисеем курились высокие горы. Такие она видывала только на Кавказе. На правобережье густо дымили заводы. Пирогом вытянулся на торосистом Енисее остров. Но где город? Она не помнит, с какой стороны ночью подъехали к деревянному домику Муравьевых.
Юлия не слыхала, как вошла и остановилась возле дверей дородная, круглолицая и румянощекая, пышущая здоровьем и силой, окруженная мелкими волнами складок цветастого сарафана Дарья Муравьева.
– Здрасьте, – вежливо возвестила о себе Дарья.
– Здравствуйте.
– Значит, так… – Дарья явно была в замешательстве и не знала, с чего начать разговор. – Григория нет? – спросила она. – Да, нет, – ответила сама себе. – Он теперь после Саян засядет в управлении. Напористый человек, весь в наш род, в приискательский.
И вдруг, спохватившись, Дарья замигала густыми белесыми ресницами, виновато пробормотала:
– Вы меня-то не знаете? Я Дарья, Григорьева тетя, Ивановна по отчеству. Фамилия наша Муравьевы. А моя-то, девичья, Глухокопытова. Дурацкая такая фамилия, я про нее и не вспоминаю даже. – Дарья тяжело вздохнула, как бы от огорчения за свою девичью фамилию. – А вас как звать-то?
Знакомясь с Юлией, Дарья бесцеремонно рассматривала ее от ног до русых завитушек на голове. Закончив осмотр, определила:
– А вы интересная. Значит, из Ленинграда? А мы-то живем здесь и свету белого не видим, – опять шумно вздохнула Дарья.
– Свету не видите? А что вы называете светом? – поинтересовалась Юлия, подавая Дарье стул.
– Так ведь я же в Ленинграде отродясь не бывала. То в тайге, то в глухолесье – разве это житье? А тут еще война, работы вдвое больше. Недавно приехали из тайги и вот скоро опять поедем. Теперь уже в отроги Талгата. А вы незамужняя? – Дарья хитро прищурила глаза. – Учились, верно?.. В академии? Ишь ты! И что же вы рисовать умеете? Вот ты и возьми! А такие картины нарисуете?
Дарья указала на висящие картины. Получив ответ, что Юлия может писать такие картины, но не намерена их писать, Дарья снова засыпала ее вопросами.
– А который вам год?
– Двадцать третий.
– Самая пора. – Дарья еще хитрее прищурила глаза. – Только вы не выходите замуж, – внушительно предупредила она. – Я прокляла всю свою жизнь, что вышла замуж. Никакого для души спокойствия нет замужем. А Муравьевы – характерный народ, беспокойный. Один у них Феофан тихий да покладистый. А эти, что мой, что Петро, что Павел, так бы и рылись в земле. А что ищут? То золото, то всякую всячину. Господи, так надоело таскаться по горам да по тайге!.. Им вот Фекла в стать пошла. Она и в горсовете заседает, и мужиками вертит как хочет. Так умеет это делать, так умеет, что прямо беда! – Дарья помолчала пока, перевела дух и опять повторила: – Не выходи замуж. А кто ваш отец? – перешла Дарья на родословную Юлии.
Юлия рассказала, что она родилась на Васильевском острове и что этот остров на Неве, что ее мать зовут Евгенией Андреевной, старшего брата, военврача, – Сергеем, сестру – Верой, а младшего брата – Николаем. И что еще в детстве она любила рисовать своих сверстниц, частенько бывала в Эрмитаже, и как она работала в Ленинграде медицинской сестрой, и как отстала от семьи.
Удовлетворив в беседе с Юлией свое любопытство, Дарья вдруг спохватилась:
– Всего-то не переговоришь. Я ведь по делу пришла, – и засуетилась. – Григорий велел передать вам полушубок и валенки… Да я дам вам свой полушалок. Живите на доброе здоровье! И горе повидали, и счастье будете видеть. В Сибири-то климат студеный, да люди словом и сердцем добрые.
И, проговорив это, Дарья вынесла из комнаты Григория добротный черный полушубок, армейский ремень, валенки и свой цветастый полушалок.
В этот же день Дарья принесла новости о Юлии Фекле Макаровне. «И уже так она хороша, – говорила Дарья, – что и слов нет. А глаза такие прожигающие, что ах! Куда там Катерине Нелидовой! Эта такая, что ах! И картины будет писать, и отец у ней хирург, хлеще, чем Щепетов!..» Дарья так ахала, что Фекла Макаровна невольно насторожилась. И потому-то так сухо встретила потом Юлию.
Пантелей Муравьев так же, как и Фекла Макаровна, заговорил с Юлией сдержанно и строго.
– Значит, из Ленинграда? – спросил он и, покачивая головою, хитро прищурив глаз, оглядел ленинградку с ног до головы, как бы изучая, что она за человек.
6Ничего плохого Юлия Чадаева не находила в том, что позволила Муравьеву проявить участие к ее судьбе в буранную ночь, и даже то, что Муравьев не мог поселить ее ни у Феофана, ни у Пантелея, а только на своей половине, все это, казалось, было самым обыкновенным. И все-таки, как Юлия ни старалась убедить себя, что ничего особенного не случилось, она чувствовала себя неловко.
Сперва она не пыталась разобраться в причинах такого угнетенного состояния духа. Подобно тому как человек боится лишний раз дотронуться до больного места и всячески оберегает его, так и Юлия не хотела думать о том, что причиняло ей боль.











