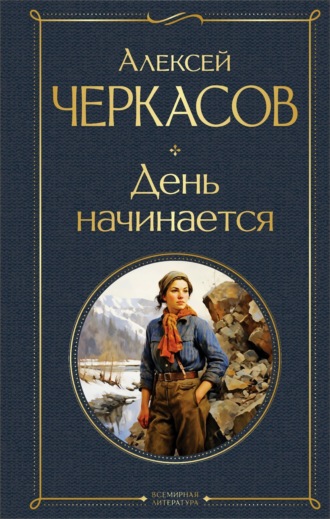
Полная версия
День начинается
Они стояли почти рядом. Ее большие синие глаза под тенью крупных заиндевелых ресниц смотрели в близорукие глаза Григория грустно и устало. Красивый рот с чуть приподнятой верхней губой, как у капризного ребенка, улыбался той вымученной улыбкой, которая возникает по принуждению. Лицо ее было совсем юное, со впалыми щеками. Седые от инея пряди золотистых волос, выбившиеся из-под суконной шали, падали развившимися кольцами на высокий, с темными, слегка надломленными бровями лоб. И только пятно на обмороженной щеке, рваная и грязная шинель, словно с плеча кочегара, разбитые кирзовые сапоги говорили о пройденных дорогах и обо всем ею пережитом. Григорий хотел отвести взгляд, сразу, моментально, но все еще удивленно смотрел на нее.
– Ну вот… Давайте устраиваться будем, – пробормотал он, беспричинно передвигая стул.
Неосознанное чувство досады пошевелилось где-то у него в сердце, и он, покашливая, достал еще три свечи, зажег их, сообщив, что город эти дни экономит электроэнергию, прилепил свечи на гематитовый камень и прошел в следующую комнатушку, которая служила ему спальней. Движения его были вялые, думающие, прислушивающиеся. «Черт знает что получается, – хотел бы он сказать в этот момент. – Тебе бы, голубушка, с таким лицом не надо прятаться в угол, в тени. И не надо бы притворяться казанской сиротой».
Незнакомка все еще стояла посреди комнатки. Пронизывающий взгляд Григория и то, что он почему-то вдруг нахмурился и, сердито покашливая, медленно пошел в другую комнатушку, обеспокоило ее. Первым ее желанием было повернуться и уйти. Уйти куда-нибудь, даже навстречу бурану. Но опять припомнился ей вот такой же взыскивающий взгляд лейтенанта флота, когда он посмотрел на нее снизу вверх, там еще, в руинах, и так больно резанул ее душу. И негнущимися, окостенелыми пальцами она стала расстегивать неподдающийся грубый солдатский крючок.
– Что же вы? Раздевайтесь, раздевайтесь, – подбодрил Григорий. – Тут у нас тепло. А в той комнате даже жарко будет, вот подтопим плиту. Вы там и обоснуетесь. А я буду здесь. Тут у меня и лаборатория, и библиотека, и диван на троих. Простора для меня достаточно. Я человек горный, привычный.
– Спасибо, Григорий Митрофанович, – поблагодарила она и еще больше застеснялась.
– Ну, ну. Похоже, что вы меня уже знаете. А вас как звать?
– Юлия… Чадаева.
– Юлия? Вот и прекрасно. Будьте как дома.
Он еще хотел сказать ей о тяжелых днях военного времени, о великом испытании русских людей на жизнеспособность и о том, что все течет, все изменяется и настанут черные денечки и для немцев, развязавших войну, когда они пожнут плоды своего злодейства. Но он ничего не сказал. Мысли и картины возникали в уме, а слов не было. Он еще не знал ее. Что она за человек? Может быть, под ее рваной шинелью бьется такое же рваное сердце?
Эта его обвиняющая, безосновательная мысль, по-видимому, передалась Юлии. Лицо ее передернулось, брови насупились, и она, вздохнув, бросила шинель в угол.
Между тем Фан-Фаныч, наконец-то сообразив, что с Григорием заявилась некая ленинградка, которую он провел к себе, чего никогда не случалось, весьма заинтересовался таким фактом. У Гришки девушка из Ленинграда! Вот так фунт изюму! Что сказала бы Варварушка, если бы была дома? Надо же поглядеть, что за гостья у Гришки-молчуна.
Фан-Фаныч, пыхтя в темноте, отдуваясь, натянул на себя брюки, рубашку, туго перетянул ремнем свой толстый живот, разбудил сухопарую, костлявую супругу, Феклу Макаровну, сказав ей, что вернулся Гришка из разведки и надо приготовить хороший ужин, так как у него находится гостья из Ленинграда, – зажег настольную лампу, а тогда уже умылся холодной водой, посмотрелся возле умывальника в зеркало и направился к Григорию.
И как же он был удивлен, этот пожилой добродушный толстяк, когда судьба свела его лицом к лицу с поразительной копией той самой Вареньки, которую он в памятный день августа 1931 года принес на своих руках вот в эту же самую комнату! И она вот так же сидела на жестком стуле, потерянная и одинокая, держа руки ладонями на коленях, обтянутых мокрым платьем, щупленькая, худенькая, и плакала, и такой же был у нее странный взгляд, глядевший внутрь, и такие же печальные, усталые глаза с синевою в подглазье. Не случайно же они, Фан-Фаныч и Фекла Макаровна, удочеряя Вареньку, выдали ее за пятнадцатилетнюю…
Фан-Фаныч до того растерялся и оторопел, что забыл, зачем пришел. Смотрел и смотрел на девушку, на ее завитушки светлых волос, какие были тогда у Вареньки. Такие же вот впалые щеки, тонкая шея, такая же робость и потерянность в чужом доме…
– Из Ленинграда, значит, приехали? – ответил на недоумевающий взгляд гостьи Фан-Фаныч. – Дорога неблизкая, да еще проклятущая война! Пораскидала людей по белому свету заваруха-метелица. И все еще метет, крутится, язви ее. Как вас звать-величать? Юлия Чадаева? А! Семью имеете? Эге ж. А кто ваши родители? Папаша профессор, хирург? Эвон как!.. Эге ж. Значит, Юлия?
Перехватив взгляд Григория, дядя сказал:
– Замечаешь, какая схожесть обличностью с Варенькой? Сейчас-то Варвара малость переменилась, а вот когда я ее первый раз увидел, в точности такая была. Как две капли воды.
Григорий невольно поежился и с нарастающим удивлением посмотрел в лицо Юлии. Оно снова показалось ему совсем юным, почти детским, но совсем не таким, как у Варвары Феофановны. Ничего общего. У Варвары Феофановны строже лицо, резче черты лица, чуть крупнее нос, хотя так же вздернутый, не такие обидчивые толстые губы, да и сам рост совсем не такой. А Юлия, как девочка, маленькая и собранная. Ее певучий, мягкий голос приятно трогал слух. Пушистая гарусная кофта, похожая на шубу, плотно обжимала все ее хрупкое, худенькое тело. Таким же гарусным шарфом была замотана шея. Целая копна мелко вьющихся волос, сплетенных сзади в две толстых косы, делала ее похожей на девочку-подростка. Что же общего с капризно-гордой и давно оформившейся красотой Варвары Феофановны? И вот эти маленькие красные руки, и тонкая девичья шея, на которой Юлия нарочито или инстинктивно прятала большое, словно выжженное пятно от осколочного ранения, чуть пониже уха, но пятно это все-таки виднелось, – все это повергло Григория в какое-то странное волнующее смятение. Он молча притащил дров, два ведра воды, большой медный таз и, растопив плиту, одним ухом прислушиваясь к разговору дяди Фан-Фаныча с Юлией, поставил воду греться.
– И как, трудно было в Ленинграде? – спрашивал Феофаныч.
– Да. – Юлия отвечала вяло, неохотно; ей чем-то не понравился матерый мужик. Не нравилось его пунцовое полнокровное лицо с висячим толстым носом.
– Трудно было в блокаде?
– Да.
– Голодухи хватил народ?
– Жители одно время получали по семьдесят пять граммов комбихлеба. И больше ничего.
– Что за «комбихлеб»? – похлопал глазами Фан-Фаныч, двигаясь на стуле. – Ах вон какой хлебушко! Напополам с охвостьями и мякиной. Едали и мы такой в отдельные периоды гражданки, при Колчаке, да и опосля. Чего не едал и не видал русский народ? Кряхтит, да везет. Никакой француз не выдержал бы. Ежли навьючить бы на француза всю нашу гражданскую, индустриализацию, коллективизацию, ликвидацию, пролетаризацию, издох бы в тот час. Англичанин обалдел бы и живым в землю залез по самые уши. А русский живет, хлеб-мякину жует, да еще и песни поет. В таком положении понятие требуется глубокое. Я сколько лет при пивзаводе, – всяких рабочих насмотрелся. Сибиряк – как пенек, кувалдой не убьешь. Россиянин – послабже, поджилки не те. Ну, а о прочих национальностях не говорю: потому – неприятности поимел из-за них через партийную критику. А какая у вас специальность?
– У меня? Еще никакой.
– Ишь ты! Оно, конешно, какие ваши годы? Лет восемнадцать? Двадцать три?! Училась? А! Где же? В академии художеств? Это в каком понятии? Спрашиваю: какую профессию получили бы после академии? Художницы? А! Вот оно что. Вся линия как у нашей Варвары.
Фан-Фаныч посидел еще минут пять, потолковал о том, о сем, что-то прикидывал себе на уме и, уходя, сказал Григорию, что Фекла Макаровна приготовит ужин. Подождал немного: не пригласит ли Гришка посидеть со своей гостьей за чаем, но Григорий не пригласил, и Фан-Фаныч ушел, немного разгневанный, убежденный, что племяш наверняка привез жену, но пока еще не оформил в загсе, скрывает. «Если Варварушка была под этот час дома, туго пришлось бы Гришке!»
3Юлия грелась у печи. Ей нравилась и эта маленькая комнатушка, и колеблющийся свет стеариновых свечей, и чернильный прибор на гематитовой глыбе, и множество фотопортретов на стенах, видов тайги, каких-то странных вышивок по полотну, и шаги Григория, мягкие, бесшумные, и то, как он хмурит свой высокий лоб, а главное, она не чувствовала того давящего стеснения, как это бывает в чужом доме.
Непривычная, почти забытая теплота жилой уютной комнаты напомнила Юлии жизнь с семьею на Васильевском острове в доме на Третьей линии, в котором она родилась, провела свое детство, юность… Жгучее чувство взволновало ее. Отец, мать, братья, студия академии, картины, потрясающий «Лувр» Ленинграда – Эрмитаж, мечты и желания – все это было так недавно, кажется, вчера, вот только что, сейчас!.. И всего этого теперь нет. Есть чужая комнатушка, какой-то хитрый, как ей показалось, толстый Феофан, его племянник Григорий, не очень-то разговорчивый.
Думая так, Юлия быстрым взглядом из-под бровей посмотрела на Григория.
– Будем ужинать и отдыхать, – сказал он.
– Спасибо.
– Что спасибо? Подвигайтесь к столу. А там вон вода согрелась, уйдете в ту комнату и будете мыться и все такое. Утро мудренее вечера, знаете ли. Вот вам молоко, чай, сахар, сало, а вот – маралье вяленое мясо. Это я еще осенью в Саянах добыл марала. Мы люди таежные. Чего нет на рынке, то достаем в тайге.
В сонной тишине комнаты слышалось мерное тиканье будильника, перестукивающегося с маятником больших часов на стене. В. печи трещали еловые дрова.
По обстановке комнаты, ее убранству можно было догадаться, что хозяйничала женщина. Дверь слева за бархатными гардинами вела в другую комнату, где было темно. Письменный стол со множеством ящиков и резной решеткой по бортам был завален грудой толстых и тонких книг по геологии. Здесь же стояла настольная лампа, часы, телефон, массивный чернильный прибор, представляющий собою гематитовую глыбу с геологическим молотком и компасом, на которой золотом было написано:
«Открывателю Ардынского месторождения полиметаллических руд, инженеру-геологу Григорию Митрофановичу Муравьеву»
Издали, от изразцовой печи, прочитав эту надпись, Юлия сразу вспомнила, как Григорий сказал на перроне Катюше в меховой дошке: «Вы тогда трещали – Ардын пустое место…» Значит, он, этот молодой геолог, твердо верит в свои силы, если уже не один раз шел против мнения товарищей, чтобы доказать на деле свою правоту!
Над столом в тяжелой раме висела картина, изображающая ночное шествие женщин с факелами. На переднем плане выделялась красивая женщина в белом, устремившаяся вперед, к чему-то невидимому. Мутные пятна на картине говорили о том, что она была недорисована.
Юлия долго смотрела на эту картину. Она сидела в углу у бархатных портьер, поставив ноги на перекладину между ножками дубового стула и положив свои маленькие руки на колени, обтянутые шерстяным платьем.
Григорий видел, как меняется выражение ее лица, принимая оттенки то грусти, то недоумения и тревоги. Никогда еще он не наблюдал такого выразительного лица у девушек, с которыми ему доводилось встречаться. Он вспомнил Катерину. Ее лицо показалось плоским и всегда однообразным, выражающим какую-то одну страсть. Если Катерина сердилась, то оно становилось отталкивающе холодным. И это выражение холодности держалось до тех пор, пока новое чувство не просыпалось в ее душе.
«А у нее такое меняющееся лицо! О чем она думает? Не думает же она о картине?» – Григорий так засмотрелся на Юлию, что не заметил, как папироса в его руке потухла.
Отгоняя какую-то мысль, Юлия глубоко вздохнула, повела головой и, встретившись с его пристальным взглядом, смутилась и покраснела.
Григорий успел перехватить этот ее настороженный взгляд, понял его и ответил успокаивающей улыбкой, как бы говорящей: «Ну, ну! Я понимаю вас, Юлия… Сергеевна. За четыре месяца «вагонов и вокзалов» вам довелось пережить много неприятного! Но в доме Муравьевых для вас нет ничего страшного!»
Всего этого Григорий не сказал. В присутствии Юлии ему было явно не по себе. И куда девалось его невозмутимое спокойствие, которым он всегда гордился? А что будет завтра? Что будет вообще?.. Как могло случиться, что вдруг у него из-под ног выскользнула почва? Странно! Очень странно!.. И неудобно. Неужели так приходит любовь? Так, вдруг, сразу?.. Нет, нет! В любовь он никогда не верил и всегда иронически подсмеивался над влюбленными, а вот теперь смеется над собой!.. Он даже никогда не употреблял это, по его мнению, старомодное слово, как ветхое, изжившее себя. Но какой смысл придаст он этому старомодному слову для себя? Любовь? Романтика? Нет, это не для него! Какая может быть любовь, когда он должен искать в недрах земли железо, золото, марганец, кобальт, молибден?.. Да мало ли у него забот и работы?! Да, да, мало ли работы?! И почему вдруг изменили ему привычная выдержка и хладнокровие? Странно! Очень странно!.. А вдруг ночь мигнет лукавым глазом и он будет прежним, а? Нет, нет!.. Он уже не тот, каким был вчера и все эти тридцать лет!
Вчера еще он жил по своим привычным внутренним законам, которые руководили им и направляли его усилия к определенной цели, избранной в детстве.
А цель эта была геология. Внести свой заметный вклад в геологию! И он отбросил в сторону все, что мешало движению к этой цели. Юноши проводили время на вечеринках, а он корпел над книгами. Часто он уходил в тайгу и читал землю, как следопыт. Да он и был следопытом, охотником за рудами. Еще в студенческие годы он никогда не позволял себе отрываться от этой цели. Хотя бы на два-три дня! Он дорожил каждой минутой. Почему-то, еще будучи в институте, он уже слыл ученым: вместе с дипломной работой защитил кандидатскую диссертацию… И опять-таки он не закупорил себя в четырех стенах лаборатории, как другие. Нет. Он ушел на производство. Он остался прежним пытливым и умным искателем… Его любили товарищи. Им гордились. Его ценили на производстве. Дело, дело и только дело – таков был его девиз. И с кем бы он ни встречался, в какую бы он дружбу ни вступал, он искал сочувствия и поддержки своим планам, всегда таким большим и заманчивым. Так он жил. Более того, даже свою будущую семейную жизнь он не отрывал от этих планов. Григорий считал, что если он обзаведется семьей, то и тогда не изменит себе: жена будет геологом, и они вдвоем будут продолжать то дело, которое он начал еще в институте.
«Надо достигнуть своей цели, – говорил он себе. – Ничто не может помешать мне. В Сибири должны вырасти промышленные гиганты, и по мере моих сил я буду подготавливать почву для этих гигантов».
И он все делал для того, чтобы в Сибири выросли промышленные гиганты. Работал запоем. Бродил в поисках руд по таким таежным тропам, где только изредка отпечатывалась звериная когтистая лапа. Спал где придется и как придется. Кое-кто ему завидовал и называл счастливчиком, которому всегда везет; но он был твердо убежден в том, что никакого везения или невезения нет, а есть только труд и упорство. Труд и упорство!
И вот – встреча. Вчера еще он о ней понятия не имел и счел бы того сумасшедшим, кто сказал бы ему о такой встрече; а вот сейчас у него почему-то покалывает сердце и жжет, жжет!.. Странно! Очень странно. Но приятно. Хорошо. Радостно. И ново. Ново! Этого он еще не переживал. И даже растерялся в своей комнате. Она сидит у плиты. Он украдкой смотрит на ее тонкие пальцы с розовеющими ногтями. Видит ее раскрасневшуюся щеку с пятном от мороза, мочку уха под пушистыми прядями волос, и чувство смущения и еще чего-то неясного захлестывает его волной. И ему так хорошо, так радостно. Очень хорошо! И даже комната стала какой-то особенной! Пусть бьется буря в ставни! Пусть пляшут вихри! А ему чудесно, чудесно в эту ночь…
4Он стоял, прислонившись спиной к углу резного шкафа, заложив руку за борт полурасстегнутого мехового жилета и скрестив ноги. Левая нога, на которую он переложил всю тяжесть тела, затекла. Но он не менял неудобного положения.
Он хотел говорить с нею. Слушать ее голос. Но Григорий знал: все, что он скажет ей в эту минуту, зазвучит фальшиво. А заговорить о том, как ему чудесно в эту минуту, этого он не мог.
Перехватив взгляд Юлии, обращенный к картине, Григорий, стараясь сообщить своему голосу равнодушный тон, спросил:
– Ну и как вы ее находите?
И удивился. Голос был не таким, к которому он привык. Что-то напряженное и глуховатое зазвучало в нем.
– Я ее не совсем понимаю, – ответила Юлия. – Я ее не совсем понимаю, – повторила она, легким, упругим шагом прошла по комнате и остановилась за спиной Григория. Он даже чувствовал ее дыхание. – А вы ее понимаете?
– Ничего… Ничего не понимаю, – признался он.
– Вот это мне нравится! – Юлия рассмеялась. – Для чего же тогда держать картину, если не понимать ее? Картина, даже и такая, что-то говорит. В ней много недорисованного, но и много мыслей. Мне кажется, художник писал ее с большим увлечением. Писал, бросал, сердился, проклинал, потом снова брался за кисть, но уже с другими мыслями. Менял план, идею и так все запутал, что потом отступил. Вот под этими черными пятнами было что-то нарисовано, а потом замазано. Видно, что у художника нет школы. Ни своей и ничьей. Тут что-то и от француза Латура, и от нашего Левитана. Художник сумел вызвать призраки из тьмы, оживил их факелом женщины в белом, а со всей картиной не справился. Я почему-то думаю, что эту картину художник писал много лет и так и не понял своей ошибки.
И таким же упругим шагом Юлия вернулась к стулу.
– Да, да, точно! Вы правильно разгадали картину, – сказал Григорий. Он хотел было закурить, но передумал.
– Ну, может, и не совсем правильно, – уклонилась Юлия.
– Правильно, правильно, – возразил Григорий, все еще испытывая чувство близости Юлии, хотя теперь она и сидела уже на стуле.
Григорий усмехнулся и показал на фотопортрет на стене.
– Вот художник картины.
С портрета на Юлию смотрела молодая женщина в нарядной белой блузе. Юлия сразу догадалась, что толстяк Фан-Фаныч говорил именно об этой женщине, сравнивая Юлию с ней. Это и есть та самая Варвара? Конечно, она. Но неужели Юлия и в самом деле похожа на нее?
Григорий тоже задержал взгляд на портрете. Ничего подобного, Варвара совсем не такая, как ее запечатлел фотограф. Отдаленное сходство. Ничего общего с той подвижной, энергичной и деятельной Варварой Феофановной, которую знает весь город. Глаза ее не такие серые, а голубые, с искринкой, ласковые и умные. На портрете нет ее рук, умелых, проворных и маленьких, как вот у Юлии. Все кипело в ее руках, когда она бралась за дело. На портрете нет ее улыбки, всегда задушевной и милой, согревающей душу в трудную минуту.
– Она – художница?
– Для себя. В пределах границ, установленных ей богом и природою, – усмехнулся Григорий. – Все так и случилось, как вы сказали. Картину она писала долго и каждый день меняла план и замысел. Потом бросила. Называется она: «Факельщицы искания». Черт знает какая символика.
– Вот как! – Взгляд Юлии стал более внимательным. – Я и не подумала, что здесь заложена такая мысль. А вот руины она хорошо написала. Так написать, надо их видеть. В руинах горит костер, вернее, он не горит, а тлеет, как сама мысль художника: то вспыхивает, то угасает. И от костра такие удачные светотени! Так сразу не напишешь. Нет, нет, тут надо много пережить, прежде чем придут такие вот ощущения. И женщину в белом забыть трудно. Она изнемогает, но ведет вперед. Она – мать. Это видно по ее лицу, по складкам губ, по тоскующему взгляду… А вот эта заря на синеве неба говорит о их цели. Женщины уходят от руин к рассвету. Вот что хотела сказать художница. И это у нее получилось здорово. И когда я первый раз посмотрела на картину, я сразу перенеслась в Петергоф.
– А почему в Петергоф? – спросил Григорий и, мягко ступая по ковру, подошел к плите и убрал булькающий чайник. – Я тоже бывал в Петергофе.
– Когда?
– За год до финской.
– А! С той поры много воды утекло. И что же вам понравилось там?
– Белые ночи и фонтаны, – наивно признался Григорий, задержав взгляд не раскрасневшейся щеке Юлии с пятном от мороза, и чувство смущения и еще чего-то неясного захлестнуло его волной. Стараясь сообщить своему голосу равнодушный тон, он продолжал: – Я и теперь еще помню фонтаны в лучах прожекторов, взморье. Чудесное там место. Просто царское. А что там теперь?
– Руины. Вот такие же, какие тут нарисованы.
Юлия с большими подробностями рассказывала о том, что стояло перед ее взором. И то трудное, что довелось пережить ей в Ленинграде, теперь, в этой комнате, воскресало не в тех мрачных, трагических красках, как было там, когда она подбирала трупы убитых, умерших от голода и помогала раненым, а как неизбежное и обыкновенное, что сделал бы каждый на ее месте. Но в этом неизбежном и обыкновенном было что-то вдохновенное и святое. И она готова была сейчас покинуть уютную теплую комнату Муравьева и вернуться в холодный, суровый Ленинград, чтобы быть рядом с друзьями.
Григорию нравилось, как Юлия говорила о картине. И только теперь, когда она заговорила о Петергофе и Ленинграде, он понял, что картина оживила в ее памяти все недавно виденное и пережитое.
Петергоф!.. Петергоф!
Давно ли он, Григорий, бродил по его поэтическим местам с Федором, и Федор знакомил его со статуями Самсона, Львиного каскада, фонтана Евы… А теперь там нет ни статуи Самсона, ни Львиного каскада, ни фонтана Евы, а есть гарь, руины, мертвые квадраты окон, обращенных на взморье, горький, едкий дым пожарищ! Война!
– Все это нам известно: голод и блокада… Руины и пожарища войны, – сказал Григорий. – Но вот пережить, выстрадать то, что пережили вы, ленинградцы, нам не довелось. Тут большая разница. Знать по газетам, слухам или все испытать самому!.. Я хотел бы быть там, а не здесь. Мой брат Федор встретил войну на Балтике на подводной лодке. И вот то, что потом он писал мне о блокаде, просто не укладывалось в сознании. А выходит – он ничего не придумывал.
Григорий говорил медленно, задумчиво. Движения его были неторопливые, но определенные и точные.
– Я очень рад. Как хорошо мы побеседовали, – искренне признался он. – Точно и я побывал там, где были вы недавно. – Григорий помолчал, словно все еще не мог оторвать свои мысли от далекого, изнемогающего, но героически борющегося города. И вдруг спохватился: – А об ужине-то мы и забыли. Ведь, кажется, от Ачинска ничего не ели. Да вы не стесняйтесь, кушайте, пожалуйста. Вот молоко, чай, маралье мясо, попробуйте… А завтра поищем ваших родителей – и все будет хорошо. Вам еще понравится наш город! Ей-богу, понравится.
5После ужина Юлия ушла в другую комнату. Григорий долго еще сидел за столом. На фарфоровом блюдце лежал оставленный Юлией кусок черного хлеба. Глядя на остатки ее ужина, он все еще видел ее маленькие руки и ту виноватую, нескладную улыбку, когда она, вставая из-за стола, сказала: «Спасибо, Григорий Митрофанович». И, уходя, пожелала ему спокойной ночи, выговаривая эти слова как-то по-детски робко и конфузливо.
Григорий поправил свечу и прислушался к стону ревущей за окном бури. Где-то в карнизах и за наличниками свистело, щелкало и дребезжало. Ноченька, какая ноченька буранная.
«Вот оно, как на фронте, – подумал Григорий. – Хотел бы я быть там, а не здесь! Федор свое отвоевал, теперь бы мне. Да куда я со своими близорукими глазами? А жаль!.. Если бы мне удалось, как бы хорошо было на сердце!.. А так черт знает что получается! Человек как человек, а на фронте не побывал. И все из-за глаз».
В его воображении вырисовывался горячий огненный треугольник: Ленинград, Петергоф, Красное Село, Пушкино, Красногвардейск… Все эти пять географических точек составляли треугольник, упирающийся вершиной в Красногвардейск. И он нарисовал его красным карандашом на желтом лоскутке бумаги. Потом отодвинул рисунок и долго сидел ссутулившись, положив руки на стол. Его взгляд упал на черный хобот телефона, прошелся мимо микроскопа и остановился на портрете Катерины. Почему-то Катюша не вызвала в его душе никакого чувства. Он смотрел на нее холодно, каким-то далеким, отсутствующим взглядом, а она улыбалась ему черными, чуть прищуренными глазами.
– Что же это, а?.. – сказал он вслух и стал не торопясь прибирать бумаги на столе.
Он хотел быть искренним с самим собой и понять то, что так взволновало его. Что это? Что? Может быть, все это пройдет и он потом еще посмеется над собой. Ведь если бы не было бурана, колючего снега, ее шинели, разве он испытывал бы это непонятное жжение в сердце? Неужели это только случайность, а?









