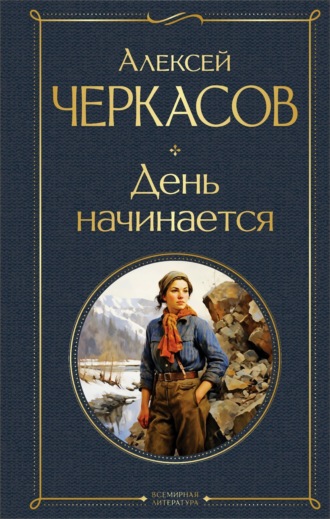
Полная версия
День начинается
Но случайности бывают разные. Случайность натолкнула его в предгорьях Кузнецкого Алатау на месторождение ценной руды. Там теперь рудник. А если бы не тот случайный северный ветер, что заставил его свернуть с маршрута, разве была бы открыта руда?
«Когда-нибудь и открыли бы то месторождение, но только не я и не в тот год, – сказал себе Григорий. – Значит, если бы не сегодня, то завтра или когда-нибудь, а я бы тоже влюбился? Что за вздор!.. Почему я не влюбился в Катерину? Почему? Или она не та женщина, которую мог полюбить я, Григорий? Три года я ее знаю; и за все три года не испытал и не пережил даже трех минут таких, как в эту ночь! Как и почему возникает такое чувство? Нет, нет, надо подумать, понять… Только не сейчас… Сейчас все равно ничего не пойму… Сейчас надо спать». И, сев на диван, стал стягивать с ног тяжелые болотные сапоги.
Он слышал, как Юлия лила воду в таз и потом плескалась, вероятно, мыла волосы. Закуривая, он пристально смотрел на Катюшу, пытаясь вызвать ее живую в воображении, и снова так некстати видел Юлию, греющуюся у печки… ее руки, лежащие на коленях, ее кудрявую голову и большие синие глаза на исхудалом лице. «Ну, я, кажется, недалеко ушел от безусого юнца», – подумал Григорий, ворочаясь на диване, а уснуть не мог.
«Хорошо ли ей там? Э, черт, как я не переменил простыни! Надо бы переменить. Неудобно».
– Вы еще не спите? – громко спросил Григорий.
– Нет. А что? – глуховато откликнулась Юлия.
– А вы… еще не разделись?
– Нет, – еще тише отозвалась Юлия.
– Повремените раздеваться, – каким-то тягучим, недовольным голосом попросил Григорий. Натянул на себя полосатый халат, нашарил ногами войлочные туфли и как бы нехотя прошел в комнату Юлии. Не взглянув на ее мокрую голову, открыл тетушкин сундук, достал простыню, пододеяльник, сменил на кровати белье и так же молча вернулся к себе.
Глава третья
1Тревожно прошла ночь для Катюши. Она долго бродила по проспекту. В ее прогулке было нечто значительное, поворотное. После встречи с Григорием на вокзале она поняла, что ее любовь вошла в какой-то тупик. И назад не вернешься, и если дальше идти – можно сойти с рельс, а тогда – кто знает, что будет тогда?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









