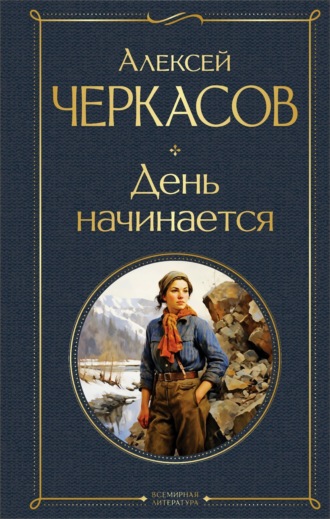
Полная версия
День начинается
Не хотела думать, а думала. Не думать она не могла, потому что ее все время толкали к этому то намеки простоватой Дарьи, то строгий пытливый взгляд Феклы Макаровны, как бы мимоходом бросившей в разговоре что-то о девичьей совести и чести. Все это беспокоило и злило Юлию. И она, то краснея, то бледнея, то хмурясь, то закусывая губу, пыталась определить, есть ли что-нибудь унизительное в ее случайном знакомстве с Муравьевым. «Что же было? – спрашивала она себя. – А ничего не было. Да, да. Была ночь… буран… снег… незнакомый город! Вот что было! Я же ведь не знала, кто он и что он, кроме того, что он человек с добрым сердцем. Так что же из этого? Почему я должна была из ложной скромности отказаться от участия? И разве он и я виноваты в том, что ни у Феофана, ни у Пантелея не оказалось свободного угла? И Дарья… вот только Дарья! Дарья высказала то, что думают теперь все Муравьевы: Григорий привез жену!.. Да кто им дал право так думать? Чьим аршином они меряют меня?» – строго спросила Юлия, медленно поднялась на ступеньку очищенного от снега крыльца и нерешительно остановилась. «Пусть думают, что им угодно», – сказала она себе и посмотрела вдоль ограды. Невдалеке от крыльца шумела одинокая старая ель с уродливо изогнувшейся вершиной. С берегов Енисея дул ветерок. И шум ели, и белесые, вздувшиеся тучи, ползущие низко над оградой, и рубчатые барханы сугробов – все это напомнило Юлии, как вчера она стояла где-то здесь, в ограде, такая же одинокая, как эта ель, и даже не верила, что попадет в теплый угол. «Да, да, они этого не пережили! Пусть Дарья думает что угодно. Будущее покажет, кто я и что я».
Успокоив себя, Юлия вошла в багровую комнату и сразу же припомнила то сияющее, необыкновенное выражение лица Григория, когда он смотрел на нее ночью, слушая ее объяснение картины. Все это никак не вязалось с ее оптимистическими выводами. «Что-то было! Что-то было!» – говорил ей внутренний голос.
«Ах, ничего не было! Вздор. Решительно ничего не было!» – со злом заглушала Юлия этот внутренний голос, поспешно проходя к себе и захлопывая дверь, точно в багровой комнате жила тень Григория Муравьева, которая следила за нею.
Открыв чемодан и присев на корточки, Юлия пересчитала деньги. Их осталось очень немного, всего 356 рублей. Что это за деньги, если один пирожок на базаре стоит 15 рублей?! Значит, надо немедленно найти работу. Но какую работу? Она умеет писать портреты. А может быть, в городе есть какое-нибудь товарищество художников? «Найду работу», – уверила себя Юлия, перебирая документы и свои ленинградские зарисовки.
Ее продуктовые рейсовые карточки были еще не отоварены. Юлия решила сегодня же отоварить их. Полушубок она вернет Муравьеву и будет ходить в шинели. «Не следует прибегать к его помощи!» – предупредила себя Юлия еще раз, обдумывая свое дальнейшее поведение в доме Муравьевых.
Перебирая вещи, она достала тяжелый том сочинений Гете и долго держала книгу, густо испачканную кровью раненого моряка. «И он тоже миф, – подумала она о незнакомом лейтенанте флота. – Миф, миф, миф!.. Я сама его создала. Как создают романы, образы картин, так и я вообразила свою любовь», – подумала Юлия и положила книгу на дно чемодана.
«Скорее всего, он не тот, каким я хотела бы его видеть. А то, что он говорил тогда, сказано было в агонии».
Успокаивая себя такими рассуждениями о раненом лейтенанте флота, Юлия все-таки никак не могла уничтожить его образ в своем сердце. О лейтенанте красноречиво говорил том Гете, испачканный кровью. Смертельно раненный, лейтенант держал в руках сочинения гения того народа, потомки которого так варварски стреляли по Ленинграду.
«Я ничего не могу объяснить, – призналась Юлия. – Мысли путаются, ясности нет. Как и почему живет во мне образ лейтенанта и почему я в трудные минуты всегда мысленно обращаюсь к нему? А ведь он миф! Мгновение! Суровая минута жизни – и только! И эта суровая минута так потрясла! Как понять и объяснить все это?»
7Утро, вначале столь радостное, сияющее, солнечное, а затем пасмурное, проведенное в мучительном раздумье о неловкости своего положения в доме Муравьевых, закончилось для Юлии в центре незнакомого города.
Все в городе на Енисее было необыкновенно. Улицы были прямые и ровные, как стрелы. Проспект имени Сталина чем-то напоминал Невский, и Юлия с удовольствием шла по этому проспекту, вспоминая Ленинград, присматриваясь к веселой архитектуре домов, к незнакомым лицам прохожих. Она чувствовала, что душа города не была суровой, ледяной, как о том можно было подумать издалека, а радушной и даже нежной. Будто тут был не север, а благодатный юг.
Высокие седловатые горы полукольцом обнимали город. По окраинам горные отроги выходили к Енисею, нависая над рекою крутыми берегами. На одной из гор маячила белым силуэтом древняя часовня со шпилеобразным верхом. У Юлии возникла мысль сделать зарисовки часовни.
И уже дома, разбирая свои этюды и эскизы, Юлия все еще думала о городе.
Во второй половине дня пришла Дарья в желтой, отороченной мехом шубке, а с нею человек в сером пальто и мягкой фетровой шляпе не по сезону. Дарья оставила незнакомого человека в багровой комнате, боком протиснувшись в створку двери, взглянула на Юлию и сразу заговорила о платье, которое ей очень понравилось. Она пощупала и подол платья, и как подрублен низ, и два раза повернула Юлию.
– Ах да, я и забыла, – опомнилась Дарья. – К вам пришел человек из Союза художников. Я уже познакомилась с ним… Кузьма Иванович Воинов, так его звать. Вроде Григорий Митрофанович позаботился. – И Дарья пригласила Кузьму Ивановича Воинова в комнату.
Воинов, энергичный молодой человек лет двадцати пяти, в сером драповом пальто нараспашку, нехотя переступил порог, комкая в руках шляпу, хмуро окинул комнату цепким, прищуренным взглядом и, словно придавленный обилием картин, замер у дверной притолоки. Вся его нерешительная поза выражала одно стремление: назад, назад из этой комнаты! «Влип, влип, – говорил его растерянный и рассерженный взгляд, устремленный на картины. – Нечего мне тут делать. Сплошной импрессионизм, черт возьми-то. Если эта художница училась импрессионизму в академии, то и пусть она едет куда-нибудь подальше от нас. И чего хорошего нашел Муравьев? А еще поднял всех на ноги! Нет, нет, назад! Назад!» – так думал Воинов, окидывая быстрым взглядом то одну, то другую картину. Он был уверен, что все эти картины принадлежат художнице, о которой так много сегодня говорил Муравьев. «Назад, назад, назад! Такие картины можно писать и без академии».
Воинов, председатель краевого отделения Союза художников, ненавидел любые отклонения от реализма в искусстве. Воинов был художником-самоучкой. Когда-то он учился в сельской школе, затем работал мельником и все свободное время отдавал рисованию. Потом Воинов приехал в краевой город, где был сразу же отмечен общественностью. Его картины побывали на Всесоюзной выставке. И он, почувствовав поддержку, не только сам старался писать хорошие картины, но и других заражал своим неиссякаемым вдохновением.
«Что я ей скажу? – думал Воинов, не зная, как начать разговор с художницей. – Сразу вдруг сказать ей правду как-то неудобно. Она же в академии училась, и такая мазня на стенах!..» – И он вспомнил Ясенецкого, директора школы живописи и ваяния. – «Вот и будет каша! Ясенецкий сцапает все ее картины и будет носиться с ними по городу. Нет, уж лучше я ей сразу все выскажу!» – решил он.
Юлия заметила хмурый взгляд Воинова и поняла, о чем он подумал. В глазах ее заискрился смех.
– Не нравятся картины? – спросила она нарочито серьезно.
Воинов смутился и переступил с ноги на ногу.
– Мы с вами еще не знакомы, – сказала она и назвала себя.
Юлия пожала его тонкую руку и предложила стул. Дарья, недовольная хмурым взглядом, каким Воинов смотрел на картины, ушла и уже из-за двери крикнула Юлии, чтобы она пришла к ней ужинать.
– И давно вы писали эти картины? – спросил Воинов, усаживаясь на стул и косясь глазом на сеттера в тронном кресле. – Чьи, вы говорите? А, хозяйки! – оживился Воинов. – Э, тогда мне все ясно!.. – Воинов встал со стула, положил шляпу на стол и снова сел.
Юлия показала свои зарисовки и эскизы картины «На линии обороны». Воинов смотрел и на портрет неизвестного лейтенанта флота, которого Юлия зарисовала по памяти, и на солдат у противотанковой пушки на линии обороны Ленинграда, где Юлия работала до последнего ранения; и на разбитый автобус с лежащими вокруг человеческими телами после взрыва тяжелого снаряда; и на одинокую печальную старушку в вечерних сумерках на Невском, склонившуюся над мертвым телом старика; и на изможденную девочку у взорванного снарядом хлебного магазина.
– Вот она, правда… Вот она какая, правда, без заумничания и разных выкрутасов, – задумчиво проговорил Кузьма Воинов, медленно покачивая головой; волосы его рассыпались и свисали длинными прядями на лоб. – Какие зарисовки!.. Какая страшная картина войны! Надо думать, зарисовки с натуры? И вам не страшно было там, под огнем?
– Я была на передовой, – сухо ответила Юлия.
– Да? Ну вот!.. А мы тут… то есть некоторые сидят и выдумывают такую чепуху, что прямо тошно! Вы смелая женщина, извините. Мне нравятся смелые. Вы рисовали, зябли вместе с солдатами в блиндажах, думали и жили тем чувством коллективизма, который еще не отражен достойным образом у нас в искусстве. Но как выразить коллективизм в портрете, вам не приходилось подумать? Сразу трудно ответить? Но все-таки, знаете ли, интересный вопрос! Я вот все хотел бы написать портрет, такой портрет, в котором чувствовалась бы гордость за коллектив и любовь к коллективу! Эгоизм – прошлое. Корыстолюбие, слащавость, чопорность, надменность – все это прошлое. Это давно зарисовано, разрисовано и изрисовано! А вот новое, коммунистическое, только начато. А именно это надо показать в полном размахе!.. Оно воюет на фронте! Оно есть в самом облике советского человека, и художник должен это видеть.
В серых прищуренных глазах Воинова вспыхнуло негодование на самого себя за то, что он еще не сумел написать настоящую большую картину.
Поговорив об искусстве. Воинов приступил к деловому разговору. Он поддержал желание Юлии закончить картину «На линии обороны» и одобрил ее замысел написать новую картину «Лейтенант флота».
– Темы у вас значительные, глубокие, – говорил он, – только вы смелее их разрешайте! Такие картины, как «На линии обороны», очень сейчас нужны. Пишите! А в школе живописи будете читать курс теории. Это вас материально устроит, и нам поможете. С Ясенецким будут у вас драки, ну да ничего, там, где нет борьбы мнений, там рутина и застой. А вы, мне кажется, не из трусливых. У нас все есть: и студии, и деньги, все есть! А вот картин… картин хороших нет.
– А квартиры? – спросила Юлия.
– Вам нужна квартира? М-м. Нету. И не предвидится! Я сам живу прямо в студии. А как у Муравьевых?
Юлия ничего не ответила.
8Понемногу Юлия начинала приходить в себя после своего мучительного многомесячного путешествия. Ушли мрачные, давящие впечатления прошлого, ушла та растерянность, с которой она вступила в дом Муравьевых. Она имеет работу. Написала запросы о семье в адресные столы многих городов. Зарисовками, которые делала Юлия наспех, по горячим следам в Ленинграде, заинтересовались в крайкоме комсомола. Теперь она работает над своими картинами и читает курс по теории и истории живописи в школе живописи и ваяния.
«Вот если бы я сумела написать настоящую картину, – думала Юлия в эти дни, – такую картину, на которую не посмотрят равнодушно!.. В лицах, движениях запечатлеть что-то такое светлое, разумное и уверенное в завтрашнем дне. И не мечты это, а сама правда! Только надо верить, верить в эту правду!»
Но если на работе у Юлии все было хорошо и она сразу же заняла свое прочное место в среде художников, то в ее личной жизни чувствовалось что-то неладное. Юлию все время беспокоила какая-то фальшь во взаимоотношениях с Григорием Муравьевым. Вскоре после посещения Кузьмы Воинова Григорий передал Юлии ордер горжилуправления на его большую комнату. В разговоре с нею Григорий воздержался от лишних слов. Он был уверен, что встретит ту же робкую, стыдливую Юлию, какую узнал в первый день, и удивился, что той Юлии не было, а была Юлия серьезная, настороженная и для него еще непонятная. И в то же время Григорий был рад, что встретил возмужавшую Юлию. Ее вид еще более волновал его, пьянил, наполнял сердце радостью. И он, собрав все свои силы, старался не выдать ей своих чувств.
Юлия же поняла сдержанность Григория как раскаянье в том, что он, Муравьев, так неосмотрительно оказал ей гостеприимство, а вот сейчас вынужден уступить даже жилплощадь.
– Я не хочу вас стеснять, – сказала она. – Я благодарна вам за участие, но… я… я, может быть, найду квартиру.
– Вот видите, все идет к лучшему, – сказал в ответ Григорий. – Еще недавно все у вас было так неясно, а вот сегодня вы уже заняли свое место в нашем городе! И я буду очень рад, если у вас на работе все будет хорошо и вы напишете настоящую картину! Я буду очень рад. А ордер возьмите. Может быть, вы думаете, что вы стесните меня? Да я готов уступить вам всю квартиру!.. Когда-нибудь и я побываю у вас на Васильевском острове. Да нет, навряд ли, – возразил он себе и, невесело улыбнувшись, ушел в свою комнату.
Юлия потом часто припоминала этот коротенький разговор. Она понимала чувства Григория, но ответить на них не могла. Юлия говорила себе: «Он хороший, добрый». И только. Большего она не могла сказать, потому что верила в какую-то свою, особенную любовь, которая ворвалась в ее сердце, как буря.
Глава пятая
1Если Дарья, жена Пантелея была добрая и отзывчивая, словоохотливая женщина, не умеющая скрывать ни своих чувств, ни мыслей, готовая оказать участие любому, кто нуждается в помощи, то Фекла Макаровна, жена Феофана, отличалась немногословием и твердостью характера.
Ей было за сорок, но она выглядела совсем молодо. На прииске Кирка в 1919 году Фекла Макаровна вывела партизанский отряд на станцию Сон и перехватила удиравшего к белым золотопромышленника Бабушкина. В 1929 году Фекла Макаровна провела год в деревне на раскулачивании и за потачку одному подкулачнику собственноручно засадила в каталажку на две недели сердобольного Феофана. Живя в городе, Фекла Макаровна три раза избиралась в горсовет и теперь была руководителем группы депутатов, которым было поручено организовать помощь районам, освобожденным от фашистской оккупации. И на все у нее хватало времени, и везде она успевала.
Вечером в субботу Фекла Макаровна была одна. В черном бархатном платье она стояла перед зеркалом и старательно причесывалась.
Вошла Дарья, села на лавку, вздохнула:
– Ну, шуму будет!..
– Какого шуму? – спросила Фекла Макаровна, не поворачивая головы.
– Опять содом подымут.
– Кто? – Фекла Макаровна резко повернулась к Дарье. – Кто содом поднимет?
– Да Григорий! Он опять позвал Пантелея и Феофана. Вроде как военный совет держат там, у Григория. Он говорит, что надо послать на фронт муравьевский танк.
И, передохнув, Дарья сочла своим долгом сообщить Фекле Макаровне о душевном состоянии художницы Юлии Чадаевой.
– А она-то все вздыхает, – начала Дарья.
– Кто? – Фекла Макаровна оживилась.
– Да кто, Юлия.
– Юлия? А чего она вздыхает?
– Про то секрет. Кто ж ее знает, о чем она вздыхает, – протянула Дарья песенным напевом.
– Ты не финти, – потребовала Фекла Макаровна, – выкладывай, что у тебя на уме.
– А нечего и выкладывать, любит она, по всему видно, – сообщила Дарья.
Фекла Макаровна насторожилась.
– Кого любит? – глухо спросила она.
– Да кого… – Дарья замешкалась, лукаво прищурила глаза и, что-то сообразив, решила обмануть Феклу Макаровну. – Знать, того, который заполнил ее сердце. Тут как-то раз вошла я к ней, а она сидит с толстой книгой и так это задумалась. Показала мне книгу какого-то немецкого писателя. А книга вся испачкана кровью. Я спрашиваю: «Чья книга-то?» Она и говорит мне: «С этой книгой, Дарьюшка, связаны у меня очень хорошие и волнующие воспоминания. Тебе, говорит, их не понять». А что понимать-то? Вот она какая, любовь у девушек, которые учились в академии.
Дарья сокрушенно покачала головой и так тяжело вздохнула, что ее вздох разбудил дремавшего рыжего кота, который, выгнув спину, сладко потянулся и нехотя перешел с теплого места под стул Феклы Макаровны.
– Да вот что-то еще получится, – вдруг загадочно проговорила Дарья.
– А что? – поинтересовалась Фекла Макаровна. – Выкладывай!
– Да что выкладывать? Разве не видишь перемены в Григории? Скрытный он человек, да вот лицо-то куда скроешь? – спросила Дарья, увлекаясь своими психологическими рассуждениями. – Ровно что потерял и все ищет, все ищет, а найти не может. Диво!.. И только вот сегодня вечер дома, а то и глаз не показывает. Я ему тут как-то на неделе заикнулась, говорю: для Юлии подыщу квартиру. Он на меня так зыркнул! Вот оно что. А она, ленинградка, и глазом не ведет. Видывала, мол, я таких!.. Вот оно что! И на работе у Григория худо.
– Что у него худо? – спросила Фекла Макаровна, взглянув на Дарью с нескрываемым недоверием.
– А то!.. Приречье-то, верно, разведывать не будут. Вот и рухнут у него все планы. Нелидов, говорят, сам против Приречья. И Одуванчик с ним вместе. Вот оно что!
Фекла Макаровна поднялась со стула. В окно кто-то тихонько постучал пальцами.
– Ну, твоих россказней не переслушаешь, – заявила она. – Торопят меня, некогда тут сидеть с тобой. Моему скажешь, в чулане к ужину все приготовлено.
Уже на крыльце Фекла Макаровна строго предупредила:
– Смотри, Дарья, мужикам не мешай держать совет. Григорий знает, что делает. Время такое: все отдаем фронту. Так что смотри!
– Да что я, дура, что ли? – всерьез обиделась Дарья, направляясь к высокому резному крыльцу, ведущему на половину Григория.
2Все эти девять дней после ссоры с Григорием на вокзале и встречи с незнакомой девушкой из Ленинграда Катерина, как ни старалась думать, что Григорий остался для нее прежним, все-таки убедить себя не могла. Она не хотела замечать перемену в Григории, но эту перемену, как назло, замечали другие и говорили ей об этом. И заведующая научной библиотекой геологоуправления Нина Васильцева, с которой Катерина дружила, видела перемену в Григории; и геологи Стародубцев и Меличев говорили Катерине о том, что Григорий Митрофанович стал совсем не такой, каким они его знали. Что-то появилось в нем новое и красивое. Но что это новое и красивое рождено в нем не по воле Катюши, об этом они многозначительно умалчивали.
– А что вы так интересуетесь переменами в Григории? – иногда спрашивала Катерина. – Я, кажется, меньше вас интересуюсь! И мне вовсе не обязательно слушать о каких-то переменах в характере товарища Муравьева.
Так она отвечала подругам, но не то было на ее сердце. Катерине было просто больно. Она боялась даже встретиться с Григорием, откладывая эту встречу со дня на день.
– Ты слышала, – спросила однажды у Катерины Павла-цыганка, – Григорий Митрофанович устроил ленинградку у себя как жену? Он отдал ей свою большую комнату, а живет теперь в красной норе, – так Павла называла багровую комнату. – И устроил-то как!.. И подрамники установил для картин. И краски достал!.. Она ведь художница.
Чем больше Катерина узнавала подробностей о незнакомке и о том, как она устроилась в доме Муравьева, тем старательнее избегала встречи с Григорием. Она искала причину разрыва не в себе, а в нем. «Он ко мне только привык, – говорила Катерина. – А привычка – это еще не любовь. Нет, нет, была не только привычка! Мы жили единой мыслью, одной целью. Так почему же сейчас Григорий все забыл?»
Три дня назад Катерина в крайкоме комсомола случайно встретилась с незнакомкой из Ленинграда. Ленинградка сидела в кабинете первого секретаря Николая Михайлова и показывала свои зарисовки. Катерина ее не узнала и стала смотреть на рисунки.
– Да у вас все зарисовки фронтовые, – сказала Катерина, рассматривая этюд, изображающий солдат у противотанковой пушки. – Интересно!.. Очень интересные зарисовки! И вот этот солдат с сержантом, как живые, стоят у пушки. Чтобы так рисовать – надо знать жизнь! Очень хорошо, правда, товарищ Михайлов? Да?
– Ну конечно! – ответил Михайлов. – В том-то и дело, что у товарища Чадаевой война не просто вымысел, а война как она есть в натуре. И знаете, Катерина Андреевна, Чадаева для нас будет писать картину «Лейтенант флота». Пожалуйста, покажите нам эскизы картины.
И вот тут-то Катерина узнала ее. За спиной Чадаевой, на стуле, висела армейская шинель из грубого солдатского сукна. Катерина так посмотрела на эту шинель, а потом в лицо Юлии, что та, подняв брови, недоуменно улыбнулась.
– Вы удивляетесь, что у меня солдатская шинель? – спросила она, доверчиво взглянув Катерине в лицо. – Пока я ничего другого не имею. Только эту шинель. Да еще есть у меня летнее пальто. Но я его выстирала, и оно еще не просохло. Так мне пришлось выехать из Ленинграда. Дом, в котором я жила, сгорел, и я осталась в летнем пальто. Да все это пустяки! Не все ли равно, в шинели я или в манто? – И она снова дружески улыбнулась.
– Ах, да все это дело наживное! – отмахнулся Михайлов и стал показывать Катерине эскиз «Лейтенанта флота». Катерина насупилась и мельком взглянула на эскиз.
– А вы уверены, что тут живет правда? – вдруг сказала она и жестом указала на зарисовки Чадаевой, лежащие грудой на столе Михайлова.
– Правда? А как вы понимаете правду? – спросила Чадаева, повернувшись к Катерине. – Тут то, что я видела и пережила в Ленинграде. И не только то, что я видела, но и то, что перечувствовала за время блокады. В зарисовках мои мысли о войне, мои идеи. Ведь картины художников – не абстрактная правда. Совсем нет! Картина художника – это его мысль, мечта! Изображая человека, художник, в сущности, выражает свои мысли об этом человеке.
– Ну, это мне совсем не интересно, – сказала Катерина. – Да и кому интересно знать ваши мысли и идеи? Я хочу видеть в картине то, что мне нравится, а не то, что вы мне стараетесь внушить! Зачем мне ваши мысли? У меня своих достаточно. Значит, тут правды нет!.. Вы, может быть, смотрели на войну из бомбоубежища, а я хочу видеть ее глазами тех, кто стоял на передовой!
Все это Катерина высказала залпом. Михайлов в недоумении пожал плечами.
– Я смотрела на войну не из бомбоубежища, – взволнованно, но тихо ответила Чадаева. – А впрочем, не все ли равно, как я ее видела, важно то, что вы, товарищ, высказали неправильные мысли. Художник потому и художник, что он не фотограф, а творец. А вы как раз требуете обратного! Вы признаете фотографию, а не искусство! Но фотография не даст вам того, что даст картина художника. Что бы дала вам фотография, изображающая, как Иван Грозный убивает сына? Она вызвала бы у вас чувство отвращения. И только! А картина Репина – поэма, потрясающая поэма, которую читают как волнующую историю. Заимствуя у природы образы для своих картин, художник не копирует их, а сознательно видоизменяет, как подсказывает ему замысел и его идеи.
– Только так и понимается творчество, – сказал Михайлов и подошел к Катерине. – Не ожидал я, Катюша, что ты так плохо понимаешь искусство.
– Я понимаю так, как мне нравится, – ответила Катерина. Она чувствовала, что говорит нелепость за нелепостью, но, уже начав, не могла остановиться. Катерина и краснела, и мрачнела, но никак не могла побороть в своем сердце чувство неприязни к Чадаевой. Вышло крайне глупо.
«Лучше бы я не выдвигала никаких возражений, – упрекала она себя потом. – И как это у меня сорвалась с языка такая глупость? И все эта ленинградка! Если бы я узнала ее сразу, я бы ушла. А то сначала расхвалила зарисовки, а потом наговорила и сама не знаю чего! И Михайлову было неудобно. И мне дважды стыдно. Ленинградка теперь расскажет Григорию, а он и в самом деле подумает, что я ничего не понимаю ни в искусстве, ни в творчестве».
3Братья Муравьевы, Феофан и Пантелей, собрались в багровой комнате Григория на «военный совет», о котором говорила Дарья Фекле Макаровне.
Феофан, в приискательских плисовых штанах и вельветовой рубахе с пояском, толстый, высокий, с остатками рыжих волос у висков и на затылке, сидел на диване и изредка вставлял замечания в разговор Пантелея с Григорием. Пантелей, десятью годами моложе Феофана, худощавый, подвижный, в белой рубахе и в черных брюках, вправленных в серые пимы, сидел у стола и искоса глядел на Григория. Дарья, как только пришла от Феклы Макаровны, удалилась в комнату Чадаевой и сидела теперь у открытой двери, жадно прислушиваясь к разговору мужчин.
Между Григорием и Пантелеем шел спор о роли личности в коллективе.
– Понятие у тебя, Пантелей Фомич, очень тугое, устаревшее, – сказал Григорий, бросая сердитые взгляды то на Пантелея, то на Феофана.
– Какое есть, тем и живу, – ответил Пантелей. – А вот петухов, которых ты называешь личностью, не уважал и не гнул перед ними спину. Кто личность? Коллектив! И он, только он, держит на своем хребте все государство. А ты, не в обиду будет тебе сказано, лезешь в петухи! Ты все норовишь решать сам, по мерке своего ума и характера. А как это назвать? Диктаторством! Так оно и есть. Я тебе еще в Белогорье об этом говорил.











