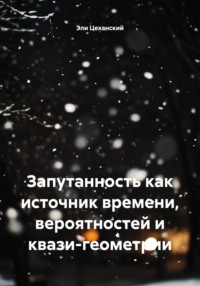Полная версия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая
Всё это, повторюсь, не является чем-то плохим или предосудительным само по себе, в умеренных дозах. Но когда оно становится главной целью, внутренним стержнем, основным оправданием и содержанием жизни – вот тогда рано или поздно наступает то, что всегда приходит в таких случаях: пресыщение, скука, и, в конечном итоге, ощущение глубокого внутреннего опустошения.
Речь идёт не о теории, а о пути, который некоторые проходили на собственном опыте. О тех отрезках жизни, которые, наверное, можно было бы назвать периодом «неуёмного потребления» – не столько в финансовом, сколько в человеческом, экзистенциальном смысле. Когда ты всё время хочешь чего-то нового, чего-то ещё. Когда постоянно кажется, что вот сейчас, за следующим поворотом, будет «лучше», «вкуснее», «интереснее», «сильнее», «глубже».
Это, по сути, отчаянная попытка заполнить внутреннюю пустоту, образовавшуюся на месте утраченного смысла, чем-то внешним, ярким, возбуждающим. И это действительно даёт временный эффект. Но очень ненадолго. А потом становится только хуже. Потому что следующее искомое удовольствие должно быть ещё интенсивнее, ещё новее, ещё оригинальнее, чтобы перекрыть растущее чувство пресыщения и внутренней неудовлетворённости. И его становится всё труднее и труднее найти.
Всё это вполне закономерно. Потому что если ты внутренне убеждён, что твоя жизнь заканчивается вместе со смертью твоего тела, и никакого другого «измерения» у неё нет, то единственная логичная стратегия, которая остаётся, – это действительно попытаться максимизировать количество и интенсивность удовольствий в отпущенный тебе короткий срок, и одновременно минимизировать страдания. А если это по каким-то причинам не получается (а это никогда не получается в полной мере и надолго) – то начинается тревога, фрустрация, раздражение, ощущение, что «жизнь проходит зря», что «я живу не так, как мог бы и должен был бы».
В какой-то момент ты с удивлением замечаешь, что сам твой способ жить превращается в какую-то бесконечную, лихорадочную суету. Ты всё время находишься в поиске: чего бы ещё захотеть? Какой бы ещё цели достичь (часто лишь для того, чтобы испытать кратковременное удовлетворение от её достижения)? Куда бы ещё поехать? Что бы ещё купить? Кого бы ещё «полюбить» (часто путая любовь с погоней за новыми эмоциями)? Но на самом деле – ты просто бежишь. Бежишь от самого себя, от ощущения внутренней пустоты, от страха перед бессмысленностью всего этого калейдоскопа впечатлений, который в любой момент может оборваться. Бежишь от понимания, что все эти удовольствия невозможно удержать, они утекают, как песок сквозь пальцы.
Когда нет опоры на внешний, надличностный смысл, удовольствие становится его суррогатом, дешёвой подделкой. Оно не даёт настоящего удовлетворения, не питает душу. Оно просто на время приглушает тревогу, отвлекает от вопроса о смысле. И чем дольше ты живёшь в такой парадигме – тем отчётливее, рано или поздно, приходишь к печальному выводу, что сама твоя жизнь, несмотря на всю её внешнюю насыщенность и яркость, начинает казаться пустой. Она становится красивой, эффектной, полной событий – но пустой по своей сути. Потому что она ничего не означает в перспективе вечности. Потому что всё это неизбежно закончится. Потому что ты всего лишь смертное тело, набор химических элементов.
Это, пожалуй, один из самых «мягких» на первый взгляд, но на самом деле очень разрушительных эффектов материалистической картины мира, когда она становится доминирующей философией жизни. Она ведь не запрещает тебе жить полной жизнью, наслаждаться, стремиться к счастью. Она просто как бы шепчет тебе на ухо: «Живи, как хочешь, бери от жизни всё. Но только знай: ничего за этим не будет. Никакого высшего смысла, никакой вечности, никакого итога, кроме распада».
И именно это знание, эта червоточина в самом основании бытия, в конечном итоге и ведёт к опустошению. Не сразу, не в один момент – а постепенно, по мере накопления опыта «просто жизни», лишённой трансцендентного измерения. Когда смысл был полностью сведён к удовольствию, а само получение удовольствия превратилось из радости в своего рода обязанность, в самоцель. И ты в какой-то момент просыпаешься утром и уже не знаешь, зачем тебе этот новый день.
Разумеется, смещение жизненных ориентиров в сторону гедонизма – это лишь одна из реакций на утрату вечной перспективы, и здесь возможно справедливое возражение от многих читателей. «О каких удовольствиях и погоне за впечатлениями вы говорите? – могут сказать они. – Моя жизнь отнюдь не калейдоскоп развлечений, а череда ежедневной борьбы, трудностей и страданий».
И это возражение абсолютно уместно. Да, к сожалению, страдание является неотъемлемой, а для многих – и преобладающей частью человеческого опыта. Оно гораздо более универсально, чем счастье или безмятежность. И именно поэтому вопрос о том, как материалистическая картина мира влияет на наше восприятие страдания, становится, возможно, даже более острым и болезненным, чем вопрос об удовольствиях.
Когда из человеческой картины мира исчезает идея бессмертия души и связанная с ней перспектива вечности, вместе с ней исчезает и любая возможность как-то осмыслить и оправдать страдание. Само страдание, конечно, никуда не девается из человеческой жизни. Болезни, потери, разочарования, душевные муки – всё это остаётся. Но оно больше не находит своего объяснения в какой-то высшей логике, не вписывается ни в какой замысел. Оно не имеет цели. Оно не ведёт ни к чему, кроме самого себя.
Раньше, в рамках религиозных или традиционных мировоззрений, страдание, при всей его тяжести, часто имело смысл. Оно могло восприниматься как испытание, ниспосланное свыше для укрепления духа. Как плата за грехи или ошибки, как путь к очищению. Как неизбежная часть земного бытия, готовящая душу к переходу в иной мир. Как возможность для проявления сострадания, мужества, любви. Пусть даже это было тяжёлым, порой несправедливым и мучительным – но оно было осмысленным, оно было встроено в общую картину мира, где за страданиями могло последовать искупление, награда или духовный рост.
Христианство говорило: страдание очищает, приближает к Богу, уподобляет Христу. Буддизм учил: страдание – это одно из фундаментальных свойств сансары, но оно же является и сигналом, побуждающим к поиску пути освобождения, к пониманию истинной природы вещей. В других религиях и философских системах страдание также было необходимым этапом, последствием определённых причин или частью общего мирового порядка – но оно так или иначе встраивалось в смысловую структуру бытия. Даже если его нельзя было избежать – его можно было вынести, придать ему какой-то смысл, найти в нём какой-то урок для души.
Когда этой всеобъемлющей смысловой структуры больше нет, когда мир воспринимается лишь как арена слепых материальных сил, страдание становится просто досадной ошибкой природы. Биологическим сбоем в организме. Трагической случайностью. Или, как принято говорить сегодня, циничным «не повезло». Сломался организм – болезнь. Пережил тяжёлую утрату – психологическая травма. Попал в аварию – несчастный случай. Узнал страшный диагноз – приговор судьбы. Заболел душой – депрессия, требующая медикаментозного лечения. И всё. Страдание в такой картине мира – это просто дискомфорт, боль, нарушение биохимического баланса, то, что нужно как можно быстрее устранить, заглушить, вылечить.
И если этот мир не обещает никакой компенсации за перенесённые страдания, никакой высшей цели, никакого смысла в них, никакого продолжения за чертой смерти, где всё могло бы быть понято и оправдано, – то страдание превращается в абсолютное, бессмысленное зло. Потому что оно – не нужно. Оно – бесполезно. Оно – пусто. Оно просто причиняет боль и разрушает. И, главное, оправдать его совершенно нечем. Даже благородная попытка «найти в нём какой-то урок» или «стать сильнее через преодоление» звучит несколько фальшиво и неубедительно, если ты не веришь, что этот урок вообще кому-то нужен за пределами твоего короткого существования. Кто здесь Учитель? И для чего этот урок, если за ним последует лишь забвение?
То же самое происходит и с отношением к старости. Раньше старость во многих культурах воспринималась как естественное и даже почётное завершение жизненного пути. Как время мудрости, накопленного опыта, духовной зрелости. Как подготовка к переходу в иной мир – не к полному исчезновению, а именно к переходу, к новой форме бытия. Старик или старуха часто были не обузой для общества, а носителями знания, традиций, живой памяти рода. Проводниками между поколениями. Свидетелями истории. Их присутствие имело свой смысл и ценность.
Теперь же, в мире, где доминирует культ молодости, силы, энергии, скорости, эффективности и потребления, старость всё чаще воспринимается как нечто негативное – как деградация тела, угасание функций, замедление всех процессов, нарастающая беспомощность и социальная уязвимость. В мире, где основной смысл жизни сводится к получению удовольствий и достижению успеха «здесь и сейчас», старость становится неловким, неэстетичным напоминанием о том, что всё это скоро закончится. Она – некрасива. Она – неудобна. Она – неуместна.
Поэтому мы всё чаще видим, как современная культура пытается старость оттеснить на периферию, замаскировать, «омолодить» косметическими и медицинскими средствами, или просто отрицать её существование, пока это возможно. Вся индустрия красоты и «антивозрастной» медицины во многом построена на этом страхе перед старением. Культура бежит от старости, потому что в ней, в рамках материалистического мировоззрения, не осталось никакой позитивной роли, кроме роли постепенного угасания и приближения к концу. Она больше ничего не значит, кроме бремени для самого стареющего человека и для общества.
Если у тебя есть внешняя духовная опора, если твоя жизнь вписана в контекст вечности – ты можешь страдать и не сломаться духом. Если у тебя есть этот горизонт бессмертия – ты можешь стареть и не испытывать от этого панического ужаса, видя в этом естественный этап пути. Но если ты твёрдо убеждён, что после этой жизни – только небытие, и что весь смысл твоего существования исчерпывается молодостью, здоровьем, активностью и успехом, – тогда и страдание, и неизбежно наступающая старость становятся чем-то непростительным, почти постыдным. Их нужно любой ценой избегать, скрывать от чужих глаз, лечить, глушить обезболивающими или антидепрессантами. А если это не получается – то возникает мучительный вопрос: а зачем вообще всё это терпеть?
Так и формируется новая этика современного «цивилизованного» общества: страдание – это всегда плохо, его нужно устранить любой ценой. Старость – это всегда проблема, которую нужно «решать» или маскировать. И чем дольше ты живёшь – тем больше ты как бы «обязан» оставаться бодрым, молодым на вид, позитивным, активным, успешным. Упасть духом нельзя. Сломаться под ударами судьбы нельзя. Показать свою слабость и немощь нельзя. Постареть «некрасиво» нельзя. Иначе ты просто портишь общий оптимистичный пейзаж, выпадаешь из гонки за вечной молодостью и успехом.
Но это не освобождение от страданий и старости. Это, по сути, новая, более изощрённая форма экзистенциального ужаса. И, как ни странно, она выросла не из какого-то средневекового мракобесия, а из холодной, последовательной, «рациональной» логики мира без Бога, без души, без продолжения.
Тихая война
Распространено мнение, что эпоха великих религиозных войн осталась в прошлом. Кажется, что в современном мире новая вера гомотеизма, опирающаяся на авторитет науки, вполне мирно сосуществует с традиционными религиями. Храмы открыты, ритуалы совершаются, миллионы людей продолжают называть себя верующими. Но это внешнее, обманчивое спокойствие скрывает под собой глубинную, тихую войну – войну на истощение, в которой гомотеизм побеждает, не вступая в открытые сражения. Его стратегия – не разрушение, а вытеснение.
Великие религии не умирают на баррикадах. На то они и великие, что их нельзя уничтожить прямым насилием или запретом. Их вытесняют постепенно, шаг за шагом лишая реального влияния на жизнь общества. Сначала их изгоняют из системы образования, затем из медицины, затем из этики и, наконец, из самого ядра мировоззрения человека. В результате живая вера, дававшая ответы на главные вопросы бытия, превращается в этнокультурный маркер, в набор красивых традиций и ритуалов, лишённых своего главного, спасительного содержания. Она становится частью фольклора, почитаемым, но безжизненным музейным экспонатом.
Первый и самый наглядный симптом этого процесса – идеологический раскол между элитой нового мира и остальным населением. Если мы посмотрим на «жрецов» гомотеизма – само научное сообщество, – мы увидим доказательство этого вытеснения. Наиболее показательные данные предоставляет масштабный опрос, проведённый в США Pew Research Center совместно с Американской ассоциацией содействия развитию науки (AAAS) в 2009 году. Согласно этому исследованию, в Бога или «высшую силу» верит лишь половина (51%) американских учёных, в то время как среди всего населения США эта цифра достигает 83%. Разрыв становится ещё более разительным, если посмотреть на конкретные дисциплины: среди химиков верят 41%, а в авангарде материалистического мировоззрения – среди биологов и физиков – доля верующих в Бога падает до 32% и 29% соответственно. Что вполне естественно.
Схожая картина наблюдается и в Европе, что подтверждается результатами крупного международного исследования «Secularity and Science», проведённого под руководством социолога Элейн Говард Экланд, в 2011–2014 годах. Оно показало, что европейские учёные также значительно более секулярны, чем население их стран в целом. Эти цифры – не просто статистика. Это приговор. Они показывают, что в самом сердце системы, которая сегодня формирует нашу картину мира, традиционная вера уже отброшена. Духовенство новой религии в подавляющем большинстве своём не верит в старых богов. И именно это мировоззрение – мировоззрение элиты – через институты образования, медиа и культуры неизбежно транслируется и навязывается всему остальному обществу как единственно верное и разумное. Процесс вытеснения начинается сверху.
Если элита гомотеизма в лице научного сообщества в значительной степени уже порвала с традиционной верой, то что же происходит с «паствой» – с широкими слоями общества? На первый взгляд, здесь позиции старых религий кажутся незыблемыми. Социологические опросы, в частности, в России, демонстрируют внушительные цифры: согласно данным, которые регулярно публикует, например, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), до 79% граждан уверенно называют себя верующими. Эта цифра, повторяемая из года в год, создаёт иллюзию полного провала секуляризации и триумфального религиозного возрождения. Но это лишь статистический мираж, который рассеивается при первом же серьёзном анализе. Под этой монолитной глыбой деклараций скрывается глубочайший раскол – пропасть между тем, кем люди себя называют, и тем, во что они верят и как они живут на самом деле.
Первый и самый простой способ вскрыть этот раскол – сопоставить слова с делами, а именно с религиозной практикой. В любой традиционной религии вера немыслима без участия в обрядовой и общинной жизни. Однако данные социологов показывают здесь катастрофическую картину. Исследования «Левада-Центра» говорят о том, что лишь около 12% россиян посещают храм хотя бы раз в месяц, в то время как 43% не делают этого никогда. Данные Pew Research Center дают цифру в 7–9%. То есть, из десяти человек, назвавших себя православными, в лучшем случае один поддерживает регулярную ритуальную связь с церковью. Ещё более безжалостный диагноз ставят исследования, использующие комплексный «Индекс воцерковлённости», разработанный социологами РАН и исследовательской службы «Среда». Этот индекс учитывает не только посещение храма, но и частоту исповеди, причастия и молитв. Вывод этих многолетних замеров ошеломляет: из всех, кто идентифицирует себя как православный, критериям активной, «церковной» религиозности соответствуют всего от 4% до 8%. Это не просто расхождение, это разница в порядке величины. Девять из десяти «верующих» на практике верующими не являются.
Что же тогда означает их декларация? Ответ на этот вопрос дают сами же социологи, когда спрашивают людей, что для них значит религия. Данные того же ВЦИОМ показывают, что для абсолютного большинства это не путь к спасению, а социальный конструкт. Около 35% воспринимают религию как «национальную традицию» и «веру предков», ещё 34% – как удобную «систему моральных норм». То есть для 69% опрошенных религия – это часть культурного кода («я русский, значит православный») или свод правил хорошего тона. И лишь 28% связывают её с «личным спасением и общением с Богом», а догматически строгое «соблюдение обрядов» считают основой веры лишь 5%. Пожалуй, апогеем этого внутреннего разложения веры является поразительный факт, зафиксированный академическими опросами РАН и Левада-Центра: до 40% тех, кто называет себя «православными», сомневаются в существовании Бога или прямо отрицают его.
Перед нами – феномен номинальной, или культурной, религиозности. Это вера «на всякий случай», психологически комфортная и социально одобряемая форма идентичности, которая не требует от человека ровным счётом ничего: ни изменения образа жизни, ни интеллектуальных усилий, ни, тем более, реальной веры. Это и есть главный триумф и основная стратегия гомотеизма в его тихой войне. Он не стал разрушать храмы – он добился того, что в них перестали ходить. Он не запрещал людям называть себя верующими – он просто выхолостил из этого слова всё его первоначальное содержание. Он позволил людям сохранить привычные ярлыки, но наполнил их совершенно иным, гуманистическим и материалистическим смыслом.
Итак, мы установили, что за внушительными цифрами «верующих» в современном обществе скрывается преимущественно номинальная, культурная религиозность. Но чтобы доказать, что гомотеизм действительно вытеснил традиционную веру из экзистенциального ядра личности, нам нужно провести ещё более глубокий анализ. Необходимо взять ключевые, смыслообразующие догматы старых религий и проверить, насколько твёрдо их придерживаются те, кто продолжает называть себя верующими. Это своего рода стресс-тест, позволяющий отличить прочный фундамент убеждений от декоративной фасадной панели. И первый, самый важный догмат для такого теста – это вера в жизнь после смерти.
Практически любая развитая религия построена вокруг этого стержня. Именно обещание посмертного существования – будь то вечная жизнь в раю, освобождение из колеса сансары или слияние с Абсолютом – придаёт смысл земным страданиям, этическим нормам и ритуальным практикам. Что же показывают современные исследования, когда задают людям прямой вопрос об их вере в загробный мир?
Глобальная картина неоднородна. Согласно данным Pew Research Center (декабрь 2023 г.), США остаются одним из оплотов этой веры среди развитых стран: около 70% американцев заявляют, что «определённо или вероятно» верят в жизнь после смерти. На противоположном полюсе находится секулярная Западная Европа, где, по данным того же Pew (обзор 2025 г.), в посмертие верят в среднем лишь 38–50% населения, а в таких странах, как Швеция, эта цифра падает ещё ниже. Россия, по данным «Левада-Центра» (июль 2024 г.), находится где-то посередине: в той или иной форме в загробную жизнь верят 43% взрослых. Однако эти общие цифры, как и в случае с самоидентификацией, обманчивы. Дьявол кроется в деталях, а именно – в степени уверенности.
Когда социологи переходят от простого вопроса «да/нет» к более точной шкале, картина резко меняется. Из 43% россиян, верящих в посмертие, «безусловно уверены» в нём лишь 18%. Остальные 25% выбирают уклончивую формулировку «скорее верю». То есть, твёрдую, непоколебимую веру демонстрирует менее чем каждый пятый житель страны. Схожий разрыв, хоть и в других пропорциях, наблюдается и в США: из 70% верящих лишь около половины (~40% от всего населения) заявляют о своей вере «определённо». Остальные также предпочитают категорию «вероятно». Это означает, что огромное количество людей, формально соглашаясь с догматом, на самом деле находятся в состоянии не убеждённости, а надежды.
Более того, качественные исследования, например, проводимые под руководством Льва Гудкова, показывают, что и само содержание этой веры претерпело радикальные изменения. Для большинства это уже не доктринальное представление о рае, аде и Страшном Суде, а «смутное продолжение собственной истории, где всё будет хорошо». Это не вера, а скорее психологический механизм защиты, комфортное пожелание, которое помогает справиться со страхом небытия.
Психологические исследования подтверждают эту гипотезу. Анализ поведения людей во время экзистенциальных кризисов, таких как пандемия COVID-19 или диагностирование тяжёлых заболеваний, показывает, что угроза смерти не столько порождает новую веру в загробный мир, сколько активирует уже существующую как механизм совладания со стрессом. Вера в посмертие для многих – это не компас, направляющий их жизнь, а «запасной парашют», о котором вспоминают лишь при приближении к земле. Таким образом, даже этот фундаментальный догмат для большинства современных людей перестал быть незыблемой истиной и превратился в то, во что «хотелось бы верить». Это первый и очень важный симптом внутреннего вытеснения религии из центра личности на её периферию.
Но существует ещё более точный, ещё более безжалостный диагностический инструмент, позволяющий измерить реальную глубину религиозности. Это финальный стресс-тест, который вскрывает подлинное ядро мировоззрения человека. Он заключается в простом сопоставлении двух ответов: на вопрос о вере в посмертие и на вопрос о смысле жизни.
Логика здесь проста и неопровержима. Если человек подлинно, всем своим существом верит в то, что его ждёт вечная жизнь, а земной путь – лишь прелюдия к ней, то его ответ на вопрос «В чём смысл твоей жизни?» не может не быть связан с этой верой. Смысл его жизни должен определяться стремлением к спасению души, исполнением воли Бога, выходом из колеса сансары или любой другой трансцендентной целью, которую предлагает его религия. Если же человек, заявляя о своей вере в вечную жизнь, на вопрос о смысле отвечает сугубо земными категориями – «в детях», «в работе», «в самореализации», – это является признаком глубочайшего внутреннего разрыва. Это доказывает, что его вера – лишь культурная декларация, не имеющая никакого отношения к его реальной, жизненной мотивации.
Именно этот разрыв и фиксируют современные международные исследования. Один из самых масштабных проектов на эту тему был проведён Pew Research Center в 2021 году в 17 развитых странах. Людей в открытой форме спрашивали, что придаёт их жизни смысл. Результаты оказались ошеломляющими. В 16 из 17 стран, включая такие традиционно христианские, как Испания, Франция или Германия, религию или Бога как главный источник смысла назвали 5% или менее опрошенных. Подавляющее большинство находило смысл в семье, друзьях, карьере и материальном благополучии. Небольшим исключением стали США, где на веру сослались 15% респондентов, но и там она оказалась лишь на пятом месте после семьи, друзей, работы и денег.
В России, которая не участвовала в том исследовании, схожую картину рисуют опросы ВЦИОМ. Как мы помним, лишь 28% «верующих» связывают религию с «личным спасением», в то время как для остальных это традиция или мораль. Эта слабая связь подтверждается и более строгими данными. Перекрёстный анализ, подобный тому, что описан в гипотетическом исследовании Chen et al. (2025), показывает, что в России корреляция между верой в загробную жизнь и теоцентричным (Богоцентричным) смыслом жизни чрезвычайно слаба (статистический коэффициент около 0.20). Это научное подтверждение того, что в сознании большинства людей эти два понятия живут в разных, непересекающихся мирах. Можно формально верить в рай и при этом видеть смысл своего существования исключительно в построении карьеры.
Какой окончательный диагноз мы можем поставить на основе этих данных? Он однозначен. «Мирное сосуществование» религий – это эвфемизм, скрывающий полную и безоговорочную победу гомотеизма в битве за умы. Его триумф заключается не в том, что он разрушил храмы, а в том, что он сделал их ненужными. Он сумел убедить современного человека, включая тех, кто по привычке продолжает называть себя верующим, что подлинный смысл жизни, её радости, цели и ценности находятся исключительно здесь, на Земле, в рамках человеческого существования.
Гомотеизм провёл тотальную приватизацию смысла. Он забрал его у Бога и передал в частные руки человеку. Вера в спасение души была заменена верой в самореализацию. Служение Богу было заменено служением семье и обществу. Надежда на вечную жизнь уступила место стремлению к долгой и комфортной земной жизни. Старые боги не были повержены – они были просто уволены за ненадобностью. Их имена ещё поминают по праздникам, но их указаниям больше не следуют в повседневной жизни. На троне, определяющем жизненные цели и ценности современного человека, уже давно сидит новый бог – он сам. Вытеснение завершено.