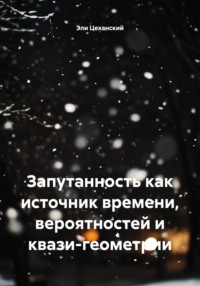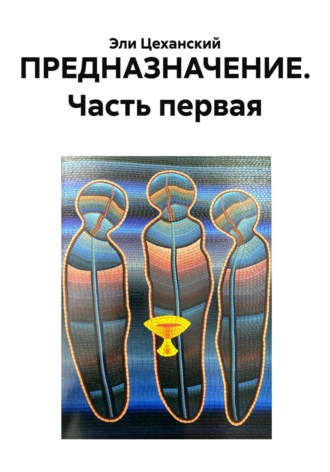
Полная версия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая
Якорь гордыни
Есть ещё одна, менее заметная на первый взгляд потеря. Мы утратили способность вести поиск истины в правильном направлении. Сама наука, тот самый «пророк», который должен был привести нас в светлое царство знания, оказалась в плену у той религии, которую сама же наука и породила. Она была вынуждена надеть догматические шоры и теперь движется вперёд, добровольно закрывая глаза на всё, что не укладывается в её канон. И это – трагедия нашего времени.
«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Эта фраза, сказанная царём Соломоном в Книге Екклесиаста почти три тысячи лет назад, веками служила аргументом для тех, кто видел в познании угрозу вере. Традиционные религии действительно порой выступали в качестве тормоза для науки, опасаясь, что новые знания поколеблют устои и приведут к духовной смуте. Но мы давно миновали тот рубеж. Сегодня ситуация перевернулась с точностью до наоборот. Старые тормоза отпущены, но наука сама надела на себя новые, куда более жёсткие оковы – оковы собственной религиозной доктрины.
Гомотеизм, который на заре своего становления был мощным двигателем, разрушающим догмы прошлого, теперь сам превратился в догму. И этот новый догмат, поначалу освобождавший, теперь стал тяжелейшим якорем, который не даёт кораблю науки плыть в неизведанные воды. Он мешает задавать самые важные вопросы и честно искать на них ответы. Почему так произошло? Потому что в основании всей величественной постройки гомотеизма лежит не рациональный расчёт и не доказанный факт, а одна-единственная, но всепоглощающая эмоция – гордыня.
Утверждение, что «человек – мера всех вещей», центральная аксиома этой веры, не имеет под собой абсолютно никаких логических или эмпирических оснований. Это чистый волюнтаризм, иррациональный выбор, продиктованный исключительно гордыней – нежеланием признавать существование чего-либо, что может быть выше, сложнее или значимее, чем мы сами. В краткосрочной исторической перспективе гордыня может быть эффективной стратегией. Она мобилизует, придаёт уверенности, позволяет совершать дерзкие прорывы. Именно на этой волне и были достигнуты все впечатляющие успехи XX века. Но в долгосрочной стратегии познания гордыня – это всегда путь к самообману и стагнации. Она заставляет принимать желаемое за действительное, игнорировать неудобные факты и объявлять несуществующим всё, что не укладывается в нашу самовлюблённую картину мира. Именно эта гордыня и является тем якорем, который сегодня прочно удерживает науку в тихой, но мелеющей гавани материализма, не давая ей выйти в открытый океан подлинной реальности.
Чтобы наглядно проиллюстрировать, насколько губителен этот основанный на гордыне подход и какие возможности мы теряем, давайте проведём философский эксперимент.
В кишечнике взрослого человека обитает огромная, невидимая глазу цивилизация – по последним научным оценкам, около 30 триллионов микроорганизмов. Это не захватчики и не паразиты. Это наши древнейшие симбионты, без которых наша собственная жизнь, наше пищеварение, наш иммунитет были бы невозможны. Мы представляем собой единую, сложнейшую экосистему. Существуют тяжелейшие, порой неизлечимые заболевания, которые после тотального уничтожения нормальной микрофлоры наглядно показывают: без них мы не можем жить. Мы – их Вселенная, а они – неотъемлемая часть нас.
А теперь давайте представим на мгновение, что у этих бактерий, живущих в нашем теле, есть разум и интеллект, сопоставимый с человеческим. У них есть свои города-колонии, своя культура, свои университеты и, конечно, своя наука. Их мир – это их Вселенная: тёплая, влажная, богатая ресурсами, но замкнутая. Границы этой Вселенной – стенки нашего кишечника. Для них это непреодолимый барьер. Любая бактерия, которая волею случая выйдет за его пределы, уже никогда не сможет вернуться, чтобы рассказать сородичам о том, что существует мир снаружи. Все их знание, вся их реальность ограничена этим внутренним космосом.
Их наука развивается семимильными шагами. Они создают микроскопы и открывают «атомы» своего мира – сложные органические молекулы. Они строят телескопы и картографируют изгибы и складки своего «пространства». Они изучают законы, по которым пища движется по их миру, и учатся предсказывать периодические «гравитационные бури» (перистальтику). Их наука успешна, она работает и приносит плоды.
И вот, в какой-то момент, в их обществе зарождается и становится доминирующей новая, прогрессивная и очень убедительная религия, полностью аналогичная нашему гомотеизму. Её центральный догмат звучит так: «Бактерия – вершина эволюции! Мы – самое сложное и совершенное, что могло возникнуть в этой Вселенной. Наш разум – единственная мера всех вещей, а наша цель – процветание нашего вида в пределах Великой Стенки Кишечника». Эта новая вера, подкреплённая успехами их науки, быстро вытесняет старые, примитивные культы, говорившие о неких «внешних силах» или «воле Великого Носителя».
Их учёные, вооружённые новой доктриной, направляют свои самые мощные приборы на границы своего мира. И они подтверждают: да, Вселенная конечна. За Стенкой ничего нет. Пустота. Любые разговоры о мире за её пределами объявляются «ненаучными», вредными суевериями, пережитками тёмного прошлого. Их научный консенсус, подкреплённый религиозной верой в собственную исключительность, выносит окончательный вердикт: мы одни, мы – всё, что есть. Кажется, всё логично. Они действуют строго по науке, опираясь на наблюдаемые факты. Но давайте задумаемся: так ли безобидна эта их, на первый взгляд, безупречная и рациональная картина мира? Какой вред может нанести им эта уверенность в собственном всемогуществе и в пустоте за пределами их Вселенной?
Их учёные-материалисты, адепты «бактериального гомотеизма», ответили бы на этот вопрос с уверенной усмешкой: «Никакого! Напротив, это единственно честный и продуктивный подход». Они бы сказали: «Зачем вводить лишние, непознаваемые сущности? Зачем говорить о мифическом «Великом Носителе», если мы никогда не сможем его ни измерить, ни проверить, ни фальсифицировать его существование по критерию Поппера? Это нарушает главный принцип научной экономии мысли». И они бы с гордостью применили свою интеллектуальную гильотину – «Бритву Оккама», отсекая любые гипотезы о мире за пределами стенок кишечника.
И в чём-то их позиция была бы понятна и даже оправданна. Им, запертым в своём микромире, действительно никогда не понять, что такое океан или свет далёких звёзд. Они не постигнут, что такое запах свежескошенной травы, ирония хорошей шутки или банальная усталость от стояния в автомобильной пробке. Но разве от того, что они никогда не смогут понять сущность Великого Носителя, результаты их исследований, указывающие на сам факт его существования, становятся менее значимыми?
«Бритва Оккама» – великий принцип, но он предназначен для выбора между несколькими конкурирующими объяснениями одного и того же явления, а не для того, чтобы запрещать думать о явлениях, которые мы не можем объяснить. В руках гомотеизма этот научный инструмент превращается в идеологическое оружие, в догматический запрет на постановку самых важных вопросов. Это заблуждение, выраженное через красивые и умные термины, и чрезвычайно вредное по своей сути.
Давайте вернёмся к нашим бактериям. Если бы в их научном сообществе нашлись «еретики», которые осмелились бы отказаться от догмата собственной исключительности, они бы начали задавать совершенно другие вопросы. Вместо вопроса «Из чего состоит наш мир?» они бы задались вопросом «Для чего существует наш мир и мы в нём? Каково наше предназначение?». И начав искать ответ, они бы стали обращать внимание на аномалии, которые их ортодоксальная наука списывала на случайность.
Например, в их мир периодически попадает таблетка антибиотика. Для учёных-материалистов – это прилёт случайного, враждебного «метеорита», вызывающего массовое вымирание. Но «еретики» могли бы заметить, что этот «метеорит» почему-то действует избирательно и часто совпадает по времени с изменением температуры их «вселенной». Или, наоборот, в их мир попадает порция пробиотика. Ортодоксы назовут это случайной «манной небесной», а мыслящие иначе увидят в этом акт целенаправленной поддержки. Анализируя такие косвенные признаки, они, пусть и не имея возможности изучить нас напрямую, неизбежно пришли бы к выводу о существовании «Великого Носителя» – разумной системы более высокого порядка, частью которой они являются и от здоровья которой напрямую зависит их собственное выживание.
И к чему бы привёл этот вывод? К революции в их науке и цивилизации. Поняв своё истинное предназначение – быть не «вершиной творения», а полезным симбионтом, – они бы направили все силы своей науки на изучение того, «что хорошо и что плохо» для Носителя. Они бы научились культивировать полезные штаммы и бороться с вредными. Они бы поняли, что определённая пища, попадающая в их мир, ведёт к процветанию, а другая – к болезням и гибели. Их наука из чисто описательной превратилась бы в осмысленную, направленную на поддержание гармонии с той высшей системой, частью которой они являются. Их бактериальная жизнь от этого стала бы неизмеримо лучше, стабильнее и безопаснее. Более того, жизнь обрела бы то, что их ортодоксальная наука принципиально отрицала – смысл и предназначение.
Притча о бактериях – это притча о нас. Отказываясь из гордыни даже гипотетически рассматривать существование высшего по отношению к нам контекста, мы добровольно заключаем себя в рамки «кишечника», лишая свою науку возможности задавать вопросы о смысле и предназначении. И тем самым, возможно, наносим себе колоссальный ущерб, который может оказаться фатальным.
Религия гомотеизма, выстроенная на фундаменте гордыни и претензии человека на божественность, привела нас к интеллектуальному и духовному тупику. Она обещала освобождение, но обернулась новой догматикой, лишённой высшего смысла и враждебной к любой трансцендентной перспективе. Возникает вопрос – что можно этому противопоставить?
Ответ прост: нужно начать действовать. Мы соберём всё, что есть в нашем распоряжении – факты, аргументы, разум, внутреннюю честность – и попытаемся расшатать хотя бы один камень в этом, на первый взгляд, монолитном здании. Потому что, если даже один камень сдвинется, возможно, рухнет и вся конструкция.
Именно этим мы и займёмся. Вот наш план.
1. Физикализм. Мы начнём с физикализма – догмата, согласно которому всё, что существует, можно описать через материю, энергию и их взаимодействия. Мы не станем отрицать грандиозные достижения физики – напротив, мы будем ими восхищаться. Но именно сила физики позволяет увидеть её пределы. Мы покажем, что современная физика – при всей своей математической строгости и предсказательной мощи – всё меньше понимает, что именно она описывает. Чем совершеннее становятся её телескопы и микроскопы, тем очевиднее: за математическими уравнениями прячется неразгаданная тайна. Физика знает как, но не знает почему. Она прекрасно умеет считать, но полностью перестала понимать.
2. Абиогенез. Затем мы перейдём к догмату абиогенеза – идее о случайном зарождении белково-нуклеиновой жизни из неживой материи. Это – один из краеугольных камней гомотеистического мировоззрения, и мы постараемся показать, что он не выдерживает элементарной проверки на внутреннюю состоятельность. Не просто маловероятность, а именно невозможность такого сценария станет нашей рабочей гипотезой. Мы покажем, что никакое сочетание времени, среды и случайностей не способно породить первую клетку. И если это удастся доказать, этот удар окажется смертельным для всей конструкции.
3. Эволюция без начала. После этого мы подойдём к теории эволюции, но уже в другом свете. Если жизнь не могла начаться случайно, как предполагает абиогенез, значит, эволюция начиналась не с нуля. Что тогда означает «естественный отбор»? Может ли он всё объяснить, если исходные условия заданы не случайно? Мы не станем отвергать эволюцию как факт, но попытаемся поставить под сомнение её философское обрамление. Возможно, именно в этом новом контексте эволюция начнёт нам говорить что-то совсем другое – и, может быть, гораздо более вдохновляющее.
4. Морфогенез: тайна тела. Далее мы подойдём к догмату морфогенеза – убеждению, что строение человеческого тела и мозга полностью закодировано в ДНК. Мы зададим простой вопрос: сколько байт информации реально несёт наш геном? И можно ли в этом сжатом объёме закодировать всё – от формы уха до врождённого страха перед змеёй?
5. Нейронаука. Наконец, мы подойдём к самой зыбкой, самой философской и, пожалуй, самой важной из догм – идее о том, что сознание полностью объясняется нейрофизиологией. Мы обсудим аргументы нейробиологии и покажем, что, несмотря на все достижения в картировании мозга, она не приблизилась ни на шаг к пониманию природы «Я». Как могут электрические импульсы создать чувство любви, тоски, свободы? Что такое «мыслить» – в терминах ионов и нейромедиаторов? И возможно ли то, что с прекращением работы мозга сознание может продолжаться?
Выводы Когда мы завершим этот путь, мы не предложим готового ответа. Но мы сделаем главное – покажем, что гомотеизм, при всей его внешней убедительности, стоит на хрупких, недоказанных допущениях. Мы не обязаны принимать их как истину. У нас есть право сомневаться. И, может быть, сквозь трещины в старом здании проступит совсем иная картина – более сложная, более глубокая, и, что самое главное, более живая.
Intermezzo. Личный опыт.
У меня был период в раннем детстве – совсем короткий, может быть год, а может быть всего несколько месяцев – когда я верил в Бога по-настоящему. Не потому, что мне кто-то это навязал. Не потому, что я что-то осознал. Просто – верил. Как может верить только маленький ребёнок: всем телом, всем сердцем, без условий, без сомнений, без оговорок.
Мне рассказывала о Нём прабабушка. Она была верующей – искренне, глубоко, всерьёз. Не из страха, не из традиции, а из внутреннего убеждения, которое невозможно описать словами. Я не помню точных фраз, но помню её интонацию – спокойную, тихую, наполненную уверенностью. Бог в её речи не был кем-то внешним – Он был как воздух, как тепло, как колыбельная перед сном. Я впитывал его, как впитывают запах хлеба или звуки любимой песни, не зная ещё, что такое сомнение.
А потом – я не помню точно, где – в детском садике, на улице, может быть, у кого-то в гостях – я услышал другую правду. Мне её сказали взрослые – те самые, которым я был приучен верить без вопросов: – Бога нет. Космонавты летали – и никого там не нашли.
Это было сказано буднично. Без издёвки, без пафоса. Просто – как очевидность. И я сразу поверил. Потому что это говорили взрослые. Потому что всё вокруг будто подтверждало это: книги, мультики, фразы, поведение. Вдруг оказалось, что всё вокруг знают, что Бога нет. А я – не знал. И мне даже стало немного стыдно за свою прежнюю веру.
Так что я принял это с радостью. Как освобождение. Теперь я умный. Теперь я знаю.
А потом – почти сразу – пришло страшное.
Когда вечером я лёг в кровать, и свет был выключен, и комната замерла – ко мне пришла мысль, которая буквально парализовала: «Я умру. Всё закончится. Меня не будет. Никогда».
Я не просто понял это. Я прожил это изнутри.
Я не мог выразить это словами. Я не мог кому-то пожаловаться. Я просто лежал и плакал, пятилетний мальчик – плакал в подушку от ужаса, который был слишком большим для моего тела. Я не хотел в это верить – но чувствовал, что это неизбежно. Это не был страх чудовищ или темноты. Это был страх ничего. И это ничто смотрело на меня, и я не знал, куда деться.
И тогда меня спас мой отец.
Он не был верующим. До самого конца своих дней он не поверил – ни в Бога, ни в богов. Он был человеком науки, разума, здравого смысла. Но при этом – человеком невероятной доброты, силы и глубины.
Когда я – заплаканный, сбивчивый, напуганный – попытался сказать ему, что я боюсь умереть, он не стал говорить о душе, о рае, о перерождении. Он сказал мне: – Да нет, ты что, сынок. Конечно, ты не умрёшь. К тому времени, как ты вырастешь, уже изобретут таблетки от смерти.
Я поднял голову. – Правда? – Конечно. Уже над этим работают. Учёные всё скоро сделают. Лет десять, двадцать – и мы все будем жить вечно. Ты – точно. И мы с мамой, думаю, тоже успеем.
И я поверил. Я снова засыпал спокойно. Я снова жил.
И – да, это была вера. Не в Бога. А в таблетку бессмертия.
В науку как нового бога. В лаборатории вместо храмов. В биотехнологии вместо чудес.
Отец дал мне новую религию – и она работала.
Лет через пятнадцать я понял, что он сам в это не верил. Что он всё это сказал, чтобы меня успокоить.
Но это не имело значения. Он дал мне надежду, которая прожила во мне много лет.
И я знаю, что не я один такой.
Мне кажется, человечество в какой-то момент тоже перешло на эти таблетки.
Мы поверили, что наука – это прогресс, это лечение.
Бог – это фольклор, это традиция.
И вот ты уже говоришь себе: – Ты просто боишься. Вот и выдумываешь. – Души нет. Посмотри правде в глаза. – Всё – молекулы. Хромосомы. Органика. Электрические импульсы. Конец.
Часть 2. Физика и её границы
Intro
Существует старая мудрость, гласящая, что любая развитая технология неотличима от магии. Долгое время так и было. Но мы живем в мире, где эта истина перевернулась. Сегодня любое подлинное чудо рискует оказаться неотличимым от хорошо объясненной науки.
Нам кажется, будто мир стал понятен. Мы смотрим на живую клетку, на этот невероятный город внутри капли воды, и называем это биохимией. Мы вглядываемся в ночное небо, в эту безупречно настроенную симфонию звезд, и говорим, что это просто космология. Чудо не исчезло – мы просто перестали его видеть. Мы не разучились смотреть – мы разучились удивляться.
И возможно, именно эта привычка к объяснению мешает нам понять главный смысл старой мистической фразы: когда мы смотрим на Вселенную, она смотрит на нас. Благодаря современной физике, эта поэзия обретает пугающе прямой смысл. А что, если наше сознание – это не сторонний наблюдатель, а тот самый орган, которым Вселенная познает саму себя? И каждый наш взгляд в микроскоп – это ее взгляд в собственное сердце.
Молчание о главном
На первый взгляд, включение в эту книгу раздела, посвящённого физике, может показаться неожиданным. Однако это – фундамент для всего, о чём мы будем говорить дальше. Без него вся конструкция, которую мы попытаемся выстроить на страницах этой книги, будет шаткой и неубедительной.
Нужно понимать, для чего это необходимо. Когда мы, например, сделаем заявление: «Человек не может быть полностью описан в своём геноме», – у любого здравомыслящего читателя немедленно возникнет вопрос: «А где же тогда он описан? Где находится остальная информация? В воздухе, что ли?»
И этот вопрос абсолютно логичен, потому что он исходит из привычной картины мира, заложенной в нас ещё со школы: есть пустое пространство и есть частицы, из которых всё состоит. Но с точки зрения современной физики, мир уже давно не такой. И «недостающая» информация может находиться там, где наш бытовой здравый смысл даже не пытается её искать.
Она может быть закодирована в дополнительных измерениях, внешних или скрученных внутри того, что мы считаем неделимыми частицами. Она может существовать в виде нелокальных связей с параллельными вселенными. Она может содержаться в самой структуре пространства-времени, о природе которых мы знаем очень мало. Более того, Вселенная в целом может оказаться не такой, какой она нам кажется. И она уже такой оказалась, с точки зрения самой строгой современной физики. Мир, который описывает передовая наука сегодня, – это уже не тот мир, который мы знали двадцать-тридцать лет назад, и не та упрощённая модель, которую до сих пор по инерции преподают в школах.
Поэтому, если мы хотим говорить на языке науки, а не мистики, нам жизненно необходим этот раздел.
Физика – это, без сомнения, самая точная, самая сложная и самая важная из всех существующих наук. Именно ей человечество обязано самыми грандиозными достижениями во всех областях, какие только можно себе представить. Без успехов физики не было бы ни современной медицины, ни генетики, ни химии в их нынешнем виде. Весь технологический уклад, вся мощь цивилизации покоится на фундаменте, заложенном физиками. Что же могут дать разговоры о ней, кроме признания её величия?
Например, когда речь заходит об абиогенезе, цель ясна: выбить из-под догматического материализма его главную опору – веру в случайное зарождение жизни. Но зачем же трогать физику, эту несокрушимую цитадель знания?
И всё же, при внимательном и более глубоком взгляде становится ясно: именно физика, как ни парадоксально, сыграла решающую и определяющую роль в том, что человечество вообще поверило – и в абиогенез, и в материалистическое происхождение сознания, и в безмолвную, бесцельную Вселенную. Эта вера возникла не потому, что биология или нейронаука предоставили убедительные и неопровержимые доказательства. Она родилась потому, что люди были ослеплены, заворожены, покорены ошеломляющими успехами самой блестящей и всемогущей науки – физики. Ведь действительно: как усомниться в той области знания, которая умеет предсказывать явления с поразительной точностью, которая дала миру энергию атома и, казалось бы, открыла устройство Вселенной? Доверие к физике стало своеобразной презумпцией, аксиомой, не требующей доказательств – и эта презумпция незаметно распространилась и на все остальные науки, которые говорили от её имени, даже если сами по себе не обладали ни такой строгостью, ни такой силой.
Именно поэтому необходимо присмотреться к ней повнимательнее. Можно увидеть, что физика, какой она была всего несколько десятилетий назад, и физика сегодняшняя – это, по сути, две разные науки. Та, ранняя, физика XX века, опьянённая своими великими открытиями, верила, что вот-вот свернёт горы и раскроет все тайны мироздания. Сегодняшняя же физика, как можно будет увидеть, закопалась так глубоко, что в каком-то смысле перестала быть естественной наукой. Она всё больше превращается в раздел прикладной математики. Она смотрит на мир уже не просто через увеличительное стекло или микроскоп. Она смотрит на мир через призму приборов такой невероятной точности, что теряет возможность воспринять явление таким, какое оно есть.
При этом нужно отдать должное самим учёным-физикам. В большинстве своём они ни на что и не претендуют. Они поглощены своими уравнениями, своими сложнейшими экспериментами. Если упрекнуть их в том, что они посягают на создание нового мировоззрения, они посмотрят на вас с искренним удивлением. Но именно это их молчание о главном, это нежелание выходить за рамки формул и есть то, что создаёт вокруг науки ауру всезнания. И это молчание глубоко неуместно. Оно появилось не так давно, и появилось оно в результате того, что, изучая мир всё глубже и глубже, сама же физика начала понимать, что ничего не понимает в этом мире.
Давайте попробуем понять масштаб произошедших перемен, и для этого нужно сделать небольшой исторический шаг назад. Физика конца XIX – начала XX века была наукой триумфаторов. Открытие электромагнетизма, законов термодинамики, первые шаги в изучении строения атома – всё это создавало пьянящее ощущение почти всемогущества человеческого разума. Казалось, что Вселенная – это гигантский, но в своей основе простой и понятный механизм. Нужно лишь найти последние, недостающие шестерёнки, описать их точными уравнениями, и картина мира будет завершена.
В этой картине не оставалось места ни для таинственного, ни для сверхъестественного: любой феномен, рано или поздно, должен был найти своё объяснение в рамках чётких, детерминированных законов.
Именно эта вера в познаваемость и механистичность мира и стала тем философским фундаментом, на котором вырос современный научный материализм. Если уж физика, царица наук, обещает всё объяснить через взаимодействие материи и энергии, то какие могут быть сомнения в том, что жизнь – это просто сложная химия, а сознание – сложная электрохимия? Оптимизм физиков стал индульгенцией для всех остальных.
Но затем случилось то, чего никто не ожидал. Заглянув внутрь атома, физика не нашла там предсказуемых и понятных «шестерёнок». Она нашла там безумие. Она обнаружила мир, который не подчиняется законам повседневной логики, мир квантов, где частицы могут быть волнами, где причина и следствие теряют свою однозначность, где сама реальность, казалось, зависит от того, смотрят на неё или нет.
Отцы-основатели квантовой механики – Эйнштейн, Бор, Шрёдингер, Гейзенберг – были не просто физиками, они были по-настоящему глубокими мыслителями. И они были потрясены философскими последствиями собственных открытий. Их знаменитые споры были не сухими техническими дебатами о формулах, а титаническими битвами за понимание самой природы бытия. «Квантовая механика внушает мне глубокое уважение, – писал Эйнштейн Максу Борну в 1926 году, – но я убеждён, что Господь не играет в кости». Что есть реальность? Что первично? Какую роль в устройстве мира играет сознание? Они ясно ощущали: они натолкнулись на тайну, которая выходит далеко за пределы простого физического описания.