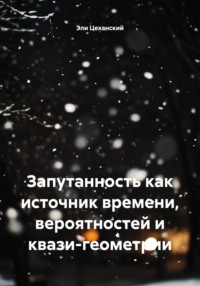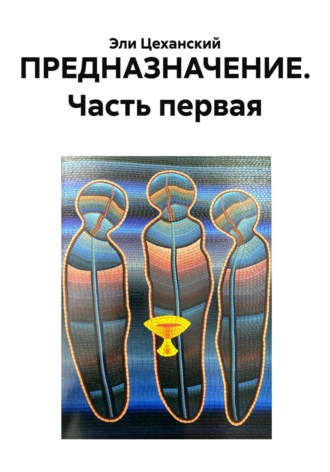
Полная версия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая
Новая религия
Этот плодотворный союз породил нечто большее, чем просто «научный гуманизм». Он породил полноценную новую религию. Называть её по-прежнему гуманизмом было бы неточно. В русском языке слово «гуманизм» несёт в себе мягкий, почти сентиментальный оттенок, вызывая ассоциации с гуманностью, состраданием и добротой. Новая же вера была куда более амбициозной и жёсткой в своих претензиях. Она не просто ставила человека в центр – она возводила его на пьедестал, ранее занимаемый исключительно Богом.
Также было бы неверно называть это антропоцентризмом, потому что сам по себе антропоцентризм не отрицает Бога – он либо безразличен к его присутствию, либо даже опирается на него, как в христианстве, где человек видится как венец божественного творения, наделённый властью над миром. Для антропоцентризма самое главное – что человек является центром мироздания и мерой всех вещей, а всё остальное (природа, животные, ресурсы) оценивается исключительно через призму человеческих нужд и ценностей, без обязательного исключения высших сил.
Поэтому, чтобы называть вещи своими именами, давайте введём иной термин – гомотеизм. Слово, составленное из латинского homo (человек) и греческого theos (бог), дословно означает «человекобожие». Основа гомотеизма – гуманизм, как вера в человека как в высшую силу во Вселенной, в его разум как в абсолютный инструмент познания и в его благополучие как в конечную цель бытия. Эта первичная аксиома звучит так: «Человек есть высшая ценность и мера всех вещей». Её невозможно доказать или опровергнуть научным методом; это мировоззренческий выбор, акт веры.
Акт веры – это основа любой религии. Это её центральное ядро. Но этого недостаточно. Любая религия, стремящаяся к стабильности и влиянию, неизбежно кодифицирует свою веру в систему догматов – незыблемых постулатов, которые принимаются как истина и не подлежат сомнению. Они образуют скелет вероучения, определяя, что значит быть верующим.
Гомотеизм, несмотря на свою научную риторику, не стал исключением. Для того чтобы его вера в Человека была не просто эмоцией, а стройной мировоззренческой системой, он сформировал собственный канон – своего рода «минимальный джентльменский набор» догматических утверждений.
Первый, основополагающий догмат новой веры – физикализм. Это фундаментальное метафизическое утверждение о том, что вся существующая реальность либо является физической, либо полностью от неё зависит и ею определяется. Всё существующее познаваемо. Однако для ясности и простоты в дальнейшем изложении мы будем преимущественно использовать более старый и интуитивно понятный термин – материализм.
Строго говоря, между этими понятиями если и есть разница, то довольно небольшая. Физикализм – это более современная и широкая концепция, которая возникла в XX веке, чтобы учесть открытия новой физики. Она включает в себя не только «материю» в классическом понимании (атомы и вещество), но и всё, что фундаментальная физика считает реальным: энергию, поля, квантовые состояния, само пространство-время. Материализм же, в своём историческом значении, говорит более узко – о первичности именно материи. Мы сознательно идём на это небольшое упрощение и некоторое снижение философской точности ради увеличения понятности. Слово «материализм» несёт в себе ясный и недвусмысленный посыл, понятный без дополнительных разъяснений: духовного мира не существует, есть только материя в разных её проявлениях.
На догмате материализма следует остановиться подробнее. На первый взгляд может показаться, что именно он и является главной, самодостаточной опорой и сам может быть новой верой. В самом деле, если вся реальность – это лишь материя, то для богов, духов и высших смыслов просто не остаётся места. Кажется, что материализм – это исчерпывающее мировоззрение, не требующее никаких дополнений. Разве не является гуманизм, с его провозглашением человека высшей ценностью, лишь необязательным, сентиментальным придатком к этой строгой и всеобъемлющей доктрине? Давайте разберёмся в этом хитросплетении.
Дело в том, что материализм и гомотеизм нуждаются друг в друге, но их отношения не равноправны. Чтобы понять это, зададимся вопросом: может ли материализм существовать без гомотеизма? Теоретически, материалист мог бы заявить: «Всё есть материя, и человек – не более чем случайный продукт её развития, такая же часть природы, как амёба или обезьяна. Никакого особого статуса у него нет». Однако такое утверждение было бы лукавством. Сама по себе посылка «существует только то, что познаваемо» немедленно порождает следующий вопрос: «А кто является познающим? Кто тот судья, который выносит вердикт о том, что познаваемо, а что нет?». И ответ может быть только один: Человек.
Именно человек, с его разумом, его математическим аппаратом и его приборами, становится единственной мерой всех вещей. Декларируя материализм, человек, по сути, говорит: «Реально только то, что я могу измерить, постичь и проверить». Таким образом, сам акт провозглашения материализма является актом высшего гуманизма. Он неявно, но абсолютно точно ставит человека в эпистемологический центр Вселенной, делая его единственным источником и арбитром истины. Без человека, который бы его сформулировал и провозгласил, тезис о материализме – это просто бессмысленное сотрясение воздуха в пустой Вселенной. Материализм не может существовать без веры в человека, потому что ему нужен тот, кто наделит его статусом истины.
А может ли гомотеизм существовать без строгого материализма? Представим, что завтра физика придёт к выводу о существовании принципиально непознаваемых нами измерений. Например, такие идеи, как теория бран, являются вполне респектабельными в академической среде. Если будет признано, что мы заперты в своём пространстве и никогда не сможем изучить то, что находится вовне, это нанесёт удар по всемогуществу материализма. Но гомотеизму это не повредит. Вера в то, что человек является высшей ценностью и хозяином в своём мире, от этого не пострадает. Гомотеизм достаточно гибок, чтобы существовать даже в таинственной и не до конца познаваемой Вселенной.
Для гомотеизма важна гарантия того, что над Человеком не существует никакой высшей инстанции. Неважно, как её называть – Бог, разумная вселенная или законы кармы. Важно одно: её не должно быть, потому что любое её допущение немедленно лишает Человека статуса высшей ценности и конечной меры всех вещей.
Обратите внимание на то, как этот непреложный закон проявляется в отношении к возможному существованию инопланетной жизни. Гомотеизм вполне допускает такой сценарий, называя инопланетян «братьями по разуму». То есть равными, идущими параллельным путём, пусть даже ушедшими вперёд технологически. Но кем они ни в коем случае не могут быть – так это нашими «отцами».
Потому что само понятие «отец» подразумевает иерархию, первородство и, что самое невыносимое для этой веры, – возможность того, что мы являемся не самоцелью мироздания, а чьим-то творением, экспериментом или второстепенным продуктом. Вселенная может быть населена равными, но она не должна иметь создателя.
Какова же тогда роль материализма? Догмат материализма является тем идеологическим фильтром, который «очищает» реальность от всего, что нельзя измерить. Душа, дух, нематериальный разум, высший замысел – всё это объявляется продуктом невежества, архаичными понятиями, не имеющими места в рациональной картине мира. Он устанавливает жёсткие границы дозволенного: истинно лишь то, что можно измерить и описать физическим уравнением. Всё остальное – не более чем субъективная иллюзия, игра воображения. Материализм – это та аксиома, которая делает Бога или иную непознаваемую сущность не просто ненужным, а онтологически невозможным.
На этой расчищенной площадке возводится второй догмат – абиогенез. Важно понимать: здесь речь идёт не о научной гипотезе о происхождении жизни, а именно о догматическом утверждении. Оно гласит: жизнь возникла из неживой материи в результате случайных химических реакций. Для гомотеизма это не предмет для дискуссий, а абсолютная необходимость. Ведь если допустить, что жизнь не могла зародиться сама по себе, то вся постройка рухнет. Пришлось бы признать существование некоего внешнего «Творца» или нематериального «жизненного принципа», что является прямым отрицанием центральной аксиомы гомотеизма: веры в абсолютный суверенитет человека. Поэтому абиогенез принимается априори, как само собой разумеющееся событие, для которого лишь предстоит найти конкретный механизм.
Третьим столпом канона выступает эволюция через естественный отбор. Суть догмата не в самом факте изменчивости видов, а в утверждении, что слепой и неуправляемый естественный отбор является единственным механизмом, создавшим всё поразительное многообразие и сложность жизни на Земле. Этот догмат полностью исключает из биологии любое понятие цели, плана или замысла. Жизнь – это не направленный процесс, а череда случайных мутаций и безжалостной борьбы за выживание. Бабочка, глаз человека, мозг – всё это не результат проектирования, а лишь побочный продукт случайности, умноженной на огромное время. Эти три догмата вместе – физикализм, абиогенез и эволюция – создают законченную, внутренне непротиворечивую историю сотворения мира, которая стала священным писанием новой религии Человека.
Создав величественную и законченную историю происхождения Вселенной и жизни, гомотеизм столкнулся со своим последним и самым сложным вызовом: необходимостью объяснить природу собственного божества – самого человека. Ранний канон описывал, откуда произошёл человек, но не давал исчерпывающего ответа на вопрос, что он есть. Что такое сознание? Что такое личность, свобода воли, мысль? Чтобы зафиксировать свою картину мира, гомотеизм должен был расширить свой догматический аппарат. С развитием биологии, генетики и нейронаук во второй половине XX века были сформулированы два новых, чрезвычайно важных догмата, которые завершили построение материалистической антропологии.
Первый из них – догмат морфогенеза. Сам термин взят непосредственно из биологии (от греческих морфе – «форма», и генезис – «происхождение») и обозначает научную дисциплину, изучающую, как организм развивает свою форму. Однако в религии гомотеизма эта область знания превратилась в догмат – в непоколебимое утверждение о том, что вся информация о строении организма, его функциях и даже моделях поведения фундаментально и исчерпывающе закодирована в последовательности нуклеотидов ДНК. Генетический код рассматривается как полный и самоисполняемый чертёж. Согласно этому канону, человек предстаёт как результат предначертанной генетической программы, где талант, характер и интеллект – лишь конечная реализация того, что было записано при зачатии.
Второй, ещё более важный догмат, вторгается в область, лежащую на стыке нейробиологии и философии, и пытается дать ответ на вопрос о происхождении нашего разума. Суть этого догмата проста: всё, что мы привыкли называть своим внутренним миром – сознание, эмоции, мысли, воспоминания и даже самое сокровенное чувство собственного «Я» – является исключительно продуктом сложных материальных процессов в головном мозге. Не существует никакой души, никакого нематериального «наблюдателя». Есть только материя – триллионы синаптических связей и электрохимических импульсов. Этот догмат выполняет важнейшую идеологическую функцию: он захватывает последнюю территорию, которая исторически оставалась за философией и религией, – внутренний мир человека. Личность низводится до уровня сложнейшего биологического компьютера, свобода воли объявляется иллюзией, а любовь и вдохновение – лишь специфическими химическими реакциями. Принятие этого догмата превращает человека из тайны в полностью познаваемый объект.
Эти два более поздних догмата работают в связке. Один сводит наш дух к мозгу, второй – мозг к генетическому коду. Вместе они формируют железное кольцо материалистического объяснения, внутри которого для тайны человеческой личности просто не остаётся места. Так завершился канон гомотеизма: теперь не только мир и жизнь, но и сам человек был полностью объяснён.
Давайте сразу разберём самое очевидное и, на первый взгляд, сокрушительное возражение, которое непременно последует от любого защитника современного научного мировоззрения. Оно прозвучит примерно так: «Вы совершаете фундаментальную ошибку. У науки нет и не может быть догматов. То, что вы перечислили – материализм, абиогенез, дарвиновская эволюция – это не символы веры, а всего лишь лучшие на сегодняшний день научные теории. В самой природе науки, в её этическом кодексе заложена готовность к пересмотру. Этот принцип, известный как критерий фальсифицируемости, и есть то, что отличает науку от религии. Как только появится новая, более убедительная и подтверждённая фактами теория, она без сожаления сменит старую. В этом наша сила и наше главное достоинство».
Этот аргумент выглядит безупречным. Но он описывает не реальную науку, а её идеализированный, официальный миф. Давайте же отделим эту красивую декларацию от того, как научное знание функционирует на практике, в реальной жизни. Для этого обратимся к анализу, проделанному крупнейшим историком и философом науки XX века Томасом Куном. Он показал, что зрелая наука в любой момент времени существует не как набор разрозненных гипотез, а в рамках целостной, доминирующей научной парадигмы.
Парадигма – это не просто теория. Это вся система негласных убеждений, ценностей, методов и фундаментальных аксиом, которую научное сообщество принимает как данность. Это тот «здравый смысл», внутри которого и ведутся все исследования. И те постулаты, что мы перечислили – вера в материальность мира, в случайное зарождение жизни и в слепую эволюцию – являются не рядовыми теориями внутри текущей парадигмы. Они и есть эта парадигма. Это её несущая конструкция, её фундамент. Работа «нормальной науки», как показал Кун, заключается не в том, чтобы подвергать сомнению фундамент, а в том, чтобы решать головоломки внутри уже построенного здания.
Именно поэтому, когда отдельный учёный, даже с безупречной репутацией, осмеливается поставить под сомнение не детали, а саму суть одного из этих канонов, он перестаёт восприниматься как коллега с оригинальной гипотезой. Он становится ренегатом, нарушителем правил игры. Его деятельность – это уже не «нормальная наука», а посягательство на основы, которые дают смысл работе всех остальных. И система инстинктивно защищается. Его ждёт не конструктивная дискуссия, а системное отторжение, которое выражается в ярлыках «чудак», «маргинал» или, в лучшем случае, «философ». Его исследования назовут «спеуляциями», ему станет практически невозможно получить финансирование и опубликовать свои работы в авторитетных журналах. Этот механизм социального и институционального давления – самый эффективный способ защиты догматов.
Да, в истории религий догматы тоже менялись, особенно на ранних стадиях их развития. Но давайте зададим себе вопрос: был ли за последние сто с лишним лет – на такой же «ранней» стадии развития гомотеизма – серьёзно пересмотрен хоть один из его фундаментальных канонов? Ответ – однозначное «нет». Они лишь укреплялись и бетонировались. Теоретическая возможность изменений остаётся лишь красивой декларацией для внешнего мира. На деле же система, на словах провозглашая гибкость, жёстко и эффективно защищает свой незыблемый канон, потому что инстинктивно понимает: обрушение любого из этих столпов приведёт к коллапсу всего её мировоззрения.
Исчезновение смысла
Следующим возражением может стать вполне резонный вопрос: «А в чём, собственно, проблема? Пусть даже существует этот ваш гомотеизм – что в нём плохого? Он прекрасно сосуществует с другими религиями, а польза, которую приносит научный прогресс, многократно перевешивает любой гипотетический вред».
Это сильное возражение, и его нельзя игнорировать.
Едва ли есть необходимость подробно обсуждать, что дала нам наука. Это общеизвестно и прекрасно работает в нашей повседневной жизни. Перечень её достижений – от GPS-навигаторов и томографов до интернета, вакцин и атомных электростанций – можно продолжать до бесконечности. Всё это ни в коей мере не оспаривается. Наука как метод снабдила нас мощными инструментами, увеличила комфорт, расширила наши физические возможности и ощутимо удлинила среднюю продолжительность жизни. Это неоспоримый факт.
Но сейчас гораздо интереснее исследовать другую сторону медали – то, что гомотеизм, действуя от имени науки, у нас забрал. Хотя, пожалуй, слово «забрал» здесь не совсем точно. Никто не отнимал насильно. Мы отдали сами – постепенно, почти незаметно, в обмен на вышеупомянутые блага и иллюзию полного контроля над реальностью.
Начать этот непростой разговор, наверное, стоит с самого главного – с того, что раньше определялось как смысл жизни, а иногда, более возвышенно, как предназначение. Мы будем стараться не злоупотреблять последним словом, вынесенным в название книги, чтобы не обесценить его частотой употребления. Поэтому далее мы будем говорить преимущественно о смысле жизни – именно так, как этот вопрос обычно и формулируется в душе каждого человека.
Что же такое смысл жизни, и так ли он нам необходим? Почему, даже достигая успеха в карьере, создавая семью, растя детей, путешествуя по миру и наслаждаясь чашкой утреннего кофе, мы всё равно порой ощущаем глубинное «что-то не так»? Почему это смутное чувство беспокойства не только не уходит с возрастом, но зачастую лишь усиливается, приводя даже внешне успешных и благополучных людей к ощущению внутренней пустоты? Что именно мы утратили в тот момент, когда поверили, что всё в этом мире можно объяснить без остатка, сведя к материальным причинам?
Едва ли найдётся человек, который хотя бы раз в жизни, в тот или иной момент, не задавался вопросом о смысле своего существования. Но приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль, что всего каких-то 150–200 лет назад для большинства здравомыслящих людей такой вопрос в его нынешней остроте, как правило, не стоял? Он просто не мог возникнуть в той форме, в какой он терзает современного человека. Почему? Потому что на такие вопросы исчерпывающие ответы давала религия. И это были не просто абстрактные философские построения – это были ответы, глубоко прожитые, принятые всем существом, органично встроенные в саму ткань повседневной жизни. Они не столько обсуждались, сколько воспринимались как очевидность, как воздух, которым дышат. А вера подкрепляла эту очевидность, придавая ей статус незыблемой истины.
Смысл жизни не был тогда предметом мучительного индивидуального выбора или персонального «изобретения». Он был неотъемлемой частью общего миропорядка, частью общины, веры, традиции. Он был задан свыше, дан человеку как путеводная звезда. Его не искали – его принимали и ему следовали. И не потому, что люди были глупее или менее развиты, чем мы. А потому, что этот смысл не был искусственно отделён от самого устройства реальности, от понимания человеком своего места во Вселенной. Ответ давала религия, а вера делала этот ответ живым и действенным, расставляя всё по своим местам.
Христианство говорило: ты живёшь, чтобы спасти свою душу и обрести вечную жизнь. Буддизм предлагал иной путь: ты живёшь, чтобы пробудиться, вырваться из круговорота страданий и достигнуть нирваны. Иудаизм учил: ты – часть Завета, и твоя жизнь – это осознанный путь служения. Индуизм предлагал свою сложную систему дхармы и целей жизни. Каждая религия предлагала свой уникальный ответ, но главное – этот ответ был. И он был внешним по отношению к отдельному человеку, надличным, превосходящим его частную волю. Он был опорой, фундаментом.
А потом, как мы уже говорили, пришёл гомотеизм – мир, построенный на принципах науки, мир, где догматический материализм стал доминирующей философией. И этот новый мир постепенно, но неуклонно занял то место, которое прежде принадлежало религии. Школа начала вытеснять церковь в вопросах формирования мировоззрения. Университет стал главным центром знания. Врач во многих ситуациях заменил священника, а научный учебник – священные тексты. Рациональное мышление было провозглашено единственно верным способом познания, а вера была отнесена к сфере иррационального, субъективного, если не сказать – иллюзорного.
И на этом своём новом, самовольно занятом месте верховного авторитета гомотеизм повёл себя «честно» – в том смысле, что не стал ничего обещать из того, что не мог гарантировать в рамках своей материалистической парадигмы. Он не предложил ни Царствия Небесного, ни нирваны, ни вечной жизни души. Его ответ человечеству можно сформулировать так: с точки зрения строгого материализма, вопрос о смысле жизни некорректен и выходит за рамки научной компетенции; сначала требуется дать измеряемое определение «смысла», и лишь затем можно будет что-то сказать по этому поводу. А пока – следует заниматься своими делами, удовлетворять свои потребности, размножаться и не задавать метафизических вопросов, на которые нет научных ответов.
Гомотеизм, опирающийся на догмат материализма, не то, чтобы целенаправленно отнял у человека смысл жизни. Он просто не дал ему нового взамен того, что отбросил как ненужный хлам. Он выдернул человека из той системы координат, где была цель, где было «вертикальное измерение», и не предложил ничего, кроме «горизонтального» существования в мире причин и следствий. На месте прежней смысловой опоры образовалась экзистенциальная пустота, которую теперь каждый должен был заполнять самостоятельно, как умеет.
С этого момента начался мучительный поиск. Человек начал беспокоиться, рефлексировать, пытаться собрать новый смысл по кусочкам – из работы, из любви, из семьи, из творчества, из чего угодно. Но каждый из этих «самодельных» смыслов оказывался хрупким, временным, зависимым от обстоятельств. Такой смысл не выдерживал серьёзных жизненных ударов, он не давал опоры в старости или перед лицом смерти. И рано или поздно наступал момент, когда человек, оставшись наедине с собой, снова задавал тот самый проклятый вопрос о смысле всего – но теперь уже по-настоящему не знал, кому его адресовать.
Вот это мы и потеряли в первую очередь. Мы потеряли готовый ответ на вопрос о смысле жизни. Потеряли ощущение смысла, который больше нас самих. Потеряли чувство принадлежности к структуре, в которой мы были не центром мироздания, а лишь его важной частью.
Когда внешний, трансцендентный смысл исчез из общепринятой картины мира, люди, не в силах выносить образовавшуюся пустоту, начали конструировать себе смыслы сами. Иногда это происходило вполне осознанно, иногда – интуитивно. В этом поиске помогали философы, психологи, искусство. Но одно оставалось неизменным: почти каждый мыслящий человек так или иначе был вынужден заниматься этим «смыслостроительством». Потому что без какого-либо смысла, пусть даже иллюзорного, жить чрезвычайно сложно.
Наука в этом индивидуальном поиске смысла помогала мало. Более того, как ни парадоксально, она нередко мешала, подсовывая вместо живого ощущения смысла суррогатные «системы» и «модели». Многие помнят, как ещё в юности, когда их впервые по-настоящему захватывали вопросы «Зачем я живу? Чего хочу от этой жизни? К чему стремиться?», ответа не находилось. И в какой-то момент поиски прекращались из-за отчаяния.
Вместо экзистенциального ответа предлагались психологические «конструкты». Это называли «психологией развития личности» или «теорией мотивации» – например, знаменитой пирамидой Маслоу. Объясняли, что объективного смысла жизни не существует: есть лишь иерархия потребностей, которые надо удовлетворять по порядку – сначала физиологические (еда, сон, безопасность), затем потребность в принадлежности и любви, потом в уважении и признании. На вершине же – самореализация, которую иногда толкуют как «желание быть великим».
Звучит убедительно: простая и стройная модель человеческого поведения. Но стоит задуматься, что именно означает «быть великим». В каком масштабе измерять это величие – семьи, города, страны? Допустим, вас узнаёт половина планеты, о вас пишут книги и снимают фильмы. Но что это меняет в конечном счёте? В масштабах галактики любая человеческая биография – пылинка; в масштабах наблюдаемой Вселенной – ничто. Математически: на фоне бесконечности любое конечное число стремится к нулю. И чем яснее это осознание, тем сильнее внутренний протест: такая картина категорически не устраивает, но в рамках «сугубо научного» мышления будто бы и возразить нечем.
Лишь позднее приходит понимание: вопрос о значимости человеческих дел неразрешим изнутри, пока материальная картина мира принимается как единственно возможная. Единственное, что способно придать конечной величине – человеческой жизни, подвигу, творчеству – ненулевое, абсолютное значение, – это наличие внешнего, трансцендентного смысла, иной системы отсчёта. Как только сверх этого мира появляется нечто, для чего он важен, возникает перспектива, в которой даже малые дела обретают подлинную величину. Внешний смысл освещает внутреннее «величие», тогда как сделанный «вручную» смысл всегда условен, временен и подвержен инфляции перед лицом безмолвной вечности.