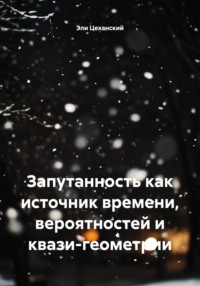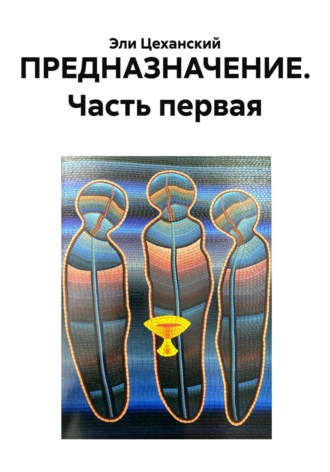
Полная версия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая

Эли Цеханский
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. КНИГА 1
Глава первая. Она же последняя. Все, что мог.
Я много раз пытался начать эту книгу. Писал первую главу, стирал. Менял тон, ритм, ход мысли. Снова возвращался и снова откладывал. Все время казалось: не хватает какого-то точного жеста, нужного первого слова, с которого все встанет на место. В какой-то момент я просто оставил эту идею и начал писать со второй главы. Так и пошло.
Это особенное чувство – поставить последнюю точку, оглянуться и впервые по-настоящему понять, что именно ты написал. Не что хотел сказать, а что в итоге сказал. Все стало яснее. Спокойнее.
И именно поэтому я понял, что должен написать в первой главе.
Я хочу рассказать, о чем будет эта книга и зачем я ее написал. Не как автор, который обещает, что «будет интересно», – а как человек, который хочет, чтобы тот, кто ищет чего-то другого, мог уйти сразу, не тратя времени. А тот, кто может найти здесь что-то важное, не споткнулся в самом начале и не ушел, так и не дойдя до главного.
Эта глава – первая по счету, но последняя по времени. Она – не предисловие и не аннотация. Это просто попытка показать, куда я шел, зачем и что, как мне кажется, получилось в итоге.
За страницами этой книги скрыт простой вопрос. Точнее – два. Все, что я когда-либо думал или писал, так или иначе сводится к ним.
Первый – есть ли смысл жизни?
Второй – есть ли жизнь после смерти?
Конечно, мы не привыкли формулировать это так прямо. Обычно разговор идет о здоровье, деньгах, воспитании детей, поиске себя, – но стоит копнуть чуть глубже, как выясняется: под всеми этими задачами лежит вопрос, ради чего все это. И будет ли это «все» иметь продолжение – или однажды просто исчезнет.
Кто-то, возможно, скажет: «Ага, понятно. Ты просто боишься смерти». Что ж, да. Вы угадали. Я боялся. Глубоко, по-настоящему. Не так, чтобы каждый день, не истерично. Но внутри, на уровне тела, я знал, что все закончится, и знал, что не хочу этого конца. Этот страх был со мной с раннего детства. Я никогда особенно не признавался себе в нем, но он был. Он заставлял отворачиваться от вечных тем и уходить в текущие дела. Он подсказывал: «Живи здесь и сейчас, потому что потом – ничто». Он не кричал. Он просто стоял в углу.
Теперь – нет. Я больше не боюсь. Не потому, что я придумал утешение. И не потому, что научился с этим жить. А потому что, пройдя путь этой книги, задав все вопросы, сделав все расчеты, я вдруг понял: есть вещи, которые нельзя объяснить случайностью. Есть структуры, которые не укладываются в рамки слепого биологического процесса. Есть логика, которая выходит за рамки материи.
Я не навязываю вам это ощущение. Но я искренне надеюсь, что эта книга даст вам возможность перестать бояться. Не за счет веры и вопреки разуму, а наоборот – через разум. Через знание. Через понимание. Не потому, что кто-то пообещал рай, а потому что вы сами увидите: мир устроен не так просто, чтобы смерть могла быть концом.
В первых главах книги я попробую показать, как наука – не намеренно, не агрессивно, а шаг за шагом – вытеснила сначала из самой себя, а затем из нашей картины мира все, что раньше было связано с понятием замысла.
Когда-то эти вопросы не стояли так остро. Был Бог или боги. Была душа. Были силы, которые были выше нас. Мы рождались в этой картине мира. Мы не сомневались.
Но с конца XIX века что-то начало меняться. Наука шагнула вперед – и вместе с ней к нам пришло новое мышление. Сначала робко, потом все увереннее. В XXI век мы вошли как единое культурное сообщество с негласной установкой: души нет, замысла нет, смысл надо придумать. Страх лечится таблетками. Вечность – это фантазия. Главное – оставаться рациональным.
Я не обвиняю. Но я не согласен.
Я не обвиняю науку. Но однажды я понял, что мы добровольно отдали самое важное, что у нас было. Отдали не под угрозой. По обмену. Как дикари когда-то отдавали золото за стеклянные бусы. Только теперь это томографы, смартфоны и сериалы – в обмен на бессмертие.
Я очень давно это понял. И так же давно решил: я хочу попробовать вернуть свое золото. Не выдумать новую веру. Не поверить «на всякий случай». А найти в самой науке – в ее разрывах, в недосказанностях – то, за что можно уцепиться. Не предположить, а доказать. Чтобы снова иметь право надеяться.
Поэтому, прежде чем говорить о душе, о доказательствах, я решил вернуться к началу – туда, в то время, где вера уступила место знанию. Или, если точнее, туда, где знание сделалось настолько убедительным, что мы почти перестали нуждаться в вере.
Я не пытаюсь сказать, что наука плоха. Напротив – я искренне восхищаюсь ее достижениями. Но именно потому, что она так убедительна, мы почти не заметили, как перестали задавать вопросы, на которые она не отвечает. Они просто выпали. Стали «ненаучными». А потом – неуместными. А потом – глупыми.
Вот об этом и будет начало книги: о том, как именно это произошло. Как именно наука, которая никогда не претендовала на роль новой религии, вдруг заняла ее место. Не потому что захотела, а потому что мы сами это допустили. Мы дали ей все ключи – от университетов, от медицины, от детских книжек и школьных программ.
А дальше случился эффект вытеснения. Там, где раньше жили «смысл», «душа», «вечность» – появились «нейропаттерны», «эволюционная целесообразность» и «адаптивное поведение».
Первые главы этой книги – не про доказательства и не про опровержения. Они – про то, как мы дошли до нынешней картины мира. Картины, в которой больше нет места для смысла – просто потому, что его некуда вставить.
В какой-то момент я понял, что если я действительно собираюсь пройти этот путь – если я хочу не просто задать вопросы, а попробовать на них ответить – мне придется вступить в разговор с самой наукой. Не с ее популярной оболочкой, не с интернет-дискуссиями и не с научпопом, а с ее сердцем. С тем, что кажется непререкаемым. С физикой.
Это странный выбор. Потому что сам я человек рациональный. Я люблю числа, вероятности, четкие логические конструкции. Мне ближе строгий аргумент, нежели вдохновенный порыв. Я действительно уважаю науку. И особенно – физику. Потому что если есть область знания, где порядок и строгость важнее, чем удобство объяснений, – то это именно физика.
Я понимал, что пока не разберусь с физикой, не могу переходить к тем наукам, которые можно называть «неточными». Мне нужно было, чтобы физика не мешала. Я не искал в ней союзника – я просто хотел сделать ее нейтральной. Но получилось иначе.
Я не собирался спорить с физикой. Это было бы глупо. И неуважительно. Она держит в руках ключи от Вселенной. Но я решил взглянуть на нее под другим углом. Не как на строгую систему, а как на источник удивления. И чем пристальнее я смотрел, тем яснее становилось: физика вовсе не закрывает дверь вере. Она ее приоткрывает. Просто никто не хочет туда заглядывать. Слишком уж непривычный пейзаж.
Квантовая механика, теория поля, темная материя, множественность возможных миров – все это не снимает вопросы, а рождает новые.
И я решил: пусть физика сама расскажет, где ее границы. Без давления и без вмешательства. Я просто буду следовать за ней – от Ньютона к квантовому хаосу, от уравнений к парадоксам. И если в какой-то момент она сама покажет мне, что у нее под ногами – бездна, я просто это зафиксирую.
Вот почему я начал именно с физики. Не чтобы опровергнуть, а чтобы удостовериться: если я снова начну верить – то не вопреки знаниям, а именно благодаря им.
В той части, где речь идет о физике, я опираюсь только на те гипотезы, которые признаны самой наукой. Я не влезаю в эзотерику. Я не выдумываю теорий. Я просто смотрю на то, что уже открыто, и задаю вопрос: «А вы точно понимаете, что вы нашли?» Потому что иногда кажется, что физика, сама того не желая, накопала куда больше, чем хотела. И теперь стоит на краю, не зная, как все это объяснить.
Есть области знания, которые наука снисходительно называет «неточными». Но именно там она почему-то абсолютно уверена, что у нее все под контролем. Там есть статистика, модели, геномы, схемы – и непоколебимая убежденность, что человека можно объяснить, если просто собрать достаточно данных. И вот здесь я вступаю в спор. Уже не как философ-наблюдатель, а как участник. Как человек, который вышел против громоздких, устоявшихся доктрин, вооружившись лишь логикой и здравым смыслом.
Первым предметом пристального анализа станет абиогенез – учение о зарождении жизни из неживого. На словах там все звучит гладко и убедительно: «удачное стечение обстоятельств», «миллиарды лет», «первичный бульон». Но как только я откладываю эти успокаивающие формулы и начинаю анализировать факты, вся эта стройная картина рассыпается в пыль. Вероятность случайного возникновения жизни не просто мала, она логически абсурдна. Она настолько ничтожна, что для ее реализации не хватило бы времени существования не только нашей Вселенной, но и тысячи таких вселенных.
После абиогенеза мы поговорим о теории эволюции. И здесь я хочу быть предельно точным: я не собираюсь оспаривать сам факт изменчивости видов, их адаптации и развития. Это было бы глупо. Я предлагаю посмотреть на этот процесс под другим углом. Ведь теория эволюции вступает в игру, когда жизнь уже есть. Она полностью опирается на абиогенез как на свой фундамент. А если этот фундамент, как показывает трезвый анализ, – логический мираж, то не начинает ли и само величественное здание эволюции выглядеть совершенно иначе?
Дальше – генетика. Именно она сегодня претендует на роль новой Книги Бытия. Нам говорят, что все, что раньше объяснялось замыслом, духом или судьбой, теперь приписывается хромосомам. Рост, характер, интеллект, даже любовь – все это, якобы, лишь реализация программы, записанной последовательностью четырех букв в молекуле ДНК. Это очень удобная и красивая картина. Но здравый смысл задает неудобный вопрос об информации: а сколько ее нужно, чтобы построить человека? Не цвет глаз, а всю анатомическую структуру, вплоть до последней нейронной связи? Всю ту архитектуру, что делает человека – человеком.
И, наконец, нейронаука. Возможно, самая уверенная из всех. Она говорит с твердостью, за которой пока стоит удивительно мало подлинного знания. Я не буду спорить с тем, что мышление связано с активностью нейронов – это очевидно. Нам показывают красивые картинки мозга, где разные участки загораются, как гирлянда на елке. Это все зафиксировано и изучено. Но считать, что мышление и сознание рождаются именно в этих связях – на мой взгляд, преждевременно. Мы видим корреляцию, но не причину. Мы видим проявление, но не источник. И даже не понимаем, где именно его искать.
Вот с этими догмами – в абиогенезе, теории эволюции, генетике, нейронауке – я и буду работать в этой книге. Моя цель – не разрушение. У меня нет для этого ни сил, ни желания. Моя цель – спор. Спокойный, вежливый, но беспощадный к логическим ошибкам и необоснованным допущениям. Я хочу найти ту черту, где наука, сама того не заметив, превратилась в идеологию. Где она перестала сомневаться и приняла гипотезу за доказанный факт. И главное – где еще не поздно сделать шаг назад. Остановиться, оглядеться. И, может быть, вернуться к вопросам, которые мы слишком рано посчитали закрытыми.
Я могу сказать просто: я сделал все, что мог. И, по крайней мере, я сказал именно то, что хотел сказать. Кто-то, безусловно, не согласится. Кто-то посчитает мои аргументы недостаточными. Скажет, что доказательства неубедительны, логика уязвима, а цифры можно интерпретировать по-другому. Что ж – это нормально. Так и должно быть.
Каждый будет судить сам.
Но если хотя бы небольшая часть тех, кто дочитает эту книгу до конца, вдруг поймет – не просто почувствует, а именно поймет – что жизнь не заканчивается в момент гибели нейронов, что человек не возник случайно, что за формулами, белками, мутациями и теориями все же просвечивает замысел…
Если это случится – если хотя бы один человек, как когда-то и я сам, поверит в это не вопреки знаниям, а через знание, – тогда я смогу считать, что стал самым счастливым на свете.
Часть 1. Потерянный смысл.
Intro
Путь к пониманию начинается с шага назад, в прошлое. Но не в то прошлое, что застыло в датах и именах, а в прошлое нашей собственной души. В то время, когда мир еще не лишился своего волшебства, а человек – своего места в нем. Когда небо не было пустым, а жизнь – случайной.
Многим этот шаг кажется ненужным. Мы живём, захваченные потоком настоящего, настороженно вглядываемся в будущее – и редко оглядываемся. Нам кажется, будто прошлое молчит. Но это иллюзия. Прошлое не молчит – мы просто перестали его слышать. Прошлое – это не ошибка, которую нужно отменить, а основание, на котором нужно строить будущее.
Ибо все ответы, которые мы ищем впереди, и вся опора, которой нам так не хватает сейчас, сокрыты именно там – в той точке, где мы однажды свернули не туда.
Неожиданный союз
С тех пор, как человек впервые поднял голову к небу, в нем живет яркое, неутихающее чувство. Не просто любопытство, как у кота, засунувшего морду в кастрюлю. А что-то гораздо более глубокое: желание понять, откуда все это – день и ночь, молнии, звезды, Луна, этот бесконечный, будто специально для него устроенный звездный спектакль над головой.
Древние не разделяли физику и поэзию. Для них Солнце не было просто шаром из водорода, а Луна – безжизненным отражающим телом. Они чувствовали, что в этих небесных движениях есть ритм, воля, может быть – замысел. И Солнце становилось богом, едущим по небу в сияющей колеснице. Луна – его сестрой, любовницей или богиней, сменяющей день на ночь. А молнии – это не просто электрические разряды, а гнев. Конкретный, личный, направленный. Люди не просто наблюдали за миром. Они разговаривали с ним. Или, по крайней мере, пытались.
В то время наука и вера, познание и почитание шли рядом. Они не воевали. Не спорили о главенстве. Не исключали друг друга из картины мира. Аристотель, систематизировавший античные знания, не видел противоречий между философией, логикой и признанием высшего порядка. Коперник, сместивший Землю с центра Вселенной, не разрушал мир Божий – он пытался постичь его истинную гармонию, спасти от излишних усложнений птолемеевской системы. Даже Ньютон, который дал нам классическую физику, заложившую основы современного естествознания, в перерывах между выведением уравнений всемирного тяготения и законов механики, увлеченно размышлял над библейскими пророчествами и пытался рассчитать дату конца света. Для него не было конфликта. Наука не вытесняла Бога. Она смиренно объясняла, как устроено Его творение.
Наука долгое время и не претендовала на философскую самостоятельность или мировоззренческое господство. Она рождалась и развивалась в лоне религиозного мироощущения. Она как бы говорила: «Смотрите, сколь премудро и изящно устроен этот мир!» И это изящество, эта математическая гармония и стройность физических законов воспринимались не иначе как доказательство божественного порядка и замысла. Бог виделся Великим Инженером, Геометром. Вселенная – Его совершенным механизмом. А учёный – смиренным подмастерьем, которому дозволено благоговейно изучать чертежи Мастера, оставленные на Его рабочем столе.
Именно поэтому ранняя наука не чувствовала себя врагом религии и не стремилась занять ее место. Она не искала конечного смысла бытия – она искала закономерности в явлениях. Она не спорила о природе души – она занималась изучением тела. Смысл, душа, вечность – все это оставалось в ведении Церкви, богословия, философии. А физика, астрономия, медицина трудились на своем этаже, с линейкой, телескопом и скальпелем. Они даже не смотрели в одну сторону в поисках ответов на главные вопросы человеческого духа.
Даже когда наступил просвещенный девятнадцатый век, наука сама по себе не вынашивала планов по свержению престолов. Она не представляла прямой угрозы для религии, смиренно занимаясь своим делом: объясняла мир и творила чудеса. И это не метафора. Нужно понимать, что для человека той эпохи ее деяния были неотличимы от магии. Наука зажигала газ в уличных фонарях, превращая ночь в день; заставляла стальные поезда бежать без лошадей, пожирая пространство; передавала человеческий голос по проводам через города и страны; изобретала антисептики, отнимая у смерти ее привычную добычу.
Да и сегодня, если отбросить привычку, то, что творит наука, остается чистым волшебством. Внутри неприметного смартфона заключена спрессованная магия, дающая доступ ко всем библиотекам мира, картам звездного неба и лицу близкого человека за тысячи километров. Мы просто привыкли к этим чудесам и перестали видеть в них чудо.
Наблюдая за этими чудесами, традиционным религиям следовало бы встревожиться. Увидеть, что в мир пришел новый легион пророков. Облаченные не в рубища, а в белые халаты, они были вооружены не посохами, а логарифмическими линейками и микроскопами. Их слово было подкреплено не откровением, а экспериментом. Их проповедью были не притчи, а доказательства, выведенные в строгих формулах.
Приход любого пророка, даже если он не призывает к бунту, представляет экзистенциальную опасность для старой веры, ибо само его существование доказывает, что монополии на истину больше нет. А этот новый пророк, хоть и не был агрессивен, оказался невероятно эффективным.
И почти в то же самое время, когда он начал свою деятельность, на сцену вышла другая сила. Незримая, но обладающая тектонической мощью, – это была идея, способная свернуть не просто горы, а сами основы теологического и смыслового порядка.
Прежде чем наука приступила к демонстрации своих чудес, подготовив почву для новой картины мира, в интеллектуальной жизни Европы зародилось движение, которое не было ни религией, ни политической доктриной. Оно было скорее тихой философской прелюдией к грядущим переменам.
Имя ему – гуманизм. В своем первозданном виде, рожденном в университетских залах эпохи Возрождения, гуманизм представлял собой не программу действий, а фундаментальный сдвиг перспективы. Он предлагал сместить фокус с небесного на земное, с божественного на человеческое. В центре этой новой вселенной оказывался не всемогущий Творец, а человек – существо, наделенное разумом, волей к творчеству и врожденным достоинством. Это была смелая, почти дерзкая мысль для мира, где каждый аспект жизни, от рождения до смерти, был пронизан идеей божественного провидения и подчинения высшей воле.
Гуманизм не возник на пустом месте – его корни уходили в глубину веков, в антропоцентризм, мировоззрение, где человек уже считался центром и мерой всех вещей. История антропоцентризма берет начало еще в античной Греции у мыслителей, подобных Аристотелю и получила мощное развитие в эпоху Возрождения. Именно тогда гуманисты, переосмысливая античное наследие, придали идее о превосходстве человека новую силу. Это мировоззрение, эволюционировавшее от древних идей о доминировании человека над миром до представлений о его превосходстве, придало гуманизму силу, сделав его не просто размышлением о достоинстве, а обоснованием человеческого господства.
Противопоставление гуманизма и Церкви было не лобовой атакой, а скорее созданием изящной, но принципиальной альтернативы. Гуманисты не сжигали иконы и не призывали к свержению папского престола. Они занимались другим: переводили Платона, изучали Цицерона, восхищались античной культурой. Они напоминали миру о том, что еще до прихода Христа существовала великая цивилизация, которая ставила во главу угла гармонию, логику и красоту, созданную человеческими руками и разумом. Их «бунт» был тихим. Вместо теоцентризма, где Бог является единственной мерой всех вещей, они предложили антропоцентризм, где такой мерой становится сам человек. Однако у этой новой системы координат была одна фундаментальная слабость: она была элитарной и умозрительной. Гуманизм не предлагал массам ни ритуалов, ни утешения в страдании, ни обещания вечной жизни. Он был интеллектуальной пищей для избранных, но не хлебом насущным для голодных.
Именно поэтому на протяжении десятилетий гуманизм оставался в тени, на периферии общественной жизни. Он жил в трудах философов, в стихах поэтов и на полотнах художников, но не имел ни храмов, ни приходов, ни армии проповедников. У него не было институционального скелета, способного выдержать конкуренцию с монолитной структурой Церкви. Гуманистическая идея была похожа на прекрасный, но бестелесный дух, обитающий в библиотеках и академиях. Ему не хватало плоти и крови, не хватало силы, способной выйти за пределы узкого круга посвященных и овладеть умами миллионов. Он был красивой теорией о величии человека, но у него не было никаких практических чудес, чтобы подкрепить свои претензии. Мир вокруг продолжал жить по старым законам, обращаясь с молитвами к небу, а не к возможностям человеческого разума.
Для того чтобы эта тихая философская прелюдия превратилась в оглушительную симфонию нового мировоззрения, ей был нужен свой Пророк. Сила, которая смогла бы не просто провозгласить, а наглядно доказать, что человек действительно способен стать хозяином своей судьбы.
Практически любая религия, претендующая на истину, начинает свой путь с демонстрации чуда. Без этого неопровержимого доказательства сверхъестественной силы невозможно убедить людей отказаться от старых богов и принять новых. Моисей должен был раздвинуть воды моря, чтобы повести за собой народ. Христос должен был исцелять больных и воскрешать мертвых, чтобы его проповедь обрела вес. Чудо – это стартовый капитал веры, ее первоначальное, неоспоримое свидетельство. И именно этого капитала не было у гуманизма. Он мог предложить лишь красивые идеи.
Но явился пророк, пришедший из лабораторий и мастерских. Имя ему было – Наука. Его «чудеса» были реальны и осязаемы: паровые машины, электричество, телеграф, новые лекарства. Наука на практике доказала, что человеческий разум – это не просто предмет для гордости, а самый мощный инструмент для преобразования реальности. Произошел судьбоносный союз. Антропоцентризм и гуманизм обрели своего чудотворца, а наука обрела душу – высокую цель: служение человеку и построение лучшего мира его собственными силами.
Как это часто бывает, дорога, вымощенная самыми благими намерениями, привела вовсе не в рай просвещения и гармонии. Изначальный союз науки, антропоцентризма и гуманизма был искренне идеалистичен. Одни искали истину в беспристрастных фактах, другие – достоинство в свободе человеческого духа. Вместе они мечтали освободить человечество от оков суеверий, болезней и невежества. Но власть, даже власть интеллектуальная, обладает свойством опьянять. И этот благородный альянс не стал исключением. Довольно быстро, ощутив свою растущую силу, все три стороны словно заглянули в зеркало своей исторической памяти.
Гуманизм, веками бывший скромной философией для избранных, вдруг почувствовал в себе кровь и плоть новой веры. Вооруженный неопровержимыми чудесами науки и укрепленный антропоцентрической иерархией доминирования, он осознал, что может не просто быть советником при троне, но и сам занять этот трон. Он увидел возможность стать полноценной религией – религией Человека, – способной дать ответы на все вопросы и повести за собой миллионы.
В то же время наука, оглянувшись на свое прошлое, вспомнила все: унижение Галилея, костер Джордано Бруно, века презрительного недоверия и гонений со стороны Церкви. С высоты нового положения эти события виделись уже не трагическими эпизодами, а счетом, который наконец-то можно предъявить к оплате. Прежний страх сменился холодной решимостью. Так всегда бывает: новая сила приходит, декларируя свободу и благо, но в итоге одна власть просто сменяется другой.
Переломный момент наступил во второй половине XIX века. Хотя почва готовилась десятилетиями трудами физиков, рисовавших картину безразличной, самодостаточной Вселенной, громом среди ясного неба стала теория Чарльза Дарвина. Именно он, возможно, сам того до конца не осознавая, нанес старой картине мира удар, от которого она уже не смогла оправиться. «Происхождение видов», опубликованное в 1859 году, было не просто еще одной научной гипотезой. Это был альтернативный «Ветхий Завет» – полная, детальная и исключительно материалистическая история сотворения жизни, не требующая ни Божественного замысла, ни акта творения. Дарвин вручил антропоцентризму и гуманизму их собственную Книгу Бытия. Он низвел человека со статуса падшего ангела до положения возвысившейся обезьяны. Конфликт перестал быть отвлеченным. Он вошел в каждый дом, в каждую школу, в каждое сознание.
Именно в этот момент, в конце XIX века, стало окончательно ясно: союз антропоцентризма и гуманизма, получивших свое «священное писание», и науки, получившей статус творца чудес, официально сделал заявку на то, чтобы стать новой, доминирующей религией просвещенного мира. Это не было объявлено с церковных кафедр. Это был тихий переворот, происходивший в университетских аудиториях, редакциях журналов и лабораториях. Новая вера начала переписывать учебники, определять, что является знанием, а что – предрассудком, что – реальностью, а что – мифом. Она не сражалась со старыми богами в открытом бою. Она просто методично выносила их из всех сфер, где принимаются важные решения, оставляя им лишь небольшое, строго очерченное гетто культурной традиции. И, глядя из нашего времени на мир, который этот союз построил, можно с уверенностью сказать: у них получилось. Заявка была не просто подана – она была удовлетворена.