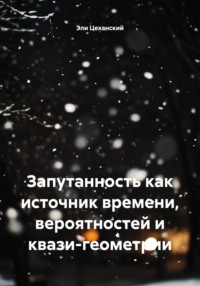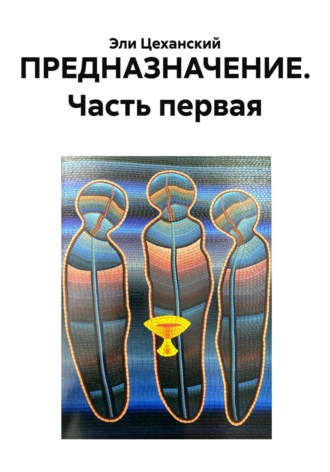
Полная версия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Часть первая
Именно этот внешний смысл у нас и отняли. Взамен мы получили кажущуюся свободу самим задавать цели и ценности. Но вместе с ней пришла экзистенциальная пустота, головокружение от безопорности. Свобода без фундаментальной опоры вовне – это не просветление, а дезориентация и потерянность.
А главное – мы даже не сразу поняли, как и когда это произошло. Потеря была постепенной, как медленное выцветание старой фотографии.
Замки на песке
Когда человек остаётся один на один с вопросом «зачем жить?», и ему никто не предлагает авторитетного ответа извне, он, как уже было сказано, начинает искать или конструировать этот ответ сам, внутри себя. Оставшись в экзистенциальной пустоте после «смерти Бога» и крушения великих метафизических систем, современный человек отправляется в мучительный квест по созданию персонального смысла. Он пытается извлечь его из того, что ему доступно: из семьи и детей, из достижений, из саморазвития, из творчества, из любви, из служения другим, из общественного признания.
Но если присмотреться внимательнее, почти все эти версии «внутреннего» смысла, если они не опираются на нечто большее, чем сам человек, рано или поздно сводятся к одному и тому же: к удовлетворению собственных потребностей, желаний и амбиций. Они вращаются вокруг «Я», как планеты вокруг своего единственного солнца. Давайте рассмотрим самые популярные из этих самодельных конструкций и посмотрим, насколько они прочны.
Прежде всего, необходимо сказать о самом сильном, самом естественном и, для большинства людей, самом очевидном ответе на вопрос о смысле жизни. Конечно же, речь идёт о семье. И здесь крайне важно сделать оговорку: последующий анализ ни в коем случае не является критикой или обесцениванием семьи как таковой. Семья, любовь, забота о близких, воспитание детей – это, возможно, самое прекрасное, важное и настоящее, что есть в человеческой жизни. Этот разговор – не о социальной ценности семьи, а исключительно о её способности или неспособности быть окончательным, фундаментальным ответом на экзистенциальный вопрос о смысле бытия.
Когда внешний, трансцендентный смысл исчез, человек инстинктивно ухватился за самое дорогое и реальное, что у него было – за своих близких. На руинах великих метафизических систем была возведена последняя и самая уютная крепость, в которой современный человек пытается укрыться от ледяного ветра бессмысленности. Имя этой крепости – семья. На первый взгляд, этот бастион кажется неприступным. В чём его сила?
Во-первых, он апеллирует к нашей самой глубокой, самой древней биологической программе. Продолжение рода, передача своих генов в будущее – это фундаментальный инстинкт, дающий ощущение правильности, естественности происходящего. Мы делаем то, что «должны». Во-вторых, семья даёт человеку то, в чём он отчаянно нуждается, – безусловную любовь и чувство принадлежности, спасая от тотального одиночества. В-третьих, семья предлагает очень понятную форму «горизонтального бессмертия» – идею о том, что ты продолжишься в своих детях и внуках. Наконец, семья даёт жизни конкретную, повседневную, практическую цель, заполняя время и мысли потоком ясных и неотложных задач.
И всё же, при всей своей святости и неоспоримой ценности, может ли семья быть окончательным ответом на вопрос о смысле? Способна ли она стать той самой скалой, на которой можно построить весь замок своего бытия? Увы, при более глубоком и честном рассмотрении становится очевидна трагическая хрупкость этого последнего бастиона.
Первая и самая очевидная уязвимость этого смысла – его зависимость от внешних обстоятельств. Семейное счастье – это прекрасный, но хрупкий хрустальный сосуд. Он может разбиться в любой момент. Дети вырастают и уходят, любовь может угаснуть, близкие болеют и умирают. Случайная трагедия может в один миг отнять тех, в ком была заключена вся ваша жизнь. И что тогда? Если весь смысл вашего существования был сосредоточен в них, то что остаётся вам? Пустота. Чёрная дыра на месте смысла. Жизнь, которая раньше была наполнена до краёв, вдруг оказывается бессодержательной и ненужной. Персональный смысл, будучи конечным, исчерпывает себя.
Но есть и более тонкая, внутренняя проблема. Даже самая искренняя любовь к семье, если она не имеет внешней опоры, рискует незаметно превратиться в ещё одну форму служения собственному «Я». Смысл здесь черпается не из самого факта существования близких, а из той роли, которую мы играем по отношению к ним.
Человек находит удовлетворение не в семье как таковой, а в своём статусе в ней: «Я – хороший муж», «Я – заботливая жена», «Я – прекрасная мать», «Я – достойный отец». С самого детства нас учат быть «хорошим ребёнком», и эта модель переносится во взрослую жизнь. Смысл существования сводится к успешному исполнению предписанной социальной роли. Семья становится сценой, а её члены – и зрителями, и зеркалами, в которых мы ищем подтверждение своей «хорошести».
И тогда вся драма жизни разворачивается вокруг этого перформанса. Главная цель – не счастье другого как самоценность, а получение внутреннего удовлетворения от идеально сыгранной роли. «Я всё для них делаю», «Я пожертвовал(а) всем ради семьи» – в этих фразах, часто произносимых с искренней убеждённостью, за благородным фасадом скрывается глубокая трагедия. «Они» становятся функцией от моего «Я», инструментом для моего самоутверждения. Их успехи – это мои успехи. Их благодарность – это плата за мои усилия. Их любовь – это подтверждение моей ценности. Истинным объектом любви и заботы становится не другой человек, а собственное отражение в его глазах, собственный идеализированный образ «правильного» семьянина. Это очень комфортная и социально одобряемая форма эгоцентризма.
И наконец, самая глубокая, философская проблема. Допустим, смысл жизни человека – в его детях. Хорошо. А в чём смысл их жизни? По этой же логике – в их детях. А смысл жизни внуков – в правнуках. И так далее. Возникает своего рода «пирамида смыслов», где каждый этаж опирается на следующий. Это цепь, где каждое звено находит своё оправдание в последующем. Но на чём держится вся цепь целиком? У неё нет точки опоры. Это «горизонтальный» смысл, который никогда не обретает «вертикального», трансцендентного измерения. В конечном итоге, вся эта цепочка упирается в ту же самую стену небытия.
Таким образом, семья – это не сам Смысл. Но это, возможно, лучшая школа, где мы можем научиться ему служить. Но для этого необходимо, чтобы сам этот горизонт существования Смысла был. Без этой внешней, надличностной системы отсчёта даже самая крепкая и любящая семья рискует остаться лишь прекрасным и трогательным «замком на песке».
Другая утончённая версия внутреннего смысла – достижение как смысл. Здесь фокус смещается на успех, статус, карьеру, богатство, власть. Человек находит смысл в том, чтобы быть лучше других, доказывать свою значимость, взбираться по социальной лестнице. Это мощный двигатель, заставляющий людей совершать невероятные усилия, строить бизнес-империи, делать научные открытия, создавать произведения искусства. Но и этот смысл оказывается трагически хрупким. Он полностью зависит от внешних обстоятельств и оценок. Карьера может рухнуть, богатство – исчезнуть, успех – оказаться временным. А что происходит, когда главная цель достигнута? Очень часто – опустошение. Человек, положивший всю жизнь на то, чтобы взобраться на вершину горы, обнаруживает, что на вершине холодно, одиноко и нет ничего, кроме усталости. Кроме того, этот смысл полностью обесценивается с приходом старости или болезни, когда человек теряет способность конкурировать и достигать.
Наконец, самая благородная и уважаемая форма внутреннего смысла – смысл как служение другим. Помощь ближнему, альтруизм, борьба за справедливость, стремление сделать мир лучше. Кажется, что здесь-то мы наконец выходим за пределы своего «Я». Но так ли это, если нет внешней, надличностной системы ценностей? Без опоры на трансцендентное, даже служение другим может превратиться в изощрённую форму эгоцентризма. Человек помогает не столько потому, что «другой» имеет самоценность в глазах Бога или Вселенной, сколько потому, что это помогает ему самому чувствовать себя хорошим, нужным, значимым. Другие люди и даже всё «человечество» становятся инструментом для его собственной самореализации. И когда другие не проявляют должной благодарности или когда результаты служения оказываются не такими впечатляющими, как хотелось, наступает горькое разочарование и выгорание.
Вся эта пирамида смыслов, построенная без опоры на внешний, надличностный фундамент, в конечном итоге замыкается на самом человеке, на его «Я».
Эта логика глубоко проникла в современные гуманитарные науки. Те же психологические модели, о которых упоминалось, вроде пирамиды Маслоу, прямо или косвенно утверждают: никакого объективного, заранее данного смысла жизни нет. Есть лишь иерархия человеческих потребностей, и по мере их последовательного удовлетворения человек «продвигается» к вершине – к так называемой самоактуализации. Но сама структура этой пирамиды недвусмысленно указывает на то, что конечной целью и высшей ценностью является сам человек, его индивидуальное развитие и благополучие. Всё остальное – мир, другие люди, общество – рассматривается преимущественно как средства или условия для достижения этой цели.
Философия эту мысль не только с готовностью приняла, но и во многом возвела в норму, в своего рода интеллектуальный мейнстрим. Сначала «умер Бог» – у Ницше. Затем, как следствие, умер и предустановленный свыше смысл. Экзистенциалисты, такие как Жан-Поль Сартр, провозгласили, что «существование предшествует сущности»: человек сначала появляется в мире и лишь затем, своими поступками, определяет, кем он является. Он «осуждён быть свободным», и эта свобода – тяжёлое бремя, потому что он должен «создать себя заново», вылепить свой смысл из ничего. И этот человек, оказавшись перед лицом экзистенциальной пустоты, не нашёл ничего лучшего (или не смог найти, будучи лишён прежних ориентиров), чем наделить самого себя абсолютной значимостью, стать самому для себя богом и смыслом.
Хочешь – живи ради искусства и красоты. Хочешь – ради власти и силы. Хочешь – ради свободы и бунта. Хочешь – ради служения человечеству. Главное – сам решай, сам выбирай, сам неси ответственность за свой выбор.
Эта формула звучит очень привлекательно, как гимн свободе и человеческому достоинству. Но в реальности, если она не уравновешена чем-то большим, она слишком часто ведёт не к подлинному расцвету личности, а к утончённому эгоцентризму. Потому что если единственный критерий истины, смысла и ценности – это ты сам, твоё «Я», твои желания, твои цели, твоё самоощущение, то всё, что ты называешь смыслом, неизбежно будет вращаться вокруг этого «Я», даже если оно будет красиво оформлено в высокие слова о самореализации.
Фридрих Ницше в этом смысле был не просто ярким философом, а настоящим пророком новой эпохи – эпохи «смерти Бога» и воцарения «человекобога». Он первым с предельной ясностью и беспощадной жёсткостью провозгласил: старого Бога больше нет, и никакого нового не будет. Теперь человек – это и есть Бог, или, по крайней мере, мост к Сверхчеловеку. И значит, он сам должен определять, что есть добро, а что зло. Кто достоин жить и властвовать, а кто – лишь материал для чужой воли.
Мы слишком хорошо знаем из истории XX века, кто именно почитал Ницше как своего любимого философа, и во что превратилась его идея «воли к власти» и «сверхчеловека», когда она соединилась с безжалостным государственным аппаратом и расовой идеологией.
Внутренний поиск смысла, обращение к своему сердцу, к своей совести – это важнейшая часть духовной жизни. Внутренний смысл может быть источником огромной силы, утешением в горе, светом во тьме. Но ключевой момент здесь – это наличие или отсутствие внешней опоры для этого внутреннего смысла. Внутренний смысл без связи с чем-то большим, чем ты сам, без соотношения с надличностными, трансцендентными ценностями – это как прекрасная картина без стены, на которую её можно повесить. Как компас, у которого нет магнитного поля, чтобы указать на Север. Он начинает беспорядочно вращаться вокруг своей оси, или указывать в случайном направлении. Такой смысл может быть эстетически красив, психологически комфортен, искренен. Но он всегда остаётся лишь внутренним для самого себя. А значит – непроверяемым объективно, необязательным для других, временным и, в конечном счёте, уязвимым для самообмана или для тонкого тщеславия, замаскированного под «духовный путь».
Без внешней, надличностной системы отсчёта внутренний смысл слишком легко превращается в изощрённую форму самооправдания, в служение собственным страстям или амбициям, прикрытое красивыми словами. И это, пожалуй, одно из самых тихих, но и самых печальных последствий утраты той фундаментальной опоры, которую раньше давала религия или целостное метафизическое мировоззрение: ты вроде бы живёшь, вроде бы к чему-то стремишься, что-то строишь – но всё время с подспудным ощущением, что строишь свой замок на песке, который в любой момент может быть смыт волной бессмыслицы.
Невозможно описать в этой книге, каким именно должен быть «правильный» смысл жизни для каждого. Цель лишь в том, чтобы мы вместе попробовали осознать, что именно мы потеряли, отказавшись от идеи внешнего, объективного смысла, – и почему так важно стремиться вернуть хотя бы само ощущение, саму уверенность в том, что такой смысл обязательно должен существовать.
Не обязательно сразу определять, в чём конкретно он заключается. Важно сначала прийти к твёрдому внутреннему убеждению, что он есть. Не выдумать его для самоуспокоения, не высосать из пальца, не сконструировать искусственно. А как взрослые, образованные, мыслящие люди – честно признать, проанализировав все «за» и «против»: да, мир не может быть бессмысленным, значит, смысл есть. А дальше – каждый будет решать сам, как его искать и в чём находить. Кому-то поможет религия, кому-то – обновлённая философия, кому-то – его собственные глубокие убеждения или просто интуиция и здравый смысл. Это уже глубоко личное. Но только если ты знаешь, что этот внешний Смысл в принципе существует, у тебя появляется на что опереться в своём внутреннем поиске. А пока этой уверенности нет – всё остальное будет шататься, как карточный домик.
Потеря бессмертия
Теперь нам предстоит перейти к ещё одной, возможно, даже более важной и очевидной потере, которую принёс нам мир, построенный на фундаменте догматического материализма. Наверное, даже нечестно называть это просто «потерей» – потому что в данном случае у нас это именно отняла наука, или, точнее, та философия, которая говорила от её имени. И речь идёт не о чём-то метафорическом или символическом. Речь идёт о нашем реальном, как мы его ощущали и понимали на протяжении тысячелетий, бессмертии.
Да, как бы пафосно или даже наивно это ни звучало для уха современного «просвещённого» человека – речь идёт именно о бессмертии. О том фундаментальном представлении, которое раньше было неотъемлемой частью человеческой картины мира, частью самого человеческого бытия. И которое теперь кажется многим неловким пережитком прошлого, почти детской фантазией. Далее речь пойдёт об этом преимущественно в контексте бессмертия души, потому что именно так это понятие исторически понималось в большинстве культур и религий. Но давайте на секунду остановимся и задумаемся: что мы вообще традиционно имели в виду под этим словом – «душа»?
Мы ведь интуитивно всегда отождествляли своё «Я», свою личность, свою сущность не столько с физическим телом, сколько с чем-то большим, с чем-то внутренним. С тем, что мыслит, чувствует, переживает, любит, страдает, принимает решения. С тем, что, как мы верили, остаётся, когда тело умирает и распадается. Тело воспринималось скорее как временный сосуд, как инструмент, как одежда. А душа – как истинное содержимое этого сосуда, как невидимый жилец, как сам человек в его подлинной сути. И когда сосуд разрушался, содержимое, как мы были убеждены, не исчезало бесследно вместе с ним. Оно куда-то переходило, где-то продолжалось.
В какой конкретно форме это продолжение мыслилось – это уже детали, различавшиеся от культуры к культуре, от религии к религии. Кто-то верил в рай и ад, кто-то – в цепь перерождений, кто-то – в слияние с безличным Абсолютом или в растворение в мировом энергетическом океане, кто-то – в возвращение к предкам или к вечному свету. Но самое главное, что объединяло все эти представления, – это была глубокая, почти генетическая уверенность в том, что человек не исчезает бесследно со смертью тела. Что он не гаснет, как задутая свеча. Что его «Я», его сознание, его личность не растворяются без остатка с последним ударом сердца и последним вздохом.
Мы были бессмертны – в своём самоощущении, в своей вере, в своей картине мира. Мы были убеждены в этом. Это не было предметом отвлечённых философских дискуссий для большинства людей. Это было основой всего их миропонимания, их этики, их отношения к жизни и смерти. Жить имело смысл, потому что за этой короткой земной жизнью было некое продолжение, некий итог. Потому что ты – не просто сложная биохимическая машина, не просто последовательность случайных химических реакций, а нечто большее, нечто непреходящее.
И вот это ощущение, эту веру, эту фундаментальную опору у нас и отнял гомотеизм – материалистическая религия, которая узурпировала право говорить от имени всей науки. Причём отняла не в жарких спорах на диспутах, не огнём и мечом инквизиции, не в открытой борьбе идей. А тихо, методично, системно, научно, логично. Без лишнего шума. Просто сказала, как нечто само собой разумеющееся: душа – это выдумка жрецов и философов-идеалистов. Сознание – это всего лишь функция мозга, сложный эпифеномен его нейронной активности. После смерти – ничего. Просто полное и окончательное отключение системы. Всё, что ты называл собой, своей личностью, своим «Я», – это лишь активность твоей нейронной сети. Погас электрический сигнал в нейронах – исчез ты. И всё. Конец. Занавес.
Это была одна из самых тяжёлых, самых травматичных потерь в истории человечества. И, пожалуй, одна из самых невосполнимых в рамках той картины мира, которую нам предложили взамен.
Потому что лишиться веры в бессмертие – это не просто отказаться от утешительной сказки или психологической поддержки перед лицом смерти. Это нечто гораздо большее. Это – отказаться от горизонта вечности в своей жизни. Отказаться от того масштаба, который придавал твоим поступкам, твоим мыслям не сиюминутное, а непреходящее значение. Отказаться от того, что делало страдание – не бессмысленной пыткой, а испытанием, имеющим какой-то высший смысл и возможное искупление или преображение.
Без перспективы бессмертия жизнь становится не просто трагически короткой. Она превращается в замкнутую систему, в игру с нулевой суммой. В этой системе, что бы ты ни делал, каких бы высот ни достигал, какие бы добрые дела ни совершал, ты всё равно подспудно знаешь: всё это закончится. Без остатка. Без следа в вечности. Без конечного смысла, выходящего за пределы этого короткого земного отрезка.
Когда человек теряет веру в бессмертие, это меняет не только его философскую картину мира. Это коренным образом меняет его внутреннее психологическое состояние. Даже если он не всегда отдаёт себе в этом отчёт. Даже если внешне он бодрится и заявляет: «Я не боюсь смерти, я реалист», – где-то в глубине его существа появляется нечто, что начинает действовать. Тихо. Скрыто. Но очень эффективно и разрушительно. Имя этому «нечто» – экзистенциальный страх.
Мы все боимся смерти в той или иной степени. Это не стыдно. Это естественная реакция живого существа на перспективу небытия. Даже те, кто решается на самоубийство, как ни парадоксально это звучит, часто боятся не столько самой смерти, сколько невыносимости жизни – и это подтверждено многими психологическими исследованиями. Страх смерти у таких людей никуда не исчезает, просто страх перед дальнейшей жизнью в какой-то момент перевешивает его. Но даже те, кто добровольно уходит из жизни, часто делают это не потому, что твёрдо уверены в полном и окончательном «ничто», а потому, что внутри них самих уже не осталось ничего живого – ни внешнего смысла, ни внутреннего стержня, ни связи с миром.
Давайте посмотрим на обычного, среднестатистического человека. На любого из нас. Мы живём своей повседневной жизнью: работа, дом, семья, какие-то дела, планы на будущее. Но где-то в самой глубине нашего подсознания, как заноза, почти всегда присутствует это смутное, тревожное ощущение. Оно не кричит постоянно, не всегда осознаётся. Оно просто есть. Оно может на мгновение всплывать на поверхность в моменты болезни – своей или близких. В кабинете врача, когда мы ждём результатов анализов. В тишине бессонной ночи. Когда что-то внезапно кольнуло в боку – не там и не так, как обычно. Когда мы слышим о внезапной смерти кого-то из знакомых. Когда что-то вдруг резко напоминает: ты – конечен. Твоё время здесь ограничено.
Чем старше становится человек, тем чаще и настойчивее это ощущение даёт о себе знать. Это не острый страх в прямом смысле слова, как страх перед хищником или перед падением с высоты. Это не паника. Это не леденящий ужас (хотя иногда может быть и он). Это скорее глубинное, экзистенциальное знание о том, что всё неизбежно закончится. И ничто не поможет этого избежать. Ни успех, ни деньги, ни слава, ни любовь близких, ни накопленные знания. Всё исчезнет вместе с тобой. Это знание, если не уравновешено верой в продолжение, начинает подтачивать изнутри. Оно не даёт покоя. Оно отравляет радость от хороших моментов жизни, бросая на них тень грядущего конца. Оно мешает по-настоящему расслабиться и быть счастливым «здесь и сейчас». Оно делает человека внутренне напряжённым, насторожённым, постоянно как бы «защищающимся» от этой мысли.
Этот подсознательный страх небытия может проявляться и в самых бытовых вещах. Он мешает нам вовремя пойти к врачу – потому что мы боимся услышать страшный диагноз, боимся узнать, что «уже ничего нельзя сделать». Он мешает нам принимать смелые решения, рисковать – потому что «а вдруг это последний шанс, и он будет упущен?». Он делает нас более робкими, более конформными, более сдержанными в проявлении своих истинных чувств и желаний, чем нам хотелось бы быть. Он заставляет нас судорожно цепляться за эту земную жизнь, за её удовольствия, за её материальные блага, как за единственное, что у нас есть, – потому что именно так нам и внушает материалистическая картина мира: «Ничего другого не будет. Только это. Бери от жизни всё, пока можешь».
Если человек внутренне убеждён, что смерть – это просто полное отключение системы, просто конец работы физического тела, то вся его жизнь, даже если он этого не осознаёт, превращается в своего рода тревожную защиту от этой мысли, в попытку отодвинуть её, забыть, заглушить. И даже если он гордо называет себя атеистом, рационалистом или материалистом – это не делает его свободнее от этого глубинного страха. Наоборот. Это может делать его ещё более внутренне зажатым, потому что теперь он один на один со своей конечностью, он отвечает за всё – и никто не поможет, никто не продолжит его путь, никто не подхватит знамя его жизни.
Это первый и, пожалуй, самый прямой и неизбежный результат массового отказа от веры в жизнь после смерти. Эта вера, даже если мы не думали о ней каждый день, была нашей глубинной внутренней опорой, нашим последним прибежищем. Без неё на месте опоры возникает зияющая пустота, порождающая страх. И чем старше становится человек, тем глубже этот страх врастает в его повседневность, становясь фоном всей его жизни. Мы просто не всегда это замечаем или не хотим себе в этом признаваться.
Мы заменили веру в бессмертие души верой во всемогущество материи. И первое, что получили взамен – это экзистенциальный страх. Тихий, но постоянный. Незаметный для поверхностного взгляда, но во многом определяющий наше поведение и наше самоощущение.
Гедонизм от отчаяния
Одним из самых заметных и широко распространённых следствий утраты веры в бессмертие становится постепенное смещение фокуса человеческой жизни в сторону поиска и максимизации удовольствий. Причём это не всегда сразу проявляется как грубый, примитивный гедонизм в его классическом понимании. Иногда это происходит очень тонко, почти незаметно. Человек просто начинает жить по принципу «здесь и сейчас», что само по себе неплохо. Но в контексте отсутствия другой перспективы, этот принцип часто трансформируется в установку: «Раз за пределами этой жизни ничего нет – значит, надо взять от неё всё, что можно. Насладиться по полной программе. Успеть попробовать всё. Не упустить ни одного шанса получить удовольствие».
Если нет ничего «выше» тебя, если нет никакой трансцендентной цели или оценки твоей жизни, то остаёшься только ты сам – твоё тело, твои ощущения, твои желания. И тогда смысл жизни, вольно или невольно, начинает сводиться к обслуживанию этих желаний. Вкусная еда. Комфортное жильё. Приятные сексуальные отношения. Яркие развлечения и впечатления. Путешествия. Обладание красивыми вещами, престижными атрибутами. Забота о своём теле, стремление к его идеальной форме и вечной молодости. Поиск всё новых и новых источников положительных эмоций, острых ощущений, «оригинального опыта».