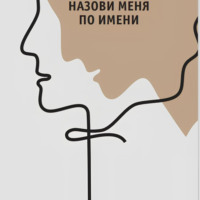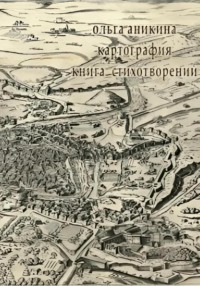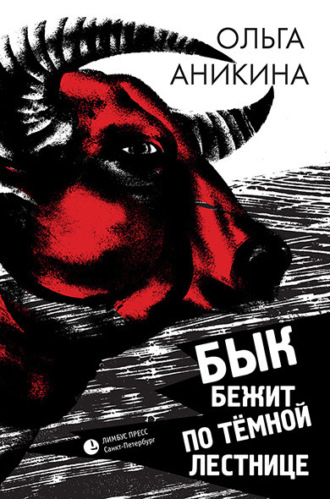
Полная версия
Бык бежит по тёмной лестнице
Он поднялся с места.
– Выпьем за Ялту, – сказал он и почему-то обернулся ко мне. – За Севастополь и Феодосию. Слышали, молодые? Мы вам недавно подарок сделали, землю вернули. – Он обернулся вдруг и кивнул в сторону моего свёртка. – Но вы же дети общества потребления, ничего не цените.
Я всегда очень плохо разбирался в политике. Пока учился в школе, ещё как-то пытался, но потом, чем больше в стране происходило событий, тем всё больших временных затрат требовало от меня моё социологическое просвещение. А времени не было: я выживал, зарабатывал, вставал на ноги, занимался здоровьем. Поэтому – что уж скрывать – в вопросах общественного устройства я просто полагался на мнение человека, которому целиком доверял. А доверял я Ксене-чан, единственной близкой подруге и фиктивной жене, активистке и феминистке, ярой поборнице социальных свобод.
Моя реакция в ответ на отцовские слова была непроизвольной, но искренней. Мама не успела схватить меня за руку – её пальцы метнулись к моему рукаву, но я уже был на ногах.
– Так вы сами же эти земли и отдали. – Мой язык произнёс это прежде, чем я успел подумать, что говорю и кому. – Ваше поколение, не моё. А теперь – чего возвращать-то, чужое оно и есть чужое.
Лицо отца побагровело, рюмка в руке затряслась так сильно, что водка выплеснулась на человека, сидевшего справа, – это был какой-то бывший сослуживец, крупная шишка в министерстве. Он крякнул и потянулся к салфетке.
– Ага… Заговорил?.. – Отец задохнулся и рванул сводной рукой воротник рубашки. – Твоя шлюха мозги тебе промыла?
Что было дальше – понятно, лучше не продолжать. Хотя, по сути, – что я такого нового сказал?
Мама – её лицо было бледным, губы сжаты – вытащила меня из зала за рукав, подтолкнула к двери и потребовала, чтоб я ушёл, всего лишь быстро повторяя одно-единственное слово: «Пожалуйста, пожалуйста».
* * *Когда началась пандемия, все заболели. Все, кроме мамы. Она оказалась воистину отлитой из титанового сплава.
Мне повезло: я, в отличие от многих моих знакомых, отделался лёгким испугом. Недельный насморк и больное горло почти никак не усугубили ни мою ситуацию с сердцем, ни состояние суставов, что не могло не радовать. Я и раньше подозревал о своей везучести – меня даже в больницу не забрали, оставили дома – вернее, в моей мастерской на Лосиноостровской. Да и тест оказался отрицательным. А вот у отца поражение лёгких было восемьдесят процентов – и заболел он в прошлом году, в марте, когда ещё врачи не знали, как лечить злополучный вирус.
Похоронить отца вовремя не удалось. Тело продержали в морге два месяца и разрешили забрать только в мае. Отпевали в больнице, и всё время отец лежал в закрытом гробу, а на кладбище пустили только нас с мамой и больше никого.
Это были странные похороны – о таком я только в книжках читал, в романах про всякие ужасы средневековой чумы. Мама долго не соглашалась на кремацию и наконец-то добилась своего: у отца теперь есть нормальная могила. Помню, как на кладбище пришли какие-то работники в спецкостюмах и посыпали могилу извёсткой – зачем, никто из нас не понимал, в том числе и сами люди в спецкостюмах.
Отцу не повезло вдвойне: только первых москвичей, погибших от вируса, хоронили таким диким способом. Потом уже врачи более-менее разобрались с тем, как он распространяется и мутирует, и подобные похоронные предосторожности уже стали излишними. Одна мамина подруга померла, так на кладбище пустили и близких, и друзей, и всех подряд – главное, чтобы все были в масках.
Отца же провожали только мы вдвоём с мамой, хотя, несмотря на внушительный возраст, жизнь он вёл весьма активную – ходил на работу, заключал договора, умел пить и мог постоять за себя, – то есть вполне заслуживал и торжественного молчания толпы, и венков, и надгробных речей, и даже оркестра с маршем.
На кладбище, совершенно обалдевший от беготни по инстанциям и выправления разных бумаг, я никак не мог осознать, что передо мной, в длинном деревянном ящике, лежит тело моего отца, и я уже больше никогда не смогу ничего наладить – ни помириться с ним, ни поругаться. В наших спорах никто не победил, никто не проиграл, многолетняя наша борьба повисла в воздухе – как висят в воздухе нарисованные герои сражения. А потом переворачиваешь лист – и там пусто.
После похорон, во время первой ковидной весны, я переехал в родительский дом. Оставил большую часть своих вещей в мастерской на Лосиноостровской и вернулся в пустую комнату на улице Барклая, туда, где провёл детство и школьные годы.
Рапахнув дверь, я случайно задел какую-то вещь, которая лежала на полу, справа. Под ногами у меня валялась новая дорожная сумка в подарочной упаковке.
На что я вообще рассчитывал? Отец даже не открыл мой подарок, а уж о том, чтоб взять его с собой в поездку, видимо, не шло и речи. Сумка пылилась в моей комнате за дверью, а я прежде, когда заходил сюда, даже не замечал её, или, может, взгляд мой не раз скользил по поверхности свёртка, но мозг установил фильтр и усиленно старался не пускать в сознание болезненную информацию.
Я сидел на полу, прислонившись спиной к шкафу, и держал на коленях новую и ненужную вещь. В комнате было пыльно и пусто, как и внутри моей головы; промелькнула единичная яркая вспышка, она уколола меня, словно игла, и погасла. Пришло внезапное осознание: у меня и в самом деле нет отца. Его просто – нет.
А может, никогда и не было.
В том моём чувстве пряталось ещё что-то, чего я не понял: просто не успел. Долго сидеть на одном месте было непозволительной роскошью, ведь тогда я жил в жёстком дедлайне. Наш американский проект «Паруса Регора» во время пандемии вышел на новый виток, и серии требовалось выпускать в ускоренном режиме, по четырнадцать страниц каждые две недели. Деньги спонсор тоже выплачивал вовремя, и суммы по российским меркам выглядели весьма солидно. Рассиживаться было некогда, я засунул сантименты куда подальше, заставил себя подняться и убрать свой несостоявшийся подарок в прихожую, на антресоли.
И только через год в апреле, во время сборов перед поездкой в Минск, я достал дорожную сумку – свою собственную, старую, – и выяснилось, что, пока она стояла в кладовке, на неё опрокинулась баночка с каким-то масляным содержимым. Ни я, ни мама не могли точно сказать, что это было такое и для чего оно хранилось среди других вещей.
По всему дну и нижним карманам растеклось огромное жирное пятно с прогорклым запахом, а после того как мама оставила сумку отмачиваться в стиральном порошке, жёсткое дно полностью отслоилось.
– Есть же отцовская, – вспомнила мама.
Она называла сумку «отцовской», хотя отец ни дня её не носил.
Пришлось доставать с антресолей вещь, один взгляд на которую вызывал у меня грустные мысли.
А мама поехала в отпуск с чемоданом.
Она уже через полгода после отцовской смерти принялась мечтать: вот закончится пандемия, и она наконец-то поедет… Куда? Поначалу она заикнулась про Крым. Как папина вдова, она ещё два или три года после его смерти имела право на какую-то суперльготную путёвку в новый ялтинский санаторий. Я вздыхал и кивал головой: кто я такой, чтоб давать матери советы? А та потом вдруг взяла и с несвойственной ей резкостью заявила, что ни в какой Крым не поедет.
– Ну её, эту Ялту. Уж лучше Владимир.
Вспомнила, что «сто лет не видела сестру», что у неё есть наследная дача в Порецком, где «и дом наполовину мой, и в церкви напротив родная бабка венчалась». Слушая её, я чувствовал, как у меня, словно в детской сказке, по очереди – один за другим – в груди лопаются железные обручи.
– Я что хочу сказать… – сказала мама на прощание. – Если вы с Ксюшей помиритесь, пусть она перебирается обратно в Москву. Не уезжайте на Лосинку, живите тут. Квартиру я вам оставлю.
– Чего?
Я снял очки и потёр переносицу, чтобы сосредоточиться. Сердце принялось слегка попрыгивать. Вообще-то оно не должно было, но, похоже, я снова забыл выпить таблетку.
– Я говорю, – продолжала мать, – тётя Аня насовсем меня к себе зовёт. Не сразу, конечно. Но, знаешь, вдвоём нам будет не так одиноко. Да и у вас тут всё наладится.
– Ма, если я тебе здесь мешаю… – начал я, но она замахала руками.
– Не выдумывай! Я же не из-за тебя – я из-за Ани! Дочка у неё к мужу уехала, одна она теперь. Да и мне, если честно, так тошно тут, сил никаких нет.
Она оглядела мою комнату.
– У тебя в детской ещё ничего, а вот в гостиной… – Мама сжала зубы и шумно выдохнула. – Всё хожу по дому и думаю, думаю…
– Мама!
Я почувствовал укол вины.
– Ладно тебе! – Она всплеснула руками. – Приедет Ксюша – хорошо. Не приедет – может, ещё кого себе найдёшь. А может, мне самой у Ани не понравится. Вернусь тогда обратно.
Я не хотел её насильно удерживать возле себя – она и в самом деле никуда раньше не ездила, только в моём глубоком детстве возила меня на море. Мне давно уже хотелось, чтобы мама чуть-чуть пожила для себя. Но – вот так, резко…
– Владимир недалеко, – сказал я неуверенно. – В случае чего – и правда, вернёшься.
– Три часа на поезде, – кивнула она. – На скоростном ещё быстрее. Если заболеешь, приеду в тот же день.
– Зачем?..
Она что, до сих пор во мне сомневается? Не доверяет, думает, что я за все эти годы не научился жить один?
– Да не сомневаюсь я. – Она вздохнула. – Ты же с Ксюшей будешь. Но обещай мне: если, не дай бог, обострение – я узнаю об этом первая.
Глава 3
«Сиреневые крылья»
Профиль минской галереи случайно выплыл у меня в ленте Инстаграма[5]. Это новое пространство открылось в декабре позапрошлого две тысячи девятнадцатого года, за три месяца до официального объявления о карантине. Во время локдауна деятельность галереи полностью перешла в инсту[6]; они добавляли в ленту работы современных художников, фамилии которых мало о чём мне говорили – ведь я давно отошёл от академической живописи и не особо следил, что происходит в профессиональной среде.
Я вряд ли обратил бы внимание на страницу этого проекта, если бы в ленте, среди чужих артов, заметок и фотокотиков, вдруг не выплыла работа моего учителя.
Экран заполнило сложно устроенное цветное пятно, состоящее из крохотных мазков, похожих на тонкую лесную паутину. Или на ветки, сплошь усеянные лепестковой пеной, по которой скользили вечерние солнечные лучи – от белоснежных через абрикосовый к светло-лиловым оттенкам, а в этих лучах, словно запущенный в небо крест, летел крохотный самолётик.
Хитро исполненный, самолётик этот с первого взгляда можно было и не приметить. Картина висела у дяди Коли, возле окна, часто мелькала у меня перед глазами и в конце концов сделалась для меня просто фоном, ярким пятном – и самолёта я почему-то не видел вплоть до того самого утра, после ночёвки в мастерской. Просто шёл мимо, привычно чиркнул взглядом по висевшему на стене полотну, и что-то меня остановило. Самолёт летел и сверкал крыльями, а я, сумевший отыскать дяди-Колину пасхалку, весь день потом ходил счастливый.
«Сиреневые крылья» были первой и единственной картиной, которую я копировал целых пять раз. Как вспомню – вздрогну. На пятый мой вариант дядя Коля не скривился, как обычно, а буркнул: «Нормально». Это была обычная его похвала.
– У меня ещё много, вон, – кивком он указал на кладовку, – целая куча всякой всячины. Будем копировать или как?
Потом учитель усмехнулся, повернул подрамник оригинала обратной стороной к себе, взял чёрный несмываемый маркер и написал крупными кривыми буквами:
«Дарю картину “Сиреневые крылья” Лёше Девятову, моему лучшему копирщику»,
потом подумал и дописал внизу чуть помельче:
«Не будь копирщиком. Будь художником!»
И поставил подпись: слепленные буквы Н и К, лежащие на боку.
– Я тебе её подарил, – важно сообщил он, но только я несмело шагнул вперёд, к картине, дядя Коля хитро прищурился, заступил мне дорогу и покачал головой. – А вот брать её погоди.
Я отступил на полшага и подумал: «Розыгрыш!»
Учитель снова установил картину на треногу. Копия стояла на второй треноге, два одинаковых изображения смотрели друг на друга.
– Картина твоя. – Дядя Коля повертел в ухе серьгу. – Она будет ждать тебя тут, в мастерской. А вот когда окажешься на мели…
Он почему-то был уверен, что рано или поздно я окажусь на мели.
Учитель подвинул треногу под другим углом, повернул копию к свету и отступил на несколько шагов – полюбоваться инсталляцией.
– Дядь Коль… – пробормотал я. – Вы же пошутили, да?
– Я тебе врал когда-нибудь? – Густые брови взлетели наверх. – Сказал же: твоя она. Сильно хочешь – забирай, конечно… Продай.
– Не продам, – сказал я. – Я вообще её не продам никому.
Дядя Коля театрально закатил глаза к потолку, но я повторил:
– Не продам.
Учитель громко выдохнул, закашлялся и наконец махнул рукой.
– Ну и дурак. – Его голос был хриплым, в нём ещё булькал кашель.
Улыбка его погасла, он посерьёзнел, нахмурился и потребовал, чтобы я подмёл пол в мастерской и оставил его в покое.
Подаренную картину я так и не забрал.
Если бы я даже захотел владеть этим полотном, мне всё равно было бы некуда его отнести. Из дома к тому времени я уже ушёл, а моя первая рабочая студия на Сходне была перевалочным пунктом для такого множества народа самого разного пошиба, что я даже таблетки там не хранил – я уж молчу о деньгах или каких-то ценностях.
Цикл картин «Праздник авиации» («Сиреневые крылья» были частью этого цикла) учитель написал в самом начале перестройки. «Праздник» вышел вовсе не праздничным.
Чёрные металлические птицы на фоне тусклого, холодного зарева.
Воздушная армада, повисшая над городом в лучах тревожно мерцающего прожектора.
На фоне военной эскадрильи – маленький восторженный пилот, отдающий честь человеку в маршальской форме. У маршала свиноподобное лицо.
И, наконец, картина, за которую дядя Коля получал зуботычины чуть ли не до самой смерти. Маленький европейский город, подвергнутый бомбардировке с воздуха. Горящая базилика, развалины лестницы, подозрительно напоминающей Испанскую. Бегущие по улице крохотные человечки. Во главе кадра – оскаленное лицо человека, сидящего за штурвалом. Дым одного из бомбардировщиков складывается в буквы, выпирающие из картины: «Надо будет – повторим».
Дядю Колю критиковали за милитаризм, за извращение действительности, за агрессивный китч. В период, когда дядя Коля писал свои самолёты, в моде был мимишный Илья Глазунов с его лубочными коллажами.
В отличие от дяди Коли я мало рисовал реальных самолётов – зато других летательных аппаратов на моём счету было немало. Особенно в последнем проекте «Паруса Регора», где действие происходило на планете Ла системы Альфы созвездия Парусов. Мегалёт – это такая штука, которая может преодолевать расстояния не только внутри атмосферы планеты Ла, но и выходить в безвоздушное пространство. Самые крутые модели мегалётов оснащены боекомплектами на случай внезапных воздушных столкновений: на планете Ла шла давняя война Империи и Провинций, и, находясь в воздухе, даже пассажирские суда не были застрахованы от нападения противника.
Дядя Коля не приветствовал мою работу в индустрии графических историй. Вряд ли ему понравились бы мои мегалёты.
Он не упускал возможности напомнить, что рисование комиксов снижает мою планку, и, если я не хочу потерять навсегда свой и без того невеликий талант, нужно заниматься «чистым» искусством. Однако внутри меня что-то ломалось: живопись начинала сильно на меня давить.
Я попробовал – и мне понравилось двигать персонажей, вращать пространство, играть с ракурсами, как будто в руках моих оказалась маленькая видеокамера, и жила она на самом кончике карандаша. Меня тянуло в мир, где сюжет рисунка не пропадает в одну секунду, изображающую так называемое «здесь и сейчас».
Нет, дядя Коля не был консерватором – он сам говорил мне, что я должен любить то, чем занимаюсь, ведь без любви искусство долго не живёт. Просто учитель счёл мой объект недостойным любви. А ведь было время – он и сам работал в детской иллюстрации, вместе с напарником. Подобная практика стала распространённым явлением с шестидесятых по восьмидесятые годы – художники шли зарабатывать в книжную индустрию, брали заказы, делили их пополам или работали по полгода: полгода один рисует иллюстрации, второй пишет картины, а потом художники меняются местами. Булатов[7] и Васильев, например, работали именно так.
– Ты себя с Булатовым не равняй, – повторял дядя Коля. – У него мускулы железные, а у тебя? Да не мясные мускулы, а стилевые. Опыта мало ещё, ферштеен?
– Почему нет? – негодовал я. – Комикс тоже искусство.
Чтоб навсегда пресечь дискуссию, Кайгородов тут же нагружал меня каким-нибудь заданием по живописи, не выполнив которое я не мог рассчитывать даже на крохотный градус его внимания. Пока я не приносил готовую работу, он вообще со мной не разговаривал и в мою сторону даже не поворачивал кочан головы.
Однажды он заставил меня снять очки и сказал писать картину акрилом. Ну окей, я принёс ему такую картину, а он сказал принести ещё одну, написанную вслепую. Я в то время уже учился и работал, сдавал сессию и постигал азы анимации – работал помощником фазовщика за какие-то копейки. Я выживал, и лишних пяти-шести часов для рисования вслепую у меня просто не было. С тех пор между мной и дядей Колей начало нарастать охлаждение. То задание, если честно, я до сих пор так и не выполнил.
* * *Художника Николая Викторовича Кайгородова все так и звали – дядя Коля. Он был популярен в восьмидесятые – девяностые, а потом его слава, яркая, но недолгая, постепенно сошла на нет. Многие считали, что он спился и утратил талант, но мне всегда казалось, что дядя Коля просто не выдержал конкуренции в период, когда в постсоветском арт-пространстве конъюнктура вдруг стала единственным способом заработать.
Педагогом дядя Коля сделался по воле обстоятельств: ему просто подсунули ученика – похоже, в молодости они с моей матерью испытывали друг к другу какие-то чувства, хотя в подробности своих отношений ни дядя Коля, ни тем более моя мать, никого не посвящали. Меня привели за ручку и оставили в пыльной комнате, заполненной холстами и гипсами, деревянными торсами и сигаретным дымом пополам со скипидаром. Я появился в жизни художника и в его мастерской – колченогий пацан с опухшими пальцами, пастозным лицом и слезящимися глазами, слегка заплывшими от сезонной аллергии на таяние снега.
На моей памяти к дяде Коле несколько раз приходили мутные типы, покупали за бесценок разные полотна, и дядя Коля продавал, ведь нужно же было ему на что-то жить – и выпивать, и закусывать. В основном это были старые работы, написанные с начала восьмидесятых и до начала двухтысячных. Новых работ он почти не писал, а что писал – тут же отбраковывал, потому что они походили на старые и, как говорится, «плодили сущности».
Для того коммерческого искусства, на которое клюёт обыватель, дяди-Колиным картинам недоставало реализма; слишком уж тревожными и недружественными к зрителю они были. Они почти никогда не вписывались в интерьер, особенно в интерьер российского дома успешного предпринимателя или в его заграничную виллу, куда престижнее было купить интерьерное полотно на международных аукционах; цена здесь не имела значения. Для того современного искусства, под которым мы подразумеваем контемпорари, полотна Кайгородова были слишком архаичны, в них напрочь отсутствовала возможность перформанса. «Можно нюхать, можно трогать, ничего кроме масла они не найдут, – говорил учитель. – Если кроме красок и линий для выражения искренности художнику требуется что-то ещё, это никакая не искренность».
Несмотря на то что его картины выставлялись в первых московских галереях – и в «М’Арсе», и в «Риджине», серьёзных продаж работ Кайгородова, насколько я помню, не было. Только две его картины в начале девяностых всё-таки ушли за границу. Это был первый и единственный триумф, большие деньги, на них дядя Коля хотел создать своё арт-пространство, которое должно было называться «Коридор».
«Коридор» Кайгородов придумал вместе с двумя коллегами по цеху. Они разработали понятие об искусстве некой пограничной территории, которая ещё не комната, но уже не улица. Место, где можно укрыться от наблюдения домашних, но с риском, что тебя могут услышать соседи. Место, где поверяются тайны и совершаются мелкие кражи. Где открываются двери и люди встречаются или расстаются навсегда. Где уместен и тайный поцелуй, и пощёчина. Где, прежде чем расстаться с дорогим человеком, хозяин стоит вместе с гостем ещё три минуты, ещё пять, ещё десять минут.
Проект арт-пространства, куда дядя Коля вложил все свои деньги, потерпел неудачу, и к началу двухтысячных «Коридор» распался.
Коллеги-художники, с которыми дядя Коля больше не хотел иметь никаких дел, мало-помалу снова вставали на ноги – по большей части благодаря зарубежным фондам, которые дядя Коля презрительно называл «Сорос». Если хорошенько погуглить, можно найти информацию: один из сооснователей «Коридора» бросил живопись, подался в эксперты, и последние десять лет живёт тем, что разъезжает по ярмаркам и зарабатывает на продажах современного искусства. Второй занимается имиджем одного известного политика, оба они – совладельцы популярного в Москве арт-пространства на Чистых Прудах. Того самого, где в девяностые открылась первая галерея содружества» Коридор».
– Их жарят заживо, на сковородке в аду. – как-то раз сказал дядя Коля. – Но им не больно. У них больше нету чувств, я забрал у них все чувства. Их жарят, а они молчат. Они онемели. Я ору от боли вместо них.
* * *Фотограф Роберт Капа[8], автор легендарных снимков высадки союзников на пляже Омаха 6 июня 1944 года, писал: «Если фотографии вышли плохие, значит, ты просто недостаточно близко подошёл». В живописи с натуры правило Роберта Капы тоже работает, но дядя Коля научил меня обманывать его и работать с визуальным образом; это потом пригодилось мне на экзаменах в Худак и во всей последующей жизни. Если тебе досталось не самое удачное место в аудитории и ракурс выходит неудачный – можно выбрать другой, выигрышный, подходить к фигуре ближе, запоминать пропорции, свет, etc., и после того, как увиденное хорошо улеглось в голове – возвращаться к этюднику и делать набросок. Дядя Коля говорил: неважно, в какой точке пространства ты находишься. Важно понимать, какой именно ракурс ты выбираешь – тогда ты сможешь работать по памяти.
– Любовь у тебя есть? – Он смотрел на меня, прищурившись, так, что я смутился. – Я в душу тебе не лезу. Кого хочешь, того люби. Нам это для другого нужно.
Он подошёл ко мне вплотную и, глядя в упор, зажмурился. Потом резко распахнул глаза.
– Представь: она смотрит на тебя прямо сейчас. Представил? Открывай глаза. Рисуй. Через десять минут проверю.
И я рисовал Марию анфас.
Потом дядя Коля подходил ко мне, проверял работу, сдержанно кивал и, не делая никаких замечаний, заставлял снова закрыть глаза и представить её же – в повороте три четверти. И задание повторялось.
Однажды он взял четыре моих наброска, внимательно их рассмотрел, и ушёл на кухню, а потом, минут через двадцать, принёс мне аккуратный карандашный портрет Марии с опущенной головой в повороте на две трети – такой, каким он получился у него на основе моих рисунков. Мне показалось, что портрет совершенно не похож на оригинал – но в этом была, скорее, моя, а не дяди-Колина вина.
Мы повторяли это упражнение раза три – пока у дяди Коли не получилось похоже: удлиннённые азиатские глаза, отчётливые скулы, треугольный, чуть выпирающий подбородок, спадающая на лоб светлая прядь.
– Понятия не имею, кто это такая, – сказал дядя Коля и, потеряв интерес к рисунку, бросил его на стопку других набросков, наваленных поверх ящика в углу, с пятнами присохшей краски на стенках. – Это же не настоящий портрет. Это химера, отпечаток. Он живёт только внутри твоей головы.
И дядя Коля постучал мне по лбу указательным пальцем.
– В каждую свою модель ты должен влюбиться, как вот в неё! – Дядя Коля говорил хрипло, одышливо, – Надо влюбляться, Лёха. Это наша работа – любить. Быть одержимым, быть готовым к тому, чтобы она, сука, мучила тебя и все жилы из тебя вынимала.
Учитель долго откашливался и топтался на месте. Я уже думал, что наставления закончены, но вдруг он неожиданно добавил, с какой-то остервенелой горечью:
– А нарисуешь – тогда… Хоть в шею её гони!
Вот так и вышло, что в день экзамена я целых восемь часов подряд усиленно влюблял себя в голую женщину за пятьдесят, вероятно, пьющую, с грушевидным животом и густо заросшим рыжим лобком, с полными бедрами и тонкими лодыжками, с опущенной линией плеч и красивыми ягодицами, которые никак не отразились на моём рисунке. Я написал её в оптимальном ракурсе, как было указано в методичке: поворот на три четверти, чтоб видны были обе руки, кисти и обязательно – лицо, слегка обвисшее, с двойным подбородком. Линию лобка я передал нарочито небрежно, хотя никак не мог отвязаться от вопросов, то и дело всплывавших в моей голове: со сколькими мужчинами она спала? Давно ли у неё был секс? Может, всего лишь несколько часов назад! Что за мужик был – старый, молодой?..