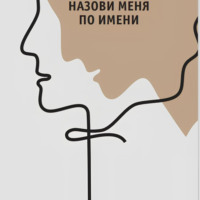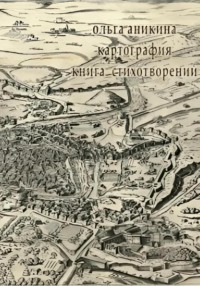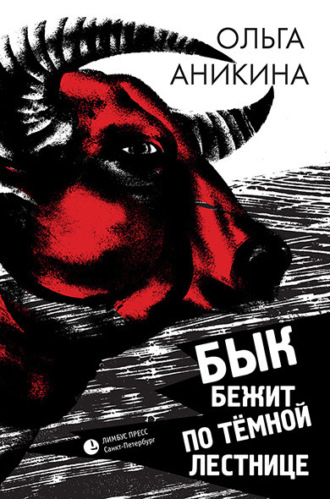
Полная версия
Бык бежит по тёмной лестнице
Мария пропала. Оказывается, так тоже бывает: вот есть человек, вот его адрес, телефон, электронная почта. Вот Всемирная паутина, в которой все мы оставляем свои следы. Хотя бы закрытая страница. Хотя бы резюме на Хедхантере.
Но от Марии ни в сети, ни в реальности не осталось ничего: ни упоминания, ни фото. У меня сохранились только её старые фотографии и наброски её портретов, да и эти наброски потом тоже сгинули. Я оставил их в дяди-Колиной квартире вместе с ворохом других этюдов, а после смерти учителя в его квартире хозяйничали чужие люди.
От Марии почти не осталось материальных свидетельств её существования. Зато она жила внутри моей головы. Я постоянно с ней беседовал.
Есть такой человек, Джон Кёниг. Он создал проект (страница на Ютубе и книга), который называется «The Dictionary of Obscure Sorrows» – на русский это переводится как «Словарь невыносимой печали» или «Словарь неясных скорбей». Это не словарь в прямом смысле – просто перечень неочевидных состояний, которые испытывает почти каждый человек, вот только назвать их не может: в большинстве языков обозначение для них отсутствует. Чувак ведёт свой канал на английском, и поэтому имеет в виду, конечно, только английский язык – но с русским, оказывается, ситуация почти такая же. Например, там есть слово «веймёдален», оно выражает чувство разочарования от того, что всё в этом мире уже было. Или «оккиолизм» – это когда человек полностью отдаёт себе отчёт в своей никчёмности.
Я нашёл в этой книге слово Jouska. Обозначает оно постоянный разговор внутри твоей головы – беседу, которую ты ведёшь с кем-то, кого уже, может быть, давно в твоей жизни нет. Или есть, но ты ему ничего не можешь сказать наяву.
Я почти всю сознательную жизнь провёл, находясь в состоянии «джуска». Если бы Кёниг не придумал это слово, его следовало бы придумать мне самому.
Мария сделалась моим постоянным собеседником по этой самой джуске. Наши с ней разговоры стали настолько привычными, что, кажется, иначе я никогда и не существовал. Я постоянно что-то ей доказывал, о чём-то спорил, ежедневно напоминал – как неправа была Мария, как она чертовски неправа.
Когда я наконец победил в японском конкурсе немой манги, мы с Марией беседовали чуть ли не пол-вечера. Она говорила: «Поздравляю», а я отвечал: «Подожди, то ли ещё будет».
Когда в издательстве Ксени-чан вышла книга «Возвращение немецкого солдата» – мой первый (и пока единственный) документальный комикс, где я выступал одновременно и художником, и сценаристом – я листал 72-х страничную книжку в мягком переплёте и представлял себе, на что бы обратила внимание Мария, открыв, к примеру, вот этот разворот. Или этот. Или другой.
Я надолго залипал на разговорах с ней, внося окончательные правки перед сдачей новых серий последнего крупного проекта, который мы с моим американским сценаристом закончили пару месяцев назад. В «Парусах Регора», киберпанковом сериале про войну, которую ведёт Империя планеты Ла против своей бывшей Провинции, Мария, сама об этом не зная, выступала в роли редактора – я тестировал каждый эпизод, спрашивая себя: а что бы сказала она, если бы увидела такую рисовку? А такую? Ей понравилось бы?
Когда я в мои четырнадцать ждал её появления в своей комнате и это чувство отличалось от ожидания других учителей-надомников – меня впервые посетило ощущение, что моя жизнь (и жизнь в целом) имеет смысл и цель. Что это за цель и что за смысл, я ещё не мог точно сказать.
И уже гораздо позже, когда мне исполнилось тридцать, до меня наконец-то дошло: если б не Мария, я вряд ли вообще пришёл бы к самим идеям цели и смысла. И вряд ли нарисовал бы что-то стоящее.
Если верить врачам, мне и в самом деле не подходит моя работа, та, что кормит меня с девятнадцати лет и позволяет жить отдельно от родителей. Доктора полагают, что для человека с больными суставами быть художником – это вообще дурь несусветная. Хотя, возможно, вы не вполне понимаете, о чём это я. Сейчас попробую объяснить.
Есть такая фраза: «ни дня без штриха». Для людей, имеющих отношение к искусству, фраза эта состоит из боли, крови и так называемых «возвратных депрессивных эпизодов» – увы, я слишком много общался с врачами, вот и наслушался их ёмких терминов. Но дело тут не в терминах.
Даже мои знакомые художники, у которых нет хронических заболеваний костей и суставов, иногда лезут на стены от бессилия, чтобы провести пресловутый «штрих дня». Ведь штрих этот должен лечь на бумагу не бесцельно. Надо, чтоб за самой незначительной линией прятался какой-то важный смысл. Художники разбивают лбы и стачивают зубы в мелкий песок, рисуют вином, чаем и пейнтбольными шариками, самые находчивые мочатся на холст или дрочат на ватман, а потом долго и тревожно рассматривают собственный эякулят: есть ли в этих брызгах что-то художественное? Всё это не от хорошей жизни и вовсе не из-за желания эпатировать публику, хотя выглядит, конечно, пугающе.
По правде, все наши ухищрения направлены на нас самих, а не на зрителя. Они нужны, чтобы придать силу и осмысленность тому самому проклятому штриху, который призван оставить в вечности ещё один твой прожитый день. Так называемое вдохновение, что якобы сподвигает людей сворачивать горы, – очень летучий продукт, вроде скипидара. Испарится – и нету, на его месте остаётся только вонючий след. Как говорил мой учитель дядя Коля, вдохновение – это три процента твоей картины, а все остальные девяносто семь – долбаная пахота, как у быка в упряжке. Того самого, греческого, что прёт себе бустрофедоном.
Ну, в общем, вы поняли. Рисовать и без того тяжело.
А теперь представьте, каково оно: когда плюс ко всему этому ещё и руки болят, и спина. Когда суставы опухают, а каждое утро ты прилагаешь усилие, чтоб пальцы начали сгибаться.
Если вдуматься, дела у такого художника должны идти весьма и весьма хреново.
Но нет (спойлер!).
Опытным путём я убедился: если правильно рассчитывать силы, любое задание можно выполнить в срок и с огоньком. Главное – вовремя делать перерывы, не забывать пить лекарства и не психовать зазря. И вообще, следить за телом, словно за полезной техникой. Кому-то это покажется занудным, а для меня чёткое следование распорядку означает просто жизнь. Не всё в человеческом организме устроено как механизм, но всё-таки кое-что устроено именно так.
Мы в школе проходили Гончарова (не знаю, проходят ли его сейчас), и был у него герой по имени Штольц, расчертивший свою жизнь по жёсткой схемке, – при этом он сильно проигрывал няшке Обломову. Кто ж знал, что рано или поздно я и сам превращусь в занудного Штольца, и моё восприятие мира, искусства и себя самого не смогут существовать отдельно от моего расписания, моего режима и той аскетической муштры, которая кому-то другому покажется унылым бременем, а меня она – всего лишь способ выживания.
Проводя много времени в разных отделениях московских больниц (в кардиохирургии, в ревматологии, в кардиологии и терапии) я иногда замечал такую штуку. Стоит только человеку один раз раскиснуть, процесс становится необратимым, и его уже очень сложно прекратить: все окружающие, в том числе самые близкие, я не говорю уже о чужих людях (их разжалобить легче всего), включаются в игру хорошо отлаженного оркестра, в котором главную скрипку играет, конечно же, наш несчастный страдалец. Он не притворяется, ему на самом деле плохо, но игра в оркестре не делает его жизнь лучше. Потому что скрипка хоть и солирует во всей этой истории, но за дирижёрский пульт она не встанет никогда, ведь там уже стоит кое-кто другой. Там стоит болезнь. Слабость, жар, боль разных видов: саднящая, ноющая, сверлящая, разрывающая на куски – или тихая, мелкими каплями долбящая в одну и ту же точку. А если боль дирижирует, разве получится хорошая музыка?
И я в какой-то момент я заставил себя поверить в то, что мой старый дирижёр уволился, спился, сторчался – что хотите – и теперь на его место встал другой. На место боли я поставил искусство; я решил быть не профессиональным пациентом, а профессиональным художником. Пафосно звучит? Есть такое. Но знаете, иногда можно и добавить немного пафоса. Совсем немного. В нём всё-таки присутствует концентрат энергии, а без энергии фиг ты чего нарисуешь.
А ещё искусство, кажется, гораздо лучше проявляется, если не относиться с повышенной серьёзностью ни к теме, с которой работаешь, ни к своим собственным проблемам. Есть такой мангака Хидэо Адзума[3], он нарисовал книжку «История моих исчезновений». Когда его творческие дела не заладились, он ушёл из дома, жил на улице, болел, питался из мусорных баков. Он смог показать всю мерзость и грязь такого существования, всю горечь, что была в его душе, – но комикс вышел смешным. Хотя и грустным тоже. Думаю, в этом и состоит секрет рисования комикса – ведь мало кто может быть ироничным, но не злым. И, беря в руки карандаш, помнить о том, что, как бы хреново тебе ни было, любым твоим движением управляет только любовь.
Глава 2
Негабаритный багаж
Весной две тысячи двадцать первого года я собрался лететь в Минск, потому что там выставлялись картины моего учителя, и мне обязательно нужно было их увидеть.
И вот
– когда я покупал билет,
– когда прибирался в квартире перед отъездом,
– когда вечером ложился спать в предвкушении перелёта (первого за несколько последних лет).
– когда просыпался утром заранее, ни свет ни заря, чтобы успеть на рейс, вылетающий в полдень (в аэропорту нужно быть в пол-одиннадцатого, из дома выйти в полвосьмого, а встать нужно в пять, потому что мне на сборы требуется вдвое больше времени, чем здоровому человеку).
– когда входил в здание аэропорта,
– когда проходил регистрацию…
…и досмотр (та ещё история; иногда тётеньки в форме требуют, чтоб я снял дорожный поясничный корсет).
– когда садился в кресло и пристёгивался ремнём безопасности (странно, почему на местах, которые мне достаются, всегда так сильно выдвинута пряжка ремня? Не может быть, чтобы у всех этих людей были такие толстые животы)
– и когда мой самолёт, долго и уныло кативший по лётному полю до взлётной полосы, наконец оторвался от земли…
Я не знал и не ведал, что моя жизнь, которая к настоящему моменту была довольно чётко распланирована (а попробуйте как-то по-другому договориться с моими суставами), внезапно закрутится, словно аттракцион в парке развлечений.
* * *В начале апреля я сказал матери, что через пару недель собираюсь лететь в Минск из-за картины учителя, и мама, конечно же, всё поняла по-своему. Она не верила, что можно сорваться с места только чтобы поглазеть на полотно, которое я сто раз уже видел в дяди-Колиной мастерской. Мама посчитала, что цель моей поездки совсем другая.
– Господи, Лёшенька. – Она прижала руку к груди. – Вы помирились, да? У Ксюши остановишься?
Ксеня-чан (имя огонь, откуда оно взялось, расскажу позже) – моя так называемая жена, по крайней мере в глазах мамы это выглядит так. Мы поженились пять лет назад, и, хотя у нас был уговор развестись через три года, – до сих пор в наших паспортах стоят штампы. Хотели сделать это в прошлом году, но тут началась пандемия и всё зависло.
Посчитав мой неопределённый кивок достаточно убедительным, матушка вздыхает, улыбается, молчит несколько секунд и, борясь с желанием задать следующий вопрос (а может быть, не один), суетливо принимается за какие-то необязательные кухонные дела – отрывает от рулона белую тканевую салфетку, протирает ручки водопроводного крана и боковую часть раковины, и без того сухую и блестящую.
– Давно пора, – бормочет она себе под нос. – Давно, давно пора! А то что ж такое, муж в одном городе, жена в другом.
– Нормально, – говорю я, просто чтобы сказать хоть что-нибудь. – Многие так живут.
– Глупости. – Мама аккуратно разглаживает салфетку, расстелив её на краешке стола. – Придумали тоже. Вот найдёт себе другого… Будешь знать.
Но чтобы не вывести меня из себя, она меняет тактику, снова вздыхает и говорит примирительно:
– Хотя, конечно, вам виднее… В наше-то время всё по-другому было.
В их время всё действительно было по-другому.
Например, рисование комиксов мать до сих пор не считает чем-то серьёзным.
– Ну что это такое, Алёша, – говорит она, листая мою новую серию. – Какие-то детские картинки. Может, найдёшь нормальную должность?
«Нормальной» мама по старинке считает чтение лекций и преподавание на кафедре в Худаке. Она считает престижным, если художник получает заказ от мэрии или городского совета. В крайнем случае – когда он работает на постоянке в крупном издательстве. Маму не волнует, что опытный аниматор или гейм-дизайнер выполнением разового крупного заказа способен с запасом перекрыть трёхмесячный заработок постоянного работника.
– Ваши модные профессии я не понимаю. – Она хмурится и нервно поправляет пояс халата. – Знаю только, что на госучреждение работать надёжней. Хочешь, спрошу у Лидии Васильевны, она всю жизнь в Третьяковке провела – может, у них есть вакансия? Для тебя это был бы лучший вариант!
– Что мне делать в Третьяковке? – отмахиваюсь я. – Бумажки архивные перебирать?
– Это называется каталогизация, – говорит мама со знанием дела.
Сама-то она двадцать лет проработала в музее, и лучше места для меня не может себе представить.
Но потом всё равно отказывается от такого варианта.
– В музеях сплошная пыль. – Она снова хмурится и качает головой. – С твоей-то астмой…
Когда она заводит речь про моё здоровьичко, я, честно, иногда не выдерживаю и начинаю огрызаться, и мама обиженно хмурится.
Отец, если хотел убедить меня в своей правоте, не заводил со мной таких душеспасительных бесед. Просто орал мне в лицо или, наоборот, неделями бойкотировал.
Отец родился в городе Пскове, в немыслимом для меня тридцать восьмом году прошлого века в семье младшего лейтенанта. Папино детство прошло в эвакуации (эвакуировали прабабкин завод), а потом родители отца воссоединились в послевоенной Москве. Мне ничего не было известно о том, как на самом деле сложилась судьба моего деда, знаю только, что на войне он служил сапёром, во время штурма реки Днепр получил ранение в ногу и в голову, целый год мотался по госпиталям, заработал туберкулёз. Потом преподавал топографию в военном училище и умер совсем рано, в сорок четыре года, когда моему отцу было всего семнадцать. Иногда мне казалось, что долгая и насыщенная жизнь досталась моему отцу не случайно, и он проживал её за двоих: за себя и за деда Лёву, которого я никогда в жизни не видел, только на фотографиях.
Сразу после школы отец пошёл в армию и уже во время службы принял окончательное решение пойти по дедушкиным стопам – другого варианта он себе не представлял. Возможно, решение было принято после того, как ему, девятнадцатилетнему срочнику, в составе танковой бригады довелось отбыть в Венгрию и участвовать в международной операции «по подавлению возрождённого нацистского режима». Вернулся из армии, поступил в военную академию – и его судьба была определена.
«Международная операция» была не единственной на отцовском счету. После Венгрии случилась Прага, где отец задержался на несколько лет. О своей службе за границей отец вспоминал всякий раз, когда в какой-нибудь беседе речь заходила о противостоянии между Россией и Западом. Отец считал, что о Европе знает всё.
– Ваши учебники – всего лишь психотерапия, – с уверенностью говорил он. – Это только на бумаге война закончилась в сорок пятом. На самом-то деле фашистов в Европе ещё не добили. Вам придётся добивать, молодым.
После службы за пределами СССР тридцатилетнему отцу присвоили звание майора. Подполковника ему дали перед самым выходом на пенсию. Мать как-то раз обмолвилась, что первая отцовская жена в восьмидесятых уговаривала его купить домик в Крыму, чтоб уехать наконец туда – лечиться и жить. Но планы супругов не совпали, они оба остались в Москве, где через пару лет женщина скончалась от развившейся внезапно болезни крови. Детей они так и не завели.
В девяностые, когда многие другие военные, списанные в запас, начинали спиваться и деградировать, отец, к тому времени уже потерявший первую жену, наоборот, собрал себя в кулак. За годы службы он приобрёл множество связей, и, хотя собственный бизнес у него поначалу не задался, кое-кто из влиятельных друзей продвинул его в администрацию завода металлоконструкций. Отец очень гордился, что ему удалось вытянуть этот завод в девяностые, – как он считал, это произошло исключительно благодаря его военному опыту и умению вести себя в экстремальных ситуациях.
– Будущее только за военными, – повторял он, если дома речь шла о моём поступлении в институт. – В академию генштаба тебя, конечно, не возьмут. За то, что здоровья у тебя нет, скажи спасибо своей матушке. Но в дипломатическую – только попробуй мне не пройти.
Отец давил и давил.
– В военном комплексе вращаются и будут вращаться настоящие большие деньги, – внушал он мне. – Ты мог бы работать в министерстве. Уметь правильно просчитать обстановку даже важнее, чем уметь правильно держать автомат.
Такие разговоры казались мне чистым безумием. Я списывал их на отцовский возраст и олдскульное воспитание.
– Какой ещё автомат? – Я старался разговаривать с ним как можно мягче. – Скоро все страны расформируют военные комплексы, у людей будут другие потребности. Нужны будут не солдаты, а деятели искусства.
Жилистый отцовский кулак сжимался и бессильно опускался на столешницу.
– Идиот! – восклицал он. – Кто тебе такое в голову вбил? Искусство, говоришь? А куда Америку будем девать?
– Зачем её куда-то девать? – недоумевал я. – Пускай живёт себе за океаном. А мы будем тут, у себя, строить демократическое общество.
– Побеседую-ка я с твоей Марь-санной, спрошу, откуда в твоей голове весь этот бред. – Отец поднимался с кресла, нависал надо мной, и мне казалось, что на мои плечи медленно опускается каменная плита. – Попрошу её рассказать, что она знает про пятьдесят шестой год. Что знает про шестьдесят восьмой, про нацизм что знает, и вообще… Проверю.
Фраза действовала безотказно. Я замолкал. Не мог представить себе, что отец может наговорить Марии. Мария была непредсказуемой. Вдруг она рассмеётся ему в лицо? Или примет невозмутимый вид, промолчит и лишь презрительно приопустит краешки губ – и отец, придя в ярость от подобного высокомерия, выгонит её прочь из нашего дома. Нет, я не мог такого допустить. А потому – Марию лучше было не втягивать. Больше я никак не смог бы её защитить перед отцом: в нашем доме я всегда занимал позицию слабого звена.
Что касается спора о моей несостоявшейся военной карьере (мне даже писать эти слова смешно) и об отцовской состоявшейся, он всегда напоминал мне конфликт между главным героем манги «Дзипангу»[4] лейтенантом Кадомацу, попаданцем из современности, и японскими военными из сороковых годов – лейтенантом Кусакой и адмиралом Ямамото. Японцы, воюющие на стороне нацистской Германии, пытаются втянуть в сражение попаданский ультрасовременный эсминец «Мирай», и лейтенанту Кадомацу стоит больших усилий объяснить людям из прошлого, почему команда военного корабля не готова участвовать в войне. Я, конечно, выступал в ипостаси Кадомацу, а отец – в роли всего милитаристского правительства Японии сороковых годов прошлого века. От старости у отца лицо оплыло, глаза превратились в щёлки – он и в самом деле походил на японца.
Наша с отцом история закончилась так: я не пошёл сдавать ЕГЭ по английскому и бросил все силы на подготовку к экзаменам в Худак – Художественную академию, на монументальную живопись.
Родительский ответ на моё решение поступать в Худак я почувствовал на собственной шкуре однажды поздним вечером: отец пришёл домой около одиннадцати и с одного пинка открыл дверь в мою комнату. Не дав мне опомниться, ударом в затылок он впечатал моё лицо в клавиатуру компьютера. У меня перед глазами вспыхнул фейерверк.
– Володечка! Не тронь ребёнка! – закричала мама.
Было чертовски больно. Я поднял голову. Увидел кровь на клавиатуре.
– Господи! Ты ему нос сломал!
Мама уже не кричала на отца – просто стояла посреди комнаты, застыв как соляной столп, прикрывая рот дрожащими ладонями. Я сам не заметил, как в руках у меня оказалась та самая залитая кровью клавиатура.
– Пошли вон! – Я орал так, что даже пустые бутылки на полках вдруг загудели. – Пошли вон!
Я махал клавой, как берсерк топором.
Не знаю, что было бы, если б отец не отшатнулся. Я вполне бы мог оглушить его или покалечить, но удар пришёлся на полуоткрытый торец двери, а потом на палас беззвучно упало несколько чёрных литер.
Я был выше отца – и сильнее, до меня вдруг дошло это, когда он нелепо и жалко прикрыл руками затылок.
Клавиатура проехалась по его спине с гораздо меньшей силой, чем могла бы: я сам испугался того, что сделал.
– Алёшенька, – лепетала мать, – Володя…
А потом она сделала лучшее, что только можно было: вытащила отца из моей комнаты и удерживала его, пока я сгребал впопыхах свою сумку и выбегал на улицу. Мама дала мне возможность уйти из родительского дома – как мне думалось, навсегда.
Лет пять назад мама очень сильно сдала, во всех смыслах. Перестала красить волосы и покупать себе новую одежду. Потом у неё под коронкой сломался зуб; она немного повздыхала, да и оставила всё как есть. Из-за тяжёлых отношений с отцом в гости к родителям я приходил нечасто, но всякий раз, когда мама, встречая меня в коридоре, растягивала губы в улыбке, я спрашивал её про стоматолога.
– Нет у меня времени, – отмахивалась она. – Да и незаметно почти.
Это она думала, что незаметно.
Отец в нашем доме всегда был царём и богом. Он критиковал мать и никогда ни за что не был ей благодарен. Даже в своём холецистите отец обвинил маму: по его мнению, дело было в неправильном питании – а кто в доме должен отвечать за здоровую еду? Он гремел, а мама соглашалась – так оно у них было заведено. Если я вставал на мамину защиту – отец орал уже на меня, а мать его молча поддерживала.
Все последующие годы после нашей ссоры мама пыталась сохранять нейтралитет. Она, хоть и не радовалась моему выбору профессии, всё-таки нет-нет да переводила мне на карту небольшие суммы, а когда я начал зарабатывать сам – искренне меня поздравляла. Отец же – как я ни пытался донести до него свои первые успехи – обдавал холодом и презрением. За всё время мне только один раз подвернулась возможность помириться – в две тысячи четырнадцатом, на отцовском дне рождения.
В тот год я купил ему подарок – дорожную сумку. Я с большим трудом отыскал её на Алиэкспрессе. Модель была сверхфункциональна и испытана мной не раз: я искал отцу в подарок такую же сумку, как была у меня самого. Не очень большая, размером примерно с туристический рюкзак, с дополнительными карманами по бокам. Длину ручек можно регулировать или сделать из них рюкзачные лямки: раз-два – и сумка становится рюкзаком. На одном из рёбер основания установлено крепление из жёсткого пластика. С помощью крохотных рычажков из этого крепления выдвигаются колёсики. Теперь сумку можно поставить вертикально, и, достав из бокового кармана дополнительную телескопическую ручку, катить её как чемодан.
Лет десять назад такую сумку Ксеня-чан привезла из одной своей поездки в Японию. Она использовала её всего лишь один раз во время перелёта обратно, а потом забросила в кладовку, потому что для Ксениного имиджа расцветка выглядела скучной. Сказочно прекрасная вещь так бы и пылилась там, если бы однажды перед Новым годом на мою подругу не обрушился аттракцион неслыханной щедрости и она не начала разбирать и раздаривать старые вещи. Впрочем, чудо на колёсиках досталось мне не бесплатно; Ксеня-чан дарила вещи только девчонкам. Парням она их предлагала за символическую плату. Когда я впервые полетел с этой сумкой лоукостером, меня обязали сдать её в багаж как негабаритный груз – но я не расстроился, потому что увидел в этом символический смысл: с этим нелепым многофункциональным устройством у нас оказалось много общего. Я ведь тоже в жизни своих близких был ничем иным, как негабаритным грузом, который пытается оправдать свою неудачную физическую форму – важным наполнением и повышенной функциональностью.
Вот и отцу я купил такую же: той же фирмы, того же размера и расцветки. Чтобы отец складывал в боковые карманы очки, дорожную подушку и коробочку с таблетками. Чтобы, взглянув на неё однажды, отец вдруг взял да и вспомнил обо мне.
В отдельном зале мясного ресторана неподалёку от метро «Новокузнецкая» столы были сдвинуты буквой П, отец сидел в центре горизонтальной перекладины. Мама усадила меня рядом с собой, возле правого угла, через три человека от отца. Гости были намного меня старше, в основном отец собрал бывших военных и своих подчинённых из заводского руководства.
Подарок был принят; не распаковав, отец поставил его возле ножки стула. Так как я опоздал, основные тосты были уже позади – за именинника, за родителей, семью и за тех, «кого с нами нет». Все поддерживали беседу: обсуждали события в соседнем государстве. Мама подкладывала мне овощи и тонко нарезанные кусочки отварного языка, официант принёс тарелку с картошкой и котлетой по-киевски. Отец один раз посмотрел в мою сторону и взгляд его показался мне мягче и дружелюбнее, чем прежде. Что было тому причиной – количество выпитого, внимание гостей? А может, он просто перестал на меня сердиться?