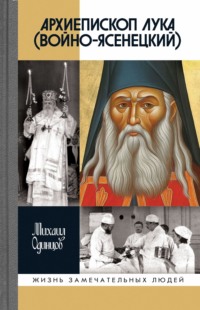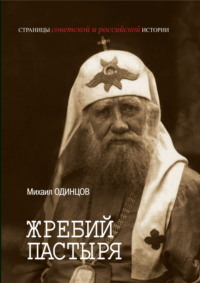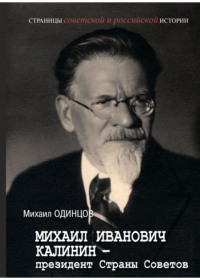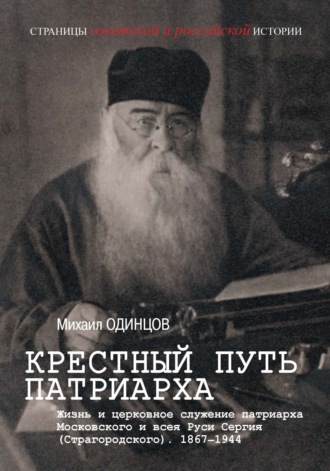
Полная версия
Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)
Съезд послал в адрес Временного правительства телеграмму, где говорилось, что съезд, «одушевленный желанием устроить церковно-общественную жизнь на началах свободы и полного единения всех членов Церкви, поддерживает Временное правительство… в его тяжелых трудах на благо родины»[85].
В вечернем заседании приступил к своей работе избранный президиум: заслушано от имени Владимирского губернского исполнительного комитета приветствие съезду и пожелание благотворной работы на пользу церкви и обществу; озвучена предполагаемая программа съезда; зачитано послание Святейшего синода о скорейшем созыве Всероссийского церковного собора.
Однако далее произошла первая для архиерея неожиданность. Один из участников съезда выступил с внеочередным заявлением о необходимости прежде обсуждения вопросов, поставленных в проекте программы съезда, выяснить отношение всего съезда к архиепископу Алексию. Предложение было признано подлежащим немедленному обсуждению, и в итоге съезд почти единогласно (при 20 воздержавшихся) постановил: «Удалить архиепископа Алексия из Владимирской епархии».
На имя обер-прокурора была отправлена объясняющая основания решения съезда телеграмма следующего содержания:
«Владимирский епархиальный съезд духовенства и мирян, ввиду несомненного отрицательного отношения архиепископа Алексия к обновлению церковно-общественной жизни, крайне деспотичного характера его, произвольных действий и подозрительных сношений с Распутиным, требует для блага и мира церкви немедленно отстранить архиепископа Алексия от управления Владимирской епархией способом, каким Вы признаете возможным, поручив временно управление епархией старшему викарию. Подробная мотивировка постановления съезда будет представлена особо»[86].
Одновременно было решено письменно сообщить архиепископу Алексию о постановлении съезда, что и сделали утром следующего дня. Архиепископ попытался противостоять, собрать своих сторонников и провести митинг в свою защиту, но, поняв, что большинство не на его стороне, отказался.
4 мая в утреннем заседании, перед тем как перейти к рассмотрению проекта программы, съезд почтил вставанием память «борцов, павших за свободу», пропел общим хором «со святыми упокой…» и «вечная память». Объявлено было о денежном сборе в пользу освобожденных политических[87].
5 мая, утром, съезд приступил к рассмотрению вопроса об отношении церкви к государству. Предложена была следующая формула:
«а) Православной церкви, наравне с другими религиозными общинами, должна быть предоставлена свобода самоопределения в ее устройстве, управлении и жизни.
б) Государство, одинаково относясь ко всем религиям, должно признавать за Православной церковью, как и за всеми другими религиозными общинами, культурно-общественное значение, значение публично-правовых установлений и обязано оказывать всем своим гражданам материальную поддержку и содействие в удовлетворении их религиозных потребностей.
в) Ведомство православного исповедания заменяется Министерством исповеданий, которому поручается наблюдение за всеми религиями в России и осуществление государственной поддержки и покровительства им, как высшим ценностям публично-правового характера».
Выборы нового правящего архиерея были назначены на 8–9 августа. Синод 7 августа командировал во Владимир архиепископа Московского Тихона (Беллавина) для наблюдения за прохождением епархиального съезда и придания легитимности его решениям.
С 8 по 12 августа 1917 г. во Владимирской епархии прошли три важнейших церковных события:
а) съезд для избрания епископа на вакантную Владимирскую кафедру,
б) съезд для выбора членов на Всероссийский Поместный собор,
в) очередной епархиальный съезд для разрешения текущих дел.
8 августа в зале заседаний епархиального женского училища собрались делегаты епархиального съезда. Собрание открыл архиепископ Московский Тихон, предложивший делегатам заняться предварительным выяснением кандидатов для избрания епископа Владимирского. После этого, дабы избежать в будущем каких-либо обвинений в поддержке кого-либо из кандидатов, Тихон покинул собрание.

Владимир. Успенский кафедральный собор
[Из открытых источников]
Собранию были названы кандидаты на Владимирскую кафедру, предварительно намеченные на пленарном заседании епархиального исполнительного комитета: епископ Евгений (Мерцалов), протоиерей Т. Налимов, архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) и еще несколько человек. Председатель собрания сообщил, что от протоиерея Налимова и архиепископа Сергия получены согласия о выставлении их кандидатуры при избрании. Затем на каждого из представленных была зачитана характеристика. Для архиепископа Сергия это была статья из «Всероссийского церковно-общественного вестника», опубликованная перед выборами епископа на Петроградскую кафедру.
Голосами присутствующих были озвучены еще две возможные кандидатуры: епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), архиепископ Северо-Американский Евдоким (Мещерский). После довольно продолжительного обсуждения остановились в конечном итоге на 4 кандидатах: протоиерей Налимов, архиепископ Сергий, епископ Андрей и епископ Евгений.
На вечернем собрании этого же дня состоялось предварительное голосование записками. При подсчете оказалось, что большинство, но не абсолютное (207 из 526) получил протоиерей Налимов; архиепископ Сергий получил 187 голосов; епископы Евгений и Андрей получили менее ста голосов каждый.
9 августа по складывавшейся новой практике состоялось торжественное избрание епископа в древнем кафедральном Успенском соборе, куда были допущены только делегаты. Божественную литургию возглавил архиепископ Тихон. Сослужили ему все викарии Владимирской епархии и многочисленное духовенство из состава съезда. После литургии был совершен молебен Спасителю, Божией Матери и владимирским чудотворцам.
По окончании богослужения начался акт избрания правящего архиерея из числа выдвинутых накануне кандидатов. Каждому делегату вручили бюллетень, куда следовало вписать имя избираемого архиерея. На солее были поставлены три урны для опускания избирательных бюллетеней. Урны в присутствии архиепископа Тихона были осмотрены и запечатаны. Вокруг каждой урны встали члены распорядительной комиссии. Избиратели вызывались по списку; подходя к урне, они предъявляли свои делегатские билеты и опускали бюллетень. Благодаря этим мерам подача избирательных бюллетеней проходила в полном порядке.
Подсчет поданных записок производился комиссией под непосредственным наблюдением архиепископа Тихона. Результаты голосования оказались следующие: архиепископ Сергий получил абсолютное большинство голосов (307), протоиерей Налимов – 204, епископ Евгений – 27. Тотчас был составлен акт, который затем торжественно был прочитан с амвона собора. После этого новоизбранному Владимирскому иерарху было провозглашено трижды «аксиос» и началось пение общим хором избирателей торжественной церковной песни «Тебе Бога хвалим»… Пение было стройное и одушевленное. Чувствовалась вся важность только что совершенного церковного акта, давно забытого в Русской церкви, акта избрания паствой своего архипастыря. Для Владимирской епархии этот акт имел особенную важность: три месяца тому назад владимирская паства в лице своих представителей на епархиальном съезде порвала общение со своим архиепископом и выразила желание избрать епископа по сердцу своему. Теперь ее желание исполнилось: она получила право избрания и осуществила его. Свершившийся выбор, кажется, удовлетворил всех.
По окончании выборов епархиальный съезд, пока еще заочно, приветствовал своего нового архипастыря и выразил желание видеть его во Владимире до окончания занятий съезда. Архиепископ Сергий, бывший в тот момент в Москве, получил извещение об избрании и сообщил об этом на заседании Синода. Он получил разрешение от Синода и утром 10 августа отправился во Владимир[88]. В четыре часа дня владимирская паства уже встречала на городском вокзале своего правящего архиерея Сергия (Страгородского). В состав депутации вошли епархиальные викарии, представители от епархиального съезда, Духовной консистории, духовно-учебных и прочих заведений.
В Успенском соборе владыку торжественно встретили и преподнесли икону и хлеб-соль. Архиепископ выслушал встречавших, затем приложился к мощам и Владимирской иконе Божией Матери, вошел в алтарь. По окончании краткого молебствия он обратился к собравшимся с речью, проводя мысль, что православным христианам в нынешнее сложное время нужно прежде всего искать царствия Божия, а «остальная вся», т. е. устроение внешней жизни «приложатся». Из собора архиепископ Сергий отбыл в свои покои, а вечером посетил епархиальный съезд, где в это время происходили выборы членов делегации от Владимирской епархии на Поместный собор. Ознакомившись с ходом выборов, владыка обратился к съезду с речью, в которой благодарил представителей клира и мирян за оказанное ему избранием на Владимирскую кафедру доверие, обещал послужить по мере своих сил Владимирской церкви. Простота и приветливость нового архипастыря произвели на съезд приятное впечатление. Одушевленным пением «ис полла эти деспота» проводили владыку со съезда.
Сразу после избрания Сергий произвел первоочередные назначения приходского духовенства, а также сформировал новый состав Епархиального совета, который должен был заниматься церковными проблемами в его отсутствие. На большее не оставалось времени, вот-вот в Москве должен был начаться Поместный собор и там с нетерпением ожидали его приезда. Сергий возвращался в Москву вместе с делегацией на Собор от Владимирской епархии, в которую вошли протоиерей Н. Преображенский; псаломщик А. Авдиев; миряне А. Овсяников, В. Добронравов и Н. Малицкий[89].
Речь архиепископа Владимирского Сергия
(Страгородского) при первом вступлении
во Владимирский кафедральный собор
10 августа 1917 г.
Приветствую вас, возлюбленные братия, моя возлюбленная паства, избиратели мои, призвавшие меня на служение к вам, в вашу Владимирскую епархию.
Вчера состоялось избрание мое, сегодня я здесь приветствую вас. Приехал я так скоро, повинуясь вашему зову, с одной стороны, чтобы поскорее ответить на вашу любовь своею готовностью послужить вашему спасенью, а с другой стороны, потому что до Собора осталось так мало времени, что выбрать другой день для посещения трудно, а между тем оставаться на Соборе и называться по имени епархии, не побывав в ней, неудобно. И вот мне хотелось повидать вас, соединиться с вами в общей молитве, дабы отсюда, напутствуемый молитвами, я мог ехать на Собор.
Итак, да благословит Господь Бог наше совместное первое моление и да дарует Господь Бог мне послужить в меру сил моих и духа, вашему спасению. Может быть, некоторые ждут от меня пространного слова, может быть, хотят, чтобы я объяснил, что я намерен делать, какие у меня планы относительно церковного устроения. Но я думаю, что теперь, при первой встрече, слова останутся словами, так как, мало зная здешнюю обстановку, будучи мало знаком с вашими нуждами, считаю, что много распространяться нет особенной надобности и цели. И вот в настоящую минуту, когда я думаю, что мне нужно делать, как установить наши взаимные отношения, как уврачевать здешние церковные болезни, по выражению о. кафедрального протоиерея, какое лекарство, пластырь приложить к ранам, мне кажется, что все это потом сами собою обстоятельства укажут. Теперь же напомню вам слова Спасителя: ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. VI, 33). Если мы будем в своей жизни руководствоваться какими-нибудь земными целями, стремлениями, искать того, что присуще земле и на земле останется, то мы не достигнем той радости, того мира духовного, к которому мы стремимся, потому что земное не удовлетворит нашу душу, если только мы не будем искать Царства Божия, если не будем освещать мысли, слова, действия единым на потребу – нашей верой, нашим упованием на Бога, желанием исполнять Его волю и надеждой на Него, а не наши силы. Так обстоит и в отношении клира и мирян, архиерея и клира с мирянами. Если будем искать взаимного угождения, взаимной лести, то горе будет нам; горе будет нам, если станем строить на таком основании свои взаимоотношения, если таким цементом будем связывать себя в союз, потому что такой союз будет непрочен и наш мир будет не мир Христов и не к такому миру призывал нас Господь. Не даром Он сказал: не мир пришел я принести, но меч (Мф. X, 39), т. е. пришел принести не то, что льстит друг другу, что льстит страстям, низменным привычкам. Нет, Господь пришел, чтобы послужить делу общего спасения, положить душу за спасение всех. Станем и мы во взаимных отношениях искать прежде всего Царства Божия и правды Его, будем стремиться к тому, чтобы в наших взаимных отношениях не было лицемерия, ни угодливости или еще чего-нибудь недостойного Церкви Божией. Будем искать правды Божией, любви Христовой, будем в мире друг с другом во имя Христа, будем друг другу помогать в общем спасении нашей души, и тогда все земные отношения, земные нужды найдут свое удовлетворение; тогда все у нас будет хорошо, потому что все будет согрето любовью Христовой, одушевлено благодатью Божией, направлено к той цели, к какой должно быть направлено. Царство Божие все освятит, все исправит, умиротворит страсти, даст силу и мудрость найти пути к тому, как приблизить, насколько возможно, общее спасение.
И вот теперь, в первый раз молясь с Вами, я молю Господа, дабы Он открыл нам то, что открыл младенцам, что скрыто, по Его словам, от премудрых века сего (Мф. XI, 25), что составляет единое на потребу для спасения душ наших. В этом заключается главное счастье, главное, к чему мы должны стремиться. Если оно у нас есть, то все остальные отношения наши будут мирны, радостны и наша жизнь будет провозглашением Царства Божия на земле, которое откроется в будущем веке. Будем же стремиться к этому, будем помогать друг другу как взаимным усердием к вере, храму Божию, так и нашей взаимной молитвой друг за друга, потому что как пастырь обязан молиться за пасомых, так и пасомые за пастыря.
Если каждому из нас в отдельности тяжело идти в гору, если слабый человек требует помощи, то тем бо-лее требует помощи тот, кто не только должен впереди идти, но и других вести, слабых поддерживать, немощных укреплять. Сколько нужно для этого силы веры, сколько духовной ревности. Вот почему нужны усиленные молитвы всех вас, чтобы Бог помог мне совершить мое служение, чтобы Ваши чаяния оправдались, чтобы Ваши молитвы были услышаны, и Владимирская церковь нашла умиротворение и исцеление и дальнейшая жизнь ее потекла бы мирно и радостно.
Да благословит Господь Бог вас, да укрепит вседействующей благодатью и да поможет нам исполнить служение друг пред другом по нашей силе и по той благодати, которую Господь дал каждому из нас. Прошу ваших молитв и прошу принять меня с миром.
Владимирские епархиальные ведомости. 1917. № 31. С. 289Поместный собор российской православной церкви:
церковные реформы, отношение к государству и обществу
Днем 14 августа, ближе к вечеру, Сергий Страгородский направился в Кремль, где в храмах и монастырях проводились многочисленные службы с участием иерархов и делегатов, прибывавших на Собор, а также и тех, кто планировал расположиться в кремлевских учреждениях на дни работы Собора. Сергий подходил к Успенскому собору, когда из него группами выходили верующие, священники, а потом и иерархи. Среди них он сразу же заметил своих знакомых: митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), архиепископов Тифлисского Платона (Рождественского) и Московского Тихона (Беллавина). Они о чем-то на ходу беседовали. Подойдя, Сергий услышал последние слова архиепископа Тихона: «Пойдемте, пойдемте, владыки нас приглашали». Завидев Сергия, они и его увели с собой. Оказалось, в Чудовом монастыре проживали архиепископы Новгородский Арсений (Стадницкий) и Петербургский Вениамин (Казанский). Хозяева и гости устроились на скромный чай, намереваясь хоть немного передохнуть перед вечерними службами, обменяться новостями и впечатлениями и подготовиться к завтрашнему дню – дню открытия Собора. Вот здесь-то Сергий и раскрыл причину своего появления в Кремле. Привстав из-за стола, он огласил только что им полученный указ Синода об утверждении Временным правительством архиепископов Тихона, Вениамина и Платона в звании митрополитов с правом ношения белых клобуков. Все присутствовавшие сердечно поздравили новых митрополитов.

Располагалась на улице Божедомка, д. 3 (с 1941 г. – Делегатская). В дни работы первой и второй сессий Поместного собора здесь проживало большинство соборян. Летом 1918 г. здание было национализировано. В нем разместился так называемый 3-й Дом Советов, помещения которого предоставлялись для проживания делегатов различных партийно-советских съездов и для проведения массовых мероприятий, в том числе проводимых религиозными организациями.
Московская духовная семинария
[Из открытых источников]
15 августа в Москве торжественно открылся Поместный собор – первый за последние 200 лет, с эпохи Петра Великого. С семи с половиной часов утра в 25 монастырях и церквах за пределами Кремля архиерейским служением были совершены литургии. Одновременно во всех кремлевских соборах литургии возглавляли наиболее авторитетные архиереи. Архиепископ Сергий совершал литургию в Чудовом монастыре. Чуть позже крестные ходы от всех московских приходов со всех концов города направились на Красную площадь. На Лобном месте разместились архиереи – члены Собора. Был отслужен краткий молебен, чтобы «Господь призрел на собравшихся вкупе верных людей Своих во еже благоугодно совершити им устроение Православныя церкви Российския и о спасении Державы Российской».

Торжественное богослужение на Красной площади в день открытия Поместного собора Российской православной церкви
15 августа 1917
[Из открытых источников]
По окончании торжеств в покоях митрополита Московского в Троицком подворье, что на Самотеке, в три часа дня состоялась праздничная трапеза для всех преосвященных и некоторых именитых членов Собора из пресвитеров и мирян.
Согласно своему Уставу Собор действовал через посредство: 1) общего собрания, 2) Соборного совета, 3) Совещания епископов, 4) отделов, 5) председателя и товарищей председателя Собора, 6) секретаря и его помощников. Планировалось в течение августа – сентября сформировать все необходимые органы управления.
17 августа в Епархиальном доме (Лихов пер., 6) начались первые деловые заседания Собора, неожиданно доставившие неприятные минуты Сергию Страгородскому. Сначала его, что называется, прокатили на выборах председателя Собора: его кандидатура при голосовании получила всего один голос! Председателем Собора был выбран митрополит Тихон (407 голосов «за», 3 – «против»). По всей видимости, соборяне следовали традиции избирать во главе церковных соборов первых епископов городов, где они проходили. Затем при выборах заместителей председателя от епископов за Сергия подали голос лишь 18 человек! Избранными оказались архиепископы Новгородский Арсений (Стадницкий) и Харьковский Антоний (Храповицкий). Не прошел Сергий и в состав Соборного совета от епископов, получив лишь 17 голосов. Избранным стал митрополит Тифлисский Платон (Рождественский). Иными словами, Сергий Страгородский оказался вне состава руководящих соборных органов.
Не удалось ему возглавить и сколько-нибудь важные соборные отделы. Можно рассматривать как утешение его избрание и утверждение в качестве председателя далеко не главного отдела о церковном суде[90]. Да и в соборных стенограммах в течение всей первой сессии имя Сергия встречается в редчайших случаях: как будто он был и вместе с тем его не было?! Нет его среди докладчиков, среди участвующих в дискуссиях; не привлекался он и к подготовке проектов соборных документов и посланий. Вполне можно согласиться с мнением архиепископа Иоанна (Разумова): «Это было знаменательное предвестие: на всем протяжении Собора архиепископ Сергий играл роль, совершенно несоответствующую его значению»[91]. Можно предположить, что во многом эта «отстраненность» Сергия Страгородского есть следствие критического отношения в церковном сообществе к его участию в «львовском» Синоде.
Важную роль в работе Собора играло совещание епископов, на котором в предварительном порядке рассматривались основные вопросы повестки дня заседаний, состав и председатели отделов, обсуждались и окончательно принимались соборные документы и решения. Понятно, что Сергий, как член Собора и член Святейшего синода, наконец, как правящий архиерей, не мог быть отстранен от деятельности этого органа. Более того, Сергий принимал в его работе самое активное участие, может, тем самым восполняя свое «отсутствие» во всем остальном?
2 сентября в одном из залов Епархиального дома собралось первое организационное собрание одного из важнейших отделов – о высшем церковном управлении. Открыл его старейший из присутствовавших иерархов Сергий Страгородский. В соответствии с накануне принятым решением совещания епископов архиепископ Антоний (Храповицкий) рекомендовал отделу на место его председателя епископа Астраханского Митрофана (Краснопольского), указав, что «как бывший в Думе» он сможет быть деятельным распорядителем работы в отделе, где решается вопрос о патриаршестве. При этом Антоний, передавая свое впечатление о настроениях на открывшемся Соборе, отметил, что он видит, как формируются два течения: «православно-церковное» и «протестантское». После этих слов поднялось страшное волнение со стороны профессорского состава Собора, принявших на свой счет обличение – «протестантское». Страсти столь бушевали, что пришлось Сергию устроить перерыв в заседании отдела. После соответствующей успокоительно-разъяснительной работы в перерыве спустя время вновь открыли собрание отдела. Заслушали извинение Антония, который, как он выразился: «не то хотел сказать, что сказал», и только после этого благополучно довели его до логического конца – избрали председателем епископа Митрофана. Епископ в своем слове грозил антипатриархистам и клятвенно обещал провести необходимое решение о восстановлении патриаршества в отделе и внести готовую формулу на рассмотрение Собора.
27 сентября в помещении Московского митрополита, с шести до половины десятого вечера, проходило очередное совещание епископов. Подводился итог полуторамесячной работе. Было очевидным, что ожидания быстро решить все проблемы, накопившиеся за 200 лет, оказались иллюзорными. Потому было решено распределить проблемы на первостепенные, необходимые к решению в течение первой сессии и другие, которые можно было отложить. К числу первых отнесли вопросы о высшем церковном управлении; об епархиальном управлении; об отношении Церкви к государству. Бурное обсуждение проходило и во время заседания, и в перерывах, в кулуарах. То здесь, то там собирались группы соборян, объединенных общим интересом к «патриархистам» и «антипатриархистам», и оттачивали свои аргументы «за» и «против».
– А вот, владыка, помнится, что на заседаниях Предсоборного совета, – присаживаясь во время перерыва за чайный стол к архиепископу Арсению (Стадницкому), проговорил Сергий (Страгородский), – Вы были противником патриаршества.
– Да, не отказываюсь… был.
– А что сейчас?
– Да я и сейчас еще в размышлениях. Я не против патриаршества принципиально, как формы управления или возглавления церкви. Я сомневаюсь в своевременности вынесения этого вопроса…
– Зато владыка Антоний Храповицкий считает только сейчас и только сегодня это сделать необходимо.
– Мне так в нынешнем бурном общественном состоянии не кажется. Сдается мне, что не созрели мы – ни иерархи, ни пастыри, ни уж тем более миряне – к такому кардинальному изменению. Пусть бы был председатель Синода, а года через три можно было бы и усвоить сан патриарха наиболее достойному иерарху.
– А я склоняюсь к мнению Антония. Как раз в житейском море и могут произойти изменения, которые надолго, если не навсегда отодвинут этот вопрос. Да и антипатриархисты наши не дремлют… Пойдемте в залу, призывают. – И уже на ходу Арсений как бы заключил состоявшийся разговор: «Будущее покажет, кто прав. Буду бесконечно рад, если мои сомнения окажутся напрасными. Однако при всем своем мнении я публично выступать против патриаршества не буду».
Днем 25 октября приехавшие из Петрограда члены Собора сообщили о штурме Зимнего, низложении Временного правительства, решениях Всероссийского съезда Советов – единственного на тот момент из оставшихся легитимных органов власти в стране. В работе Собора был объявлен перерыв. На улицах города и вокруг Кремля начались и в течение нескольких дней происходили столкновения «белых» и «красных». Попытки соборян выступить в качестве миротворцев оказались бесполезными: ни тем, ни другим усилия церкви были не нужны; и те, и другие надеялись исключительно на военную силу.