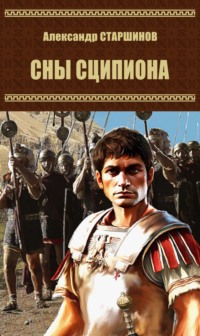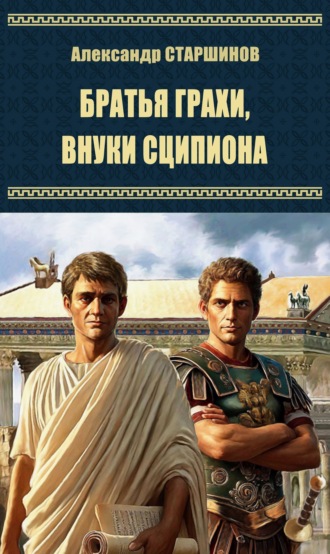
Полная версия
Братья Гракхи, внуки Сципиона
– О, про супругу Гасдрубала сочиняли разное, – оживился Сенатор. – Полибий сотоварищи придумали, будто она чуть ли не благословила римского полководца за уничтожение города: «Тебе, о римлянин, нет мщения от богов, ибо ты сражался против враждебной страны!» – трагическим голосом произнес Сенатор. – А все упреки обрушила на сдавшегося в плен мужа.
– А потом вытащила из складок одежды нож и убила детей. А затем уже сама кинулась в пламя. Видимо, пламя горело тут же у ног Сципиона. Или она бежала еще целый стадий, чтобы кинуться в огонь?
– Похоже на миф о Медее, – сухо ответил Сенатор.
А Философ продолжил…
Тиберий Гракх при осаде Карфагена. Продолжение рассказа ФилософаКогда сопротивление прекратилось, из города вышло тысяч пятьдесят уцелевших, не больше. А ведь в городе к началу осады заперлось в стенах около полумиллиона человек. Многие сдавшиеся пунийцы были ранены и обгорели. Исхудавшие, в лохмотьях, черные от сажи, с опаленными волосами, бровями и ресницами, они напоминали оживших мертвецов, которым удалось чудом удрать со своего погребального костра. Нельзя было даже точно установить, кто из них богат, а кто беден, так они были измождены и грязны. Хотя в тот момент уже не имели значения ни богатство, ни титулы – уничтожение Карфагена уравняло богачей с бедняками и всех превратило в рабов. Торговцы живым товаром караулили стаями гиен близ военного лагеря, ожидая, когда же наконец в их лапы поступит добыча. И вот дождались. С жадностью накидывались они на пленников, вязали мужчинам руки, а затем запихивали на огороженные клочки земли, или в деревянные клетки, что были припасены заранее. После того как пунийцы вышли, в храме Эшмуна заперлось около тысячи[29] римских перебежчиков. Они подожгли храм и задохнулись в дыму, чтобы не сдаваться в плен и не быть распятыми.
Несмотря на пожар, часть домов в городе уцелело – прежде всего те, что были покинуты жителями, или где не оказывалось сопротивления. Эмилиан отдал город на разграбление на семь дней[30], разрешив воинам брать все, что приглянется, только золото, серебро, и храмовые сокровища надлежало сносить в общую кучу. Возможно, во время этого грабежа легионеры пожалели, что подожгли город: от многих богатых домов уцелели лишь полы из розового цемента, в который прежде чем он затвердеет, вставляли кусочки белого мрамора. В тех домах, что пощадил огонь, римляне находили богатую добычу: кресла из драгоценного древа, украшенные слоновой костью, большие шкатулки из кости, пурпурные ткани. Где-то встречалось серебро. Бронзы не было – ее всю переплавили за время осады. Повсюду стояли керамические светильники в виде раковин. Победители их просто разбивали, как и многочисленные пустые амфоры, предназначенные для оливкового масла и вина. Карфаген был несметно богат, хотя уже и не так, как прежде, до войны Ганнибала. Немало золота собрали в общую кучу – но сокровища из самого роскошного храма города – святилища Аполлона – пропали, разрезанные ножами, спрятанные в солдатские сумки и поясные кошели. За расхищение добычи полагалась смерть, но Сципион не мог казнить четыре тысячи легионеров и потому попросту не выдал награды из общей добычи тем, кто позаботился о своей доле сам.
Как сокровищ уцелела лишь десятая часть, так и из жителей города – тоже каждый десятый. Кто знает, быть может, среди этих пленников, что вышли из города и попали в лапы работорговцев, все же оказалась жена Гасдрубала. Переодевшись в простое платье, она попыталась спасти детей. Эта легенда нравилась Тиберию.
Тиберий, будучи квестором при Эмилиане, велел своим помощникам переписывать на таблички имена пленников и вести им счет. Но все они были для него на одно лицо и все назывались схожими именами, как это принято было в Карфагене. На всякий случай торговцы назначали каждому свое новое имя и номер – чтобы не перепутать добычу. По-разному их рассаживали по клеткам. Девушек лет тринадцати-четырнадцати отдельно от прочих – девственницы с выбеленными известью ногами ценились особо высоко на рынках Востока. Мужчин тоже запирали отдельно – этим была дорога в каменоломни. Иногда семьи не разлучали, и женщин с маленькими детьми запирали вместе. После окончания дневных трудов легионеры толклись возле этих клеток – за десяток сестерциев выкупали на пару часов какую-нибудь матрону и тащили в палатку. Многие пленницы намеренно мазали экскрементами лица – отпугивая покупателей не столько грязью, сколько нестерпимой вонью. Другие срывали примитивные повязки с ожогов, расчесывали раны, чтобы ужасный вид и вонь гноящихся ран спасла их от непрерывного насилия. Другие относились к своему жребию покорно.
Иногда победители брали мальчишек лет десяти-двенадцати. Но после того как один центурион, перепив неразбавленного вина, отсек мальчишке нос за то, что тот царапался и его укусил, Тиберий Гракх велел клетки с детьми срочно увезти подальше от лагеря. Пленники были добычей, и ценной добычей, за каждого, внесенного в списки, квестор должен был отвечать. Неважно, что под горячими от огня камнями остались сотни тысяч погибших, они уже никому не принадлежали – только сами себя. А живой товар принадлежал Риму, и он имел цену.
Одна из женщин привлекла внимание Тиберия. Ей было около тридцати, она сидела в отдельной клетке вместе с двумя мальчиками. Торговец живым товаром, тощий Нуммий, старик лет шестидесяти, расчетливый и совершенно безжалостный, велел её кое-как отмыть от грязи. Оказалось, что она необыкновенно хороша зрелой красотой, и если раздалась в бедрах и груди, то талия и ноги ее оставались, будто у незамужней юницы. Глаза ее, черные, ярко блестевшие, смотрели с какой-то особой решимостью – выжить, выдержать и сберечь детей. Один из мальчишек повредил ногу, и мать вынесла его из города на руках. Она запрещала ему ходить, чтобы нога срослась, и даже выпросила у Нуммия две деревянные пластины, в которые поместила сломанную ногу, обвязав ее обрывками своей туники. Мальчишка теперь либо сидел, либо ползал по клетке. Вырастет – останется хромым, но возможно, мать сохранила ему возможность ходить. Почему-то у Тиберия мелькнула мысль, что женщина эта могла быть женою Гасдрубала, но он ни о чем ее не спрашивал, уверяясь в своей догадке все более и более. Ее брали каждую ночь и возвращали только утром, бросали обессиленную на пол клетки, сыновья подавали ей попить и поесть и сидели рядом, прижимаясь к ней, ничего не говоря. Однажды вечером какой-то легионер вытащил из клетки сначала женщину, а потом ухватил здорового паренька. Покорность мгновенно слетала с пленницы, она вцепилась ногтями легионеру в щеку, а когда тот оттолкнул ее, кинулась снова и впилась зубами в руку. Солдат принялся бить ее по голове, но густые волосы, спутанные и грязные, кое-как уложенные короной вокруг головы, защищали ее от ударов, и она не разжимала челюстей. Наконец подоспевший товарищ буквально отодрал пленницу от легионера и швырнул назад в клетку.
– Оставь этих троих в покое, – приказал Тиберий, подходя. – Они уже куплены.
– Кем же? – не поверил укушенный.
К легионеру подошли еще двое. Видимо, из его же контуберния[31].
Укушенный смотрел волком – будь эти трое в его власти, расправился бы и с матерью, и с детьми.
– Я не намерен разглашать тебе имени покупателя.
Легионеры ушли, ворча, как побитые псы, перечить квестору они не решились. А Тиберий вызвал Нуммия и объявил, что сам покупает этих троих и велел отправить их в свое поместье. Нуммий, несмотря на свою жадность, торговаться не стал, понимая, что выгода в его деле целиком зависит от квестора, и назначил обычную цену и за женщину, и за мальчишек. Тиберий не просто отослал их в поместье, но и написал письмо вилику, приказывая проследить, чтобы женщина и ее сыновья были устроены настолько удобно, насколько это можно обеспечить в их положении. Во-первых, чтобы заботу о них взяла на себя жена вилика, в прошлом кухарка, чтобы дали этим троим какую-то отдельную каморку, кормили хорошо и сытно, работу нашли по силам, и чтобы никто ни к женщине, ни к мальчишкам не приставал, потому что это его люди. И чтобы присмотрели за раненым пареньком – будет жаль, если он останется калекой.
* * *Тем временем из Рима прибыла комиссия Сената – она должна была решить, как поступить с дерзким городом, вернее, с его остатками. Пожар уже прекратился. Там и здесь среди развалин высились остовы уцелевших домов. В одном месте сохранился почти полностью квартал богатой застройки, откуда легионеры вынесли мебель, статуи, и даже колонны, украшенные лепными капителями ионического ордера. Карфаген строился из камня и саманного кирпича, так что пожар не мог его полностью уничтожить. Уцелел и храм Эшмуна, хотя и покалеченный огнем. Сгорели стоявшие вокруг него черной колоннадой высоченные кипарисы.
Тиберий рядом с Эмилианом встречал одетых в тоги сенаторов. С утра дул сильный ветер, поднимавший тучи пепла так, что было трудно дышать. Тиберий отметил, что его двоюродного брата, Сципиона Назики среди посланцев Сената нет: Назика был яростным противником разрушения Карфагена и, выступая в Сенате, всегда ссылался на своего деда (и деда Тиберия), Сципиона Африканского, который стоял за сохранение побежденного города. Тиберий подумал, что если ушедшие видят наши деяния из небесного далека, то вряд ли Сципион будет в этот день восхищаться своим внуком. Это ощущение, что победитель Ганнибала на него смотрит, сделалось почти навязчивым.
– Так что же ты медлишь, Эмилиан? – обратился к командующему консуляр, возглавлявший комиссию. – Рим повелел стереть этот город с лица земли, место вспахать плугом и засыпать солью так, чтобы она въелась в землю, и ничто и никогда здесь не росло.
– Так мы должны разрушит город окончательно? – уточнил Эмилиан.
– До основания. Карфаген должен…
И тут Тиберия как будто толкнули в спину. Не человек, но чья-то невидимая рука, и он заявил, перебив консуляра:
– Но это удобнейшее место для поселения, здесь можно основать римскую колонию, римские граждане будут торговать и отправлять корабли в плавание, как прежде это делали пунийцы. Можно сохранить несколько кварталов, в них поселятся как римляне, так и ливийцы. Они могут богатеть и служить Риму. И мы приспособим гавани Карфагена…
Консуляр повернулся в сторону Тиберия всем своим дородным телом.
– Квестор Тиберий Гракх! – произнес он тоном судьи, выносящим приговор. – Это проклятое место, и никто никогда здесь жить не станет!
– Мы провели обряд, призывающий пунийских богов покинуть это место. Ни Танит, ни Эшмун не могут никому повредить.
– Воля Сената и римского народа священна! – возвестил Эмилиан.
Спустя полчаса манипулы легионеров, вооружившись топорами, баграми и крючьями, отправились крушить камни и кирпичи, как прежде они крушили живую плоть.
– Это не рассказ о Тиберии Гракхе, – усмехнулся Сенатор, – это рассказ о падении Карфагена и захвате пленников. Неужели – это единственное, Гай, что рассказал тебе старший брат?
Казалось, Философ нисколько не был уязвлен словами Сенатора.
– Не единственное, разумеется. Если ты не против, я продолжу.
Продолжение рассказа Философа о Тиберии ГракхеНесмотря на то, что Эмилиан был женат на старшей сестре Тиберия, а сам Эмилиан по усыновлению приходился Тиберию кузеном, с самой ранней юности, с того дня как умер отец Тиберия, никаких добрых чувств меж ними не возникало. Тиберий обожал мать, как и Гай, и как Семпрония, но с Эмилианом они оказались совершенно чужими людьми. По крови Эмилиан не был в родстве с победителем Ганнибала, он был из рода Эмилиев, то есть родич супруги Сципиона Африканского, и внук несчастливого консула, проигравшего вместе с Варроном битву при Каннах.
Правда, новый Луций Эмилий, сын погибшего, вошедший в возраст уже после того как первые битвы Ганнибаловой войны отгремели, был человеком расчетливым и острожным, а как полководец весьма удачливым. После усыновления Эмилиан продолжал жить в доме родного по крови отца, так что от Сципионов получил он только имя, но отнюдь не воспитание.
Хочу я вспомнить историю вторичного избрания в консулы родного отца Эмилиана. В прежние годы он уже пытался домогаться второго консульства, но не преуспел. А проиграть выборы снова спустя много лет смертельно обидно. Был Эмилий уже человеком в летах, имел связи, друзей и клиентов и очень ловко разыграл спектакль перед народом, сделав вид, что не жаждет этой должности и не хочет ее. Однако его друзья по Испанской кампании собрали толпу из безземельных ветеранов, которым, так же как и Луцию Эмилию, годов было уже изрядно, вот только не было у них ни крова над головой, ни семьи, ни источника пропитания. Поначалу человек пятнадцать или двадцать приходили под окна к Эмилию и вопили, что он должен стать консулом и вести их на войну против Македонского царя. Уловка для кандидата обычная, вот только незачем при этом ломаться, выходя на Форум, будто невинная девица перед брачным ложем. Гай Гракх был честнее, когда говорил: «Даже, если вы, квириты, призовете на помощь всю свою рассудительность и порядочность, все равно не найдете среди нас никого, кто вышел бы на эту трибуну бескорыстно. Все мы, произносящие здесь речи, к чему-либо стремимся, и каждый, кто выступает перед вами, делает это лишь для того, чтобы достичь выгоды, и не для чего другого».
Но вернемся к Эмилию. Его сторонники стали скликать зевак с Форума, или идущих по своим делам плебеев и те тоже, захваченные толпой, устремлялись к дому Эмилия, чтобы прокричать славословия в адрес добродетельного патриция. Продолжалось это действо дней десять, однако толпа почти не росла, многим стало надоедать бесцельное хождение. Сообразив, что сторонники могут разбежаться, убеленный сединами консуляр вышел на Форум к народу в белоснежной тоге кандидата и объявил, что уступает требованиям жителей, и что он не должности ищет, а принес им победу в войне. И домогается консульства он не потому, что жаждет власти, а потому, что римский народ ищет полководца…
На этом рассказ Философа был прерван в тот вечер.– Обычная предвыборная речь, полная лукавства. Однако Эмилий Павел был хорошим полководцем, – заметил Сенатор. – Дед мой участвовал в походе под его началом против Персея Македонского и сражался в битве при Пидне[32] военным трибуном. Павел расположил римлян в удобном лагере, но медлил вступать в битву и тянул время, умело используя свое благочестие. Ему нужно было, чтобы фаланга Македонского царя день за днем изнывала, изготавливаясь с утра к бою, а затем возвращалась уставшая в свой лагерь. Павел заколол чуть ли не двадцать быков, день за днем не находя нужных знаков в кишках животных, зато его легаты и трибуны находили превосходным изжаренное на вертелах мясо.
– Так ты не веришь в благочестие достойнейшего Эмилия? – с наигранным изумлением спросил Философ.
– После проскрипций и резни на улицах Рима я и в богов уже не верю, – ответил неожиданно Сенатор.
Философ покачал головой:
– Я бы советовал тебе не говорить о таких вещах. Если ты спасешься в итоге, конечно.
Сенатор согласно покивал, то ли сокрушаясь, то ли соглашаясь со словами Философа.
– Поначалу римляне ничего не могли сделать против сарис[33], – продолжил Сенатор, – когда фаланга встретила наступавших легионеров тройным рядом копий. Ни щиты, ни панцири не могли защитить от страшных ударов, тела атакующих взмывали вверх над римскими рядами, заливая воинов внизу потоками крови из страшных ран. И если бы фаланга продолжала держать строй, то армия Эмилия не смогла бы одолеть македонцев. Однако римлян спасло то, что одни македонские воины сражались яростно, не отступали и даже пытались атаковать, а другие пятились, и так вышло, что часть фаланги отступила, а другая часть осталась на месте. В построении македонцев образовались солидные разрывы, в них и кинулись наши легионеры – а в этих разрывах македонские пехотинцы оказались беспомощными. С этого мгновения македонцы были обречены на поражение. Кстати, Полибий, которого ты так не любишь, придумал байку про то, что Персей удрал в самом начале битвы, чтобы принести жертву Гераклу, и оставил армию свою без командования.
– Персей довольно гнусненький был человек, – попытался я вступить в разговор.
– Никто из нас его лично не знал, – заметил Философ. – А Полибий ненавидел Персея, поскольку был греком, и македонцы были его смертными врагами. Потому беспристрастного рассказа я бы от него не ждал.
Между тем миновало уже немало времени, а я еще планировал собрать инструменты и доски и изобразить начало работ в старой хижине. Посему я оставил гостей спорить о личности Сципиона Эмилиана и его родне. Когда я уходил, они как раз добрались до разграбления Эпира.
– Не станешь же ты отрицать, что уничтожение маленькой страны исключительно ради добычи и утоления мести – гнуснейшее и подлое действие? – вопрошал Философ. – И надо заметить, это гнуснейшее решение Сената Эмилий Павел исполнил весьма искусно. А что получили его легионеры? Десять драхм[34] на каждый меч. Всего десять драхм! Ради этого было уничтожено прекрасное царство.
– Сами по себе победы и ограбление побежденных считаются делом доблестным, – отвечал Сенатор. – Независимо от добычи.
Когда я уже в сумерках принес инструменты, пару футляров со свитками и горшок с кашей и хлеб для моих гостей, то обнаружил, что они друг с другом не разговаривают. Философ что-то записывал в своем свитке, а Сенатор лежал на скромном ложе, отвернувшись к стене и всем своим видом показывал, что продолжать разговор не намерен. Так что приятной вечерней беседы у нас не вышло. Пришлось оставить все принесенное на столе и молча удалиться.
Я наделся, что ссора заставит их утром покинуть хижину и отправиться в путь.
Но они не ушли.
Глава 3. Философ и Сенатор. День третий
Декабрь 82 года до н. э.
К утру мои гости успели помириться. К тому же Философ, этакий проныра, сумел прогуляться до нашего курятника, и пока две рабыни чесали языками вместо того чтобы собирать те немногочисленные яйца, что несли наши курицы зимой, вытащил четыре штуки из гнезд и принес в хижину. Так что к моему появлению завтрак был окончен, а ничто так не сближает людей, как совместная трапеза. Мои гости мирно болтали друг с другом, когда я появился в хижине. Философ жестом пригласил меня присоединиться к беседе и даже налил мне горячей воды с вином.
– Нынешнее обиталище располагает к безделью, – сообщил Философ, растягиваясь на жалком ложе и кутаясь в пушистое одеяло. – Никаких замыслов и планов, одно бесконечное ожидание, когда судьба переменится. Или Сулла исчезнет. Чтоб его вытащили за ноги!
– Ты не находишь что это рабское состояния – ожидать чужого решения, от которого зависит твоя жизнь?
– А разве вы не сами отказались от другой жизни? – взвился Философ. – Разве не осталась вам только рабская доля? О чем вы мечтаете? Я отвечу: о сытой рабской судьбе. Почему римляне так ненавидели карфагенян и решили уничтожить их город и их государство, стереть с лица земли в смысле самом прямом? Да потому что карфагеняне были бунтарями. Это у них в крови. Чуть что, они могли убить суффета[35] или полководца, или растерзать послов, которых заподозрили в измене.
– Что в этом хорошего? – огрызнулся Сенатор.
– Да потому что если не умеешь бунтовать, то превратишься в раба, на шее которого господин все туже и туже затягивает петлю.
– А что хорошего в бунте и убийствах? – спросил я, потому что Сенатор только хмурился и не спешил отражать атаку Философа.
– Ничего хорошего, – согласился тот, – вот только в бунте виноват на три четверти властитель и только на одну четверть – сам бунтовщик.
– Думаю, что Тиберия и Гая Гракхов убили, потому что в них дышал гений бунта, – заявил вдруг Сенатор. – Действуй они осторожнее, они бы добились большего, и никто бы не погиб.
– Действуй они осторожней, они бы не добились ничего, – не желал уступать Философ. – И в них жил не гений бунта, а дух их великого деда Сципиона Африканского, переданный им матерью.
– Я помню Корнелию, видел ее несколько раз на улице, – Сенатор вздохнул. – Она шествовала как царица, хотя на ней была обычная стола[36], а легкую паллу[37] она накинула на голову. Разве что на шее было удивительное ожерелье из гранатов и жемчужин, оправленных в золото. Как будто капли крови и капли слез несла она на груди. Уверен, именно она внушила сыновьям мысли том, что они должны добиться такой славы, которая затмит славу их деда и приемного двоюродного брата. А поскольку во всей Ойкумене не было больше противника, способного сравниться с Ганнибалом, то оставалось одно поприще – а именно сражение на Форуме.
– Ты слишком все упрощаешь. Но, несомненно, мать Гракхов сыграла в жизни братьев особую роль, и, конечно же, свой рассказ я должен был начать именно с нее.
– Ну да, как говорится, от яйца…
Рассказ Философа о Корнелии, матери ГракховКорнелия, младшая дочь Сципиона Африканского, была удивительнейшей женщиной. Хотя теперь к ее имени, будто репьи к одежде, прицепились дурацкие выдумки. Внешне она была похожа на отца, но при этом ничего грубого мужского в чертах ее не проступало – так они были тонки и изящны. Да вы и сами можете судить о ее внешности – ведь на Форуме установлена ее бронзовая статуя, изваянная греческим мастером. Она дает представление об удивительной красоте этой женщины, хотя мать Гракхов изображена в простой одежде без украшений, сидящей в кресле. Изящные ее стопы в греческих сандалиях из тончайших ремешков кажутся почти детскими. Друзья Сципиона Африканского, знавшие его в юности, говорили, что дочь удивительно напоминает их старого друга в шестнадцать или семнадцать лет, когда Сципион был известным на весь Рим щеголем и носил черные кудри до плеч.
Если бы довелось Корнелии Младшей родиться мужчиной, сделалась бы она знаменитейшим полководцем, и занимала бы самые высшие магистратуры. Но это в племенах диких у необузданных варваров женщина может сделаться царицей, а в Риме удел самой блестящей и умной матроны – это семья, супруг и дети. Супруг Корнелии был старше ее чуть ли не на тридцать лет, но разницы этой она как будто не замечала.
На другой год после свадьбы Тиберий Семпроний Гракх, избранный цензором[38], выкупил на средства казны дом Сципиона Африканского, а также несколько уродливых ветхих лавок подле, прозывавшихся в народе старыми лавками. Дом победителя Ганнибала пришел в негодность и вдова Сципиона там больше не жила. После случайного пожара он несколько лет стоял без крыши, и годился только на снос. Семпроний, приказал расчистить выбранное место, чтобы построить здесь базилику[39] и перед нею – галерею для лавок, которые по-прежнему называют старыми, тогда как лавки перед Фульвиевой базиликой – новыми. Базилика Семпрония была выстроена из туфа, а затем оштукатурена, пол набрали из полированного тибурского камня[40], желтоватого с едва заметными полосками. Крышу покрыли черепицей. Получились новая базилика куда больше и наряднее, чем Порциева, построенная Катоном Цензором за пятнадцать лет до этого. Новую базилику стали тут же именовать Семпрониевой, чем Корнелия очень гордилась. Приходя на Форум, она непременно заходила внутрь полюбоваться постройкой мужа.
Брак Корнелии и Тиберия был на редкость счастливым, несмотря на то, что поначалу родились у них три девочки, и лишь потом судьба подарила сыновей. Всего детей было двенадцать, но лишь трое дожили до взрослых лет, остальные умирали почти сразу после рождения. С мужем они всегда были как одно целое. Когда на пиру, уже совершенно седой, Тиберий возлежал на ложе, она по древнему обычаю, который сейчас уже не все соблюдают, сидела рядом на стуле и всегда брала в свои маленькие ладони его крупную руку воина, даже почти в семьдесят лет не утратившую своей силы.
Однажды поутру Тиберий сказал ей:
– Твоему муженьку очень плохо, моя младшенькая. Думаю, не доживу до следующих календ[41].
Она днями сидела около его постели, ночами лежала рядом, гладила руки, целовала в щеку. Шептала по утрам день за днем:
– «И день, и ночь люби меня, тоскуй по мне,
Мной грезя, думай обо мне и жди меня,
Мной радуйся, надейся на меня, со мной
Вся будь, отдай мне душу так, как я тебе»[42].
– «…Отдай мне душу так, как я тебе», – повторял Тиберий едва слышно.
Ей казалось, что его душа сцепилась с ее душой, и держится, не желая отлетать от тела, полощется под яростным напором болезни, как выстиранная тога на ветру.
В тот раз она удержала его, Кронос со своим почерневшим от крови серпом отступил. Во второй раз не сумела, не была рядом, Тиберий не позвал ее. Верно, понимал, что смерть уже пришла, стоит у ложа, и вышел на поединок с Кроносом один на один, как и положено воину.
Тиберий ушел.
Корнелия бродила по комнатам, прижимала руки к груди и шептала:
– «Мной грезя, думай обо мне и жди меня…»
Ей казалось, что где-то в неведомом краю, под ярким небом над синим озером, где виноград оплетает беломраморные аркады на берегу, Тиберий ее ждет. И когда-нибудь – рано или поздно – дождется. Она будет юной, как в день их свадьбы, он – молодым, как в тот день, когда она увидела его в усадьбе отца.