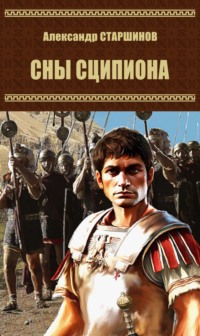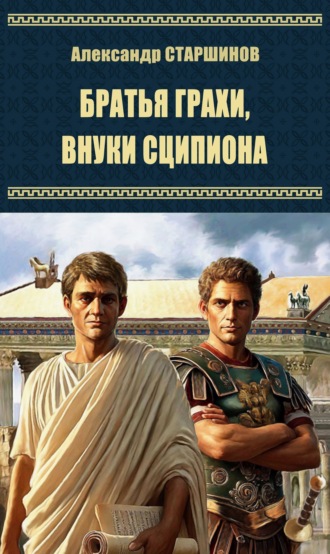
Полная версия
Братья Гракхи, внуки Сципиона
После гибели брата отец приказал мне жить в нашем старом доме и не казать нос в столицу. Все вокруг не устоялось, как молодое вино осенью, и отец боялся что-либо предпринять. Мое пребывание в поместье походило на ссылку, но я был готов принять ее как наказание за неведомую вину – не спас брата, не уберег. Не мог уберечь. Но не мочь что-то сделать – тоже вина. Дом сделался скучен: мои ровесники, сыновья Коры, теперь жили в ближайшем городке, помогая в гончарной мастерской нашего вольноотпущенника. За мной, как и за всем поместьем, должен был наблюдать двоюродный дядюшка отца Маний, дряхлый старик, который давно уже не выходил из дома, а если и выбирался из своей комнаты, то разве что в наш маленький перистиль посидеть на скамье. Даже в триклиний он не выходил на обед, еду носили ему в комнату. Надо понимать, что при таком пригляде всем распоряжался вилик, вообразивший себя царьком нашего захудалого царства. Зимние дни, пока было светло, я проводил в нашей библиотеке, читал или смазывал свитки и футляры кедрецом, чтобы их не уничтожали насекомые.
Тем временем события в Риме разворачивались кровавые: сам Марий назначил себя консулом в седьмой раз, но вскоре умер[11]. Цинна вместе Серторием перебили бывших рабов из охраны Мария. Однако порядок после этого не воцарился. Даже убийство Цинны не прекратило хаос. Сенат пытался договориться с Суллой, но ничего не добился. Вражда между последователями покойного Мария и клиентами нынешнего диктора Суллы грозила смертью любому, кто окажется на пути озлобленных и яростных сторонников кого-то из них. Сулла тем временем пребывал на войне, и сила его армии лишь возрастала. Весной этого года пришло сообщение, что Сулла с войском высадился в южной Италии. Беспечный, я бегал смотреть, как движутся железные легионы по дороге. Пять легионов! Шесть тысяч конницы. Вид этой армии, разбившей воинство Митридата и утопившей в крови Афины, должен был внушать трепет каждому при одном взгляде на позолоченные орлы легионов и блеск весеннего солнца на кольчугах и шлемах. Я был слишком юн, чтобы оказаться призванным в армию, а наше поместье лежало вдали от мест яростных сражений. В нашем городке после убийства моего брата мы числились в сторонниках Суллы, и теперь, казалось, беда должна была обойти наш дом стороной. С глупой беспечностью я чувствовал себя в безопасности. О бедствиях и кровавых схватках из Рима доходили лишь неясные слухи. Победу в сражении у Коллинских ворот[12] Фортуна отдала Сулле. Так Вечный город оказался в руках назначенного вопреки всем законам диктатора. В отличие от прежних лет, когда диктатура не могла длиться долее шести месяцев, срок его власти не был никак ограничен, а полномочия оказались по сути царскими. Сулла стал волен миловать и убивать любого. Сто двадцать лет в Риме не назначали диктатора, и вот он явился – самозваный и обуянный жаждой безмерной власти. Более всего на свете римские граждане боялись, что Рим снова окажется во власти царей, а теперь один человек решал по своей прихоти, жить или умереть римскому гражданину. Говорят, никто в Риме не посмел возвысить голос против ужасов, которые он творил. Лишь один мальчик возмутился, когда увидел, как из дома Суллы выносят головы людей, которых там пытали, а затем убили. «Почему никто не убьет хозяина дома!?» – воскликнул мальчик. На что получил ответ от своего учителя: «Его боятся больше, чем ненавидят». «Почему тогда ты не дал мне меч – я бы его убил и избавил отечество от рабства!»[13] Но мальчик был слишком мал, чтобы осуществить задуманное, и никто ему, разумеется, меча не дал. А отрубленные головы продолжали прибивать к Рострам[14].
Мой отец пока что выжидал, что будет дальше, избегая любого участия в делах государства, что для знатной семьи в прошлые годы было делом немыслимым и весьма обидным, но теперь все чаще и чаще молодые наследники не шли служить в армию и не искали должностей. Отец присылал мне с письмоносцем таблички с предостережениями и указаниями, как себя вести. В случае опасности, что письмо перехватят, наш человек должен был сломать печати и стереть написанное на воске. Сам отец выходил из дома лишь для того, чтобы навестить своих друзей сулланцев и заверить их в преданности диктатору. В каждом городе Италии составляли списки на убийства, и попасть в этот список мог любой, лишь бы кто-то из сулланцев соблазнился его богатством или красотой имения. Иногда я с ужасом вспоминал, как прекрасна вилла отца близ озера Ларий. И если кто-то позарится на новенький дом и окружающий его сад, то наша семья потеряет все – все земли, все деньги, все дома, а, главное, – жизни. Смерть моего брата от рук людей Мария не могла пересилить жажду обогащения в сердцах приспешников диктатора Суллы. Ходили слухи, что в списки включали даже известных сулланцев, лишь бы добыча оказалась достаточно жирной. Услышав подобный рассказ (переданный одним из близнецов Коры шепотом) я начинал мысленно возмущаться трусостью и покорностью проскрибированных. Но это были даже не слова, а лишь мысли. Открыто обнаружить свои чувства я не решался. И хотя после гибели брата я никак не мог зачислить себя в сторонники Мария, Суллу я искренне возненавидел, видя в нем могильщика Республики. К тому же я мечтал о карьере юриста, хотел выступать в судах, защищать подозреваемых от несправедливых приговоров. А какие суды могут быть в эпоху проскрипций?
* * *Итак, я устроил своих гостей в заброшенной хижине, запретил им выходить из дома и разводить огонь, приказал дожидаться, пока я принесу теплые вещи и обед.
Однако когда ближе к вечеру я вернулся, нагруженный, будто верблюд, одеялами, мисками, и завернутым в кусок овчины горшком с кашей, то обнаружил, что мои гости нарушили обозначенные запреты: они развели огонь в уличном очаге, вскипятили себе воды в котелке из кладовки и насыпали углей на жаровню. В доме сделалось тепло, но обитатели хижины забыли даже прикрыть ставни, и свет жаровни внутри можно было заметить со стороны тропинки, что тянулась вдоль убранного поля.
При виде такой беспечности я бросил принесенные вещи на пол и едва не разбил несчастный горшок с кашей. К счастью, овчина сберегла обед моих строптивых гостей.
– Если вас найдут, – воскликнул я в отчаянии, – меня казнят. А, может быть, и вилика казнят. И моего отца!
– Никто нас здесь не найдет, – беззаботно бросил Философ и принялся разбирать принесенные мною дары. – Разве что прибегут, заслышав издалека твои отчаянные крики. Решат, что тебя подловили разбойники и вот-вот зарежут.
Одно из одеял он передал Сенатору, второе оставил себе. Обнаружив среди вещей флягу с вином, старый плут сразу повеселел.
– Как видишь, мы не зря вскипятили воду – сейчас разбавим твоей амброзией нашу пустую водицу, и мир опять сделается почти правильным.
– А если рабы приметят непорядок?
– Полевые работы закончились – декабрь на дворе. Охота твоим бездельникам шляться по полям, наверняка встают поздно, сидят на конюшне или на кухне. Прикажи вилику выдать им кувшин вина вечером, и никто из них вообще не отойдет от усадьбы ни на шаг.
Я не стал с ним спорить, но на всякий случай закрыл ставни на окнах, да еще проверил, не виден ли снаружи свет. Ставни сходились неплотно. К счастью, слабое мерцание углей в жаровне при закрытых ставнях невозможно было разглядеть уже с десяти шагов. Мы разложили кашу по мискам, добавили вина в чаши, уже наполненные горячей водой. Сам я не успел поесть в усадьбе, так торопился к моим новым знакомцам, так что присоединился к трапезе.
– Кто мог подумать, что я, владелец роскошного дома в Риме, стану жалким беглецом! И буду сидеть в старой хижине, питаясь милостями незнакомого человека, – вздохнул Сенатор.
– Все закономерно, – отозвался Философ. – Гай Марий, сбежав из Рима, сидел на развалинах Карфагена и взирал на учиненные нами разрушения. А потом он вернулся в Рим и стал убивать тех, кто ему не по душе. А когда старик Марий помер, его последователи не прекратили убийства. Теперь убивает Сулла. Стоит Сенатору задать себе простой вопросик, отчего такого не бывало прежде, но сделалось обыденным ныне?
– Ты же знаешь ответ, – огрызнулся Сенатор.
Наверняка прежде самый скромный обед в его доме состоял не меньше, чем из двенадцати перемен. На стол подавали шампиньоны, устриц и камбалу. Стеклянные и серебряные кубки наполняли только сорокалетним вином. Рабы толпились за обеденными ложами, одни читали стихи, другие разбрасывали розовые лепестки или обтирали руки гостей смоченными в душистой воде салфетками. Музыкантши играли на флейтах и кифарах. Возможно, он даже держал в доме личного поэта, который слагал стихи в его честь и исполнял их под звуки флейты, пока гости обсасывали поросячьи ребрышки.
– Не знаю, ничего не знаю, – хмыкнул Философ.
– Знаешь! Всему виной безумства Гракхов. Они начали расшатывать основание старинного здания, чтобы обрушить Республику. Им это удалось!
– А может быть, тому виной безумства аристократов, которые убили сначала народного трибуна Тиберия, жизнь которого неприкосновенна, а потом спустя одиннадцать лет убили и Гая Гракха?
– Свинья учит Минерву! – разозлился Сенатор. – Тиберий Гракх нарушил закон, и он виноват!
Я не сомневался, что Сенатор принадлежал к оптиматам, но сам он в силу возраста не мог быть среди тех, кто расправился с мятежными народными трибунами. А теперь он познал на своей шкуре, что такое кровавая бессудная казнь на улицах Города, но все равно утверждал правоту убийц.
Как ни странно, Философ не вскипел в ответ на обидные слова, а продолжил свои рассуждения как ни в чем ни бывало.
– Виноват был не Тиберий, а те покорные глупцы, что решили, будто отстаивать свои права – трудное дело, – принялся поучать седой бродяга, будто мы с Сенатором стали его учениками в новой философской школе. – Наши предки основали государство, где каждый и все вместе стояли за свой Город и за свою землю, и за свои права. А вот нынешние плебеи считают, что это непосильное дело – отвечать за свою жизнь самому. Куда проще искать покровителей из нобилей и выпрашивать у них подачки. Но нобилям нет дела до бедняков, у них свои, нобильские дела, свои склоки, свои интересы. Они вспоминают о бедняках, когда надо оправлять кого-то на войну, и пора записывать вояк в легионы. Недаром ценз для легионера снижался год от года, а ныне и вовсе исчез, можно брать любого нищего, лишь бы являлся римским гражданином и не был калекой.
– Ты всех ненавидишь, – заметил Сенатор. – И претендуешь на то, что говоришь непреложные истины. Верно, ты прельстился славой пифагорейцев и решил поучать неразумных. Так вот, я разумен, и о Гракхах у меня есть мнение.
В комнатке сделалось почти тепло, Сенатор снял тогу и, оставшись в тунике с пурпурной полосой, закутался в одно из принесенных мною одеял. Он возлежал на деревянной кровати, держа в руке глиняную чашку с вином, будто находился в богатом триклинии и предавался возлияниям после обильной трапезы.
– Злоба таится в каждом. И даже в богах. Поэтому они не правят миром, а наблюдают, как мы изничтожаем друг друга, находя в этом особое удовольствие, – отозвался Философ. – Только сейчас злобы сделались слишком много, она затмила добрые чувства.
– Забудь, Философ, рассказы, что надобно обмениваться благодеяниями друг с другом. Теперь люди гордятся лишь тем, как ловко тебя обворовали, и со смехом рассказывают об этом тебе в лицо.
– В этом тоже виноваты братья Гракхи?
– Разве я это сказал? Братья лишь начали это дело. Они пошатнули основы Республики. А крушить древнее здание потом принялись все кому не лень.
– Наоборот, братья хотели сцементировать фундамент Республики, а не разрушить его.
– Ты так рьяно защищаешь Гракхов, что я уже начинаю думать, не был ли ты одним из сторонников младшего брата. По возрасту ты – ровесник Гая Гракха, и даже мог сражаться вместе с ним при осаде Нуманции, – заметил Сенатор. – Но я сомневаюсь, что ты в прошлом воевал.
– Я мог быть самим Гаем Гракхом, – с усмешкой заметил Философ.
– О чем ты? – не понял Сенатор.
– Как много людей видели младшего Гракха мертвым? Десяток человек от силы – его труп был закутан в грязную изорванную тогу, все лицо его было в крови от удара, что рассек ему череп. Кольцо, браслет, кальцеи, возможно, и были его… Тело меняется, когда жизнь его покидает. Его труп, измазанный в крови и грязи, волокли по улицам Города. Даже супруга его Лициния, делившая с ним ложе много лет, не смогла бы его узнать. К тому же ему отрубили голову… Сложно узнать человека, если у него нет головы.
– Постой! Вот именно! Как же быть с головой Гая? Ведь некто Септумулей надел отрубленную голову Гая на копье и принес консулу Опимию, дабы получить в награду столько золота, сколько весит голова, – напомнил окончание кровавой истории Сенатор.
Философ зло рассмеялся.
– А еще этот Септумулей вытащил из головы мозг и залил череп расплавленным свинцом, потому как Опимий обещал выдать в награду столько золота, сколько потянет голова младшего Гракха. Клянусь Геркулесом, после такой процедуры никто бы не смог опознать лицо несчастного Гая.
– Но если он остался жив после мятежа, почему не искал встречи с Лицинией и своими детьми? – изумился я.
– Зачем? Чтобы сделать их более несчастными? И так вдову Гая лишили всего. До конца дней ей придется жить из милости в доме брата вместе с детьми.
Я слушал его совершенно ошеломленный. Мысль, что Гай Гракх избег смерти, казалась мне невероятно соблазнительной. Я не верил в побасенку Философа, но восхищался ею. Я даже позабыл, какой опасности подвергаю себя, давая приют беглецам. Красноватые отсветы гаснущих углей в жаровне освещали внутренность хижины, слабыми абрисами очерчивая контуры лиц, завитки волос, отражаясь в зрачках. В полутьме было незаметно, что одежда моих собеседников грязна, волосы спутаны и не стрижены. То ли заговорщики, то ли основатели нового здания Республики склонялись друг к другу, дабы лучше слышать жаркий и опасный шепот.
– Принеси завтра нам светильник, да копченую свиную ногу. – Философ вел себя в моем домишке как хозяин. – Каша хороша не каждый день, правда, Сенатор?
– Копченые колбаски на вертеле тоже не помешают, – кивнул тот.
Аристократ как будто посчитал меня одним из своих вольноотпущенников, что должны были смотреть за его домом. В этот миг я пожалел, что дал приют беглецам. Выгнать наглецов? Но как? Без скандала уже невозможно. А скандал повлек бы за собой множество бедствий. Так что я промолчал, дав себе слово более не ходить на дорогу с дарами и никого не пускать в поместье, когда эти двое наконец уберутся отсюда восвояси. Отец любил повторять, что доброта к незнакомцам влечет за собою беды, благодеяния стоит оказывать только знакомым и только в ответ на принесенные дары. Но ведь кто-то должен принести дар первым?
– Да ты не бойся, Марк, вечером мы закроем и дверь, и ставни, и никто не увидит, что в доме горит светильник, – заверил меня Философ, подливая себе в бокал еще вина.
– Зачем вам светильник? – спросил я. – Днем будет достаточно светло и можно приоткрыть ставни на окне, что выходит на старую каменную ограду.
– Узнаешь зачем. И не забудь масло для заправки. А то без масла светильник не горит.
Я пообещал принести на другой день всё, что они просили, сразу после завтрака.
Выйдя из хижины и миновав черное поле под паром, я остановился, чтобы произнести несколько обетов. Я обратился с молитвой к богам. Я просил, чтобы утром, когда я принесу в хижину хлеб и светильник, этих двоих там уже не было, чтобы смертельная опасность миновала.
Но они не ушли.
Глава 2. Философ и Сенатор. День второй
Декабрь 82 года до н. э.
В нашем атрии уже шесть лет стоял бюст Гая Гракха. Украшал его пышный венок из порыжевших от времени лавровых листьев, и стоял он так, что посетитель мог видеть только бронзовый профиль. Рядом с бюстом имелась глиняная табличка, на которой было процарапано, что это мой прадед Гай, получивший должность квестора еще во времена Сципиона Африканского. В профиль бронзовый Гай имел изрядное сходство с моим отцом и со мною, так что никто не сомневался, что столь высокое достижение нашего рода было запечатлено в бронзе. В нашем роду не было предков консулов или преторов, так что квестура стоила упоминания на табличках.
История появления бронзового Гая Гракха была запутанной и таила в себе много загадок. Бюст этот был отлит в бронзе и установлен на подставке из серого полированного мрамора. Сделан он был чрезвычайно искусно, завитки волос лежали в легком беспорядке, – оратор только что слегка взвихрил их нетерпеливым жестом руки. Голова была резко повернута, бронзовый Гай по своему обычаю, стоя на Рострах, поворачивался спиной к Гостилиевой курии, где заседал Сенат, и обращался к гражданам, что затопили пространство у его ног. У бронзового Гая, как у бога Януса, было два лика – одно лицо аристократа, это если смотреть в профиль: прямой с небольшой горбинкой нос, красиво очерченный рот, твердый, но не массивный подбородок. Но если взглянуть в лицо прямо, то проступали черты плебея – нос был довольно широкий, брови нахмурены, взгляд исподлобья. Серебряные глаза с агатовыми зрачками смотрели дерзко и гневно.
История этого бюста была такова. Принадлежал он прежде моему деду по матери Квинту. Квинт, младший сын в семье, о делах своей юности никогда и никому не рассказывал. Известно было только, что довелось ему долго служить в армии всадником, и пошел он на службу не в самом раннем возрасте, когда у гражданина начинается призывной возраст, а куда старше. Служил он десять лет, но не получил каких-то значительных должностей и званий. Так случилось, что два его старших брата умерли бездетными, а сестра вышла замуж, но рано овдовела и вернулась под отчий кров и под опеку брата. В итоге все богатство семьи сосредоточилось в руках деда, в том числе стал он владельцем обширного поместья. К тому же дядя его, бездетный холостяк, оставил Квинту приличное состояние, нажитое торговлей оливковым маслом. Квинт, уйдя из армии, женился, родилось у него двое детей – первой моя матушка, за которой он дал приличное приданое. Благодаря деньгам деда отец приобрел поместье на озере Ларий. Главным наследником деда являлся его единственный оставшийся в живых сын, который тоже носил личное имя Квинт. Этот младший Квинт был человеком чрезвычайно расчетливым, осторожным до болезненности и скуповатым. Но к отцу своему относился с большим почтением, и волю его по завещанию выполнил, несмотря на то, что мой дед многим рабам определил по завещанию свободу. Умирая, хозяин не только избавил преданных слуг от личного рабства, но к тому же каждому вольноотпущеннику отписал небольшую сумму денег на обзаведение хозяйством. Я в те дни гостил у него в поместье – мой отец, заслышав о болезни тестя, намеренно отправил меня к умирающему, дабы дед не забыл о внуках и мне, младшему в семье, оставил приличную сумму. Дед мой уже дней за двенадцать или пятнадцать до своего ухода за Ахерон понял, что умирает, и потому тщательно приготовился к предстоящему. Смерти старик не боялся. Причем не то что бы делал вид, а в самом деле относился к ней как важному последнему делу. На теле его было немало ран – я видел два следа на правой руке на четыре пальца выше локтя – вражеская стрела пробила его руку насквозь. Я спросил деда, в каком сражении он получил эту рану, едва не лишившую его десницы, и дед ответил, что это след критской стрелы, но более ничего не говорить о том случае не стал, хотя я ожидал захватывающего рассказа о кровавом сражении.
– Зачем мне думать о посмертии? – сказал он как-то во время нашей с ним беседы. – Какое имеет значение, что ждет нас после смерти? С утратой тела я потеряю способность чувствовать, а кто не чувствует, тому ни до чего нет дела. Нет дела, что я ныне дурно пахну и что глаза мои плохо видят.
Он поморщился – в комнате стоял тяжелый запах. Несмотря на то, что тело больного постоянно обмывали губкой с уксусом, а самого его чуть ли не каждый день погружали в ванну. Старик в свои последние дни ничего не мог есть, и только иногда пил немного воды.
– Но говорят, что души, покинув тело, возносятся на небо, – я попытался поддержать разговор.
– На небо? И что на небе делать душам, скажи мне, друг мой?
– Летать и наблюдать за землей, – отвечал я, философ двенадцати лет.
– Скучное занятие, мне бы надоело дней через пять. – Дед немного подумал. – Нет, пожалуй, я бы не прочь был полетать пару месяцев, а, может, даже и год. Земель много, повсюду удивительные красоты – бурные моря, синие реки, водопады, озера, скалы целиком из мрамора, сверкающие на солнце. Громады гор со снежными вершинами… Шар земной велик, а мы видели столь немногое… Ты слышал, что есть люди в Греции, которые считают, будто Земля наша – огромный шар.
Я отрицательно покачал головой.
– Да, пожалуй, посмотреть на такой шар с высоты было бы интересно…
Я не представлял, как это Земля наша может быть шаром, но промолчал.
Каждый день умирающий приписывал какой-нибудь очередной легат – то есть дополнение к завещанию, – если вспоминал, что хотел оставить старому другу свои книги, а дальнему родственнику подарить сотню сестерциев. При этом он постоянно расспрашивал секретаря, хватает ли у него средств, чтобы сделать дополнение. Денег хватало, но после каждой такой приписки младший Квинт мучительно сдвигал брови, и что-то высчитывал, делая записи на своих восковых табличках.
Матушка моя умерла, когда мне едва исполнилось пять лет, и я почти ее не помнил, разве что два-три видения, которые год от года становились все призрачнее, и скорее напоминали фреску в атрии, нежели образ живого человека. Запомнилась она мне особенно ясно одним летним утром в перистиле нашего городского дома, когда вышла поглядеть, не распустились ли ее любимые розы. Она была в длинной белой тунике, сад еще окутывала тень, и только на фронтоне и на лепных капителях колонн, окружавших перистиль, ярко горели лучи. Отсвет этих лучей впитался в ее белую тунику, в золотистые волосы, и даже в кожу плеч и рук, отчего казалось, что вся она светится.
Я полагал, что дед Квинт захочет поговорить со мной о покойной дочери, и повторил вслух два или три раза краткий свой рассказ о розах в перистиле, но дед старательно избегал этой темы. Расспрашивал он меня об учебе, хорошо ли я знаю греческий и бегло ли умею читать на латыни. Получив утвердительные ответы, он попросил раба-либрария принести из библиотеки несколько свитков. Судя по потрепанности футляров, это были его любимые сочинения. Когда я извлек первый свиток, то выяснилось, что папирус, накрученный на скалку из слоновой кости, весь истрепан и в нескольких местах между столбцами готов был вот-вот разорваться. Библиотекарь подклеил ветхий свиток лоскутами папируса, порой весьма значительными, отчего книга приобрела еще более жалкий и истрепанный вид.
– Это речи Гая Гракха, – сказал дед, касаясь серыми прозрачными пальцами потрепанного кожаного футляра, выкрашенного в красный цвет. – Гай был лучшим оратором в Риме. Когда он выходил на Ростры и скидывал с плеча тогу, чтобы ткань не мешала ему жестикулировать, толпа у его ног ревела от восторга. Говорил он так страстно, что даже суровых ветеранов мог довести до слез. Яростный он был человек и бесстрашный. Порой он так увлекался, что сам терял голову от своих речей, и начинал кричать, что делать оратору не пристало. Тогда раб за его спиной доставал из складок плаща флейту и брал такой тихий и нежный звук, который тут же успокаивал Гая. Если ты хочешь сделаться хорошим оратором, то тебе надлежит тщательно изучить все сказанное Гракхом. Я отписал тебе в завещании этот свиток.
«И только-то!» – едва не воскликнул я разочарованно, но вовремя прикусил губу, чтобы умирающий не прочел ненадлежащие мысли на моем лице.
– Никто не умел как он, заглянуть вглубь вопроса и в одной речи раскрыть всю суть выставляемого на голосование законопроекта.
– Ты видел Гая на Рострах. Слышал, как он говорил? – задал я неосторожный вопрос.
Дед не ответил, лишь плотно сжал губы, как будто запирал в глотке готовые вырваться наружу слова. Потом попросил:
– Прочти мне что-нибудь из этого свитка. Но не с начала, а там, где папирус подклеен сразу двумя лоскутами, там мое любимое место… – попросил дед.
* * *После его смерти, когда вскрыли завещание, выяснилось, что он оставил мне не только эти свитки, но еще десять тысяч сестерциев в золотых монетах – сумму весьма небольшую из тех денег, что были расписаны согласно его последней воле. Кроме золота, он завещал мне свою гнедую кобылу-пятилетку вместе с упряжью, а также кусок отличной шерсти на тогу для моего совершеннолетия. Такая ткань стоила не менее шестидесяти сестерциев, а то и всю сотню. Сыну своему Квинту умерший оставлял поместье, миллион в различных векселях и золотой монетой, а еще – бюст Гая Гракха. При этом в завещании было оговорено, что наследник не имеет права переплавить бюст или как-то иначе его уничтожить.