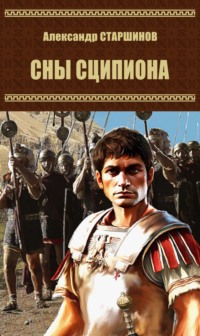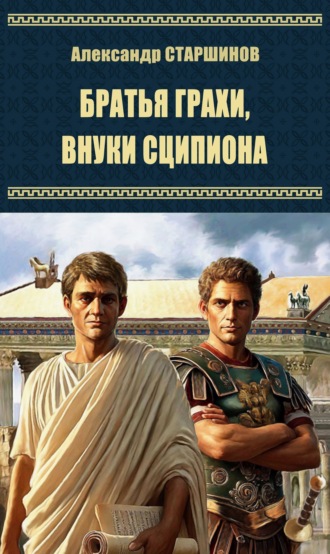
Полная версия
Братья Гракхи, внуки Сципиона
На другой день после похорон деда и свершения всех обрядов я собирался покинуть поместье. Попрыгунья – так дед нарек гнедую кобылку – была уже взнуздана и покрыта новенькой дорогой попоной. Свитки в футлярах уложены в дорожную сумку, а раб Персей, сопровождавший меня в пути, набил мешки провизией в дорогу. Внезапно молодой наследник вызвал меня в таблиний. На столе разложены были папирусные свитки, лежали восковые таблички – наследнику не терпелось заняться делами поместья. Тут же на столе стоял бюст Гракха. Бронзовый оратор и бунтарь при этом отвернулся от нового хозяина и смотрел на выкрашенную охрой стену как раз между двух нарисованных желтым пилястр. Квинт Младший погладил бронзового Гая по волосам, потом откашлялся и сказал, глядя, как и Гай, мимо меня в стену:
– Мне бы хотелось сделать тебе подарок, дорогой племянник. Я слышал, как ты зачитывал моему возлюбленному отцу речи Гая Гракха… Потому… – Он снова откашлялся. – Потому я считаю, что по праву этот бюст должен принадлежать тебе.
Он поднял бронзовую голову Гая и протянул мне, держа подарок на вытянутых руках. Я принял его и едва не уронил, так он был тяжел.
Уже когда мы выехали за ворота поместья, Персей, видевший, как я загружал бронзовый бюст в сумку, прежде укутав его соломой, насмешливо фыркнул:
– Струсил хозяин-то… забоялся в атрии держать голову бунтаря.
Персея мой отец купил еще мальчишкой, со страшными следами плетей на спине, так что про страх этот раб понимал куда больше моего. Я не стал с ним спорить и просто запомнил его слова.
С тех пор бюст Гая Гракха помещался у нас в атрии, но осторожный Персей сделал для него фальшивую табличку.
* * *Воспоминания эти прихлынули еще вечером, после разговора о смерти народного трибуна.
На другое утро, прихватив для моих опасных гостей все необходимое, я загрузил в кожаный мешок бюст Гая, оставив на полке лишь его казавшийся бронзовым лавровый венок, и направился к хижине. День выдался теплый. С утра лежал густой белый туман, из которого, как из стоячей воды, выглядывали черные остовы деревьев. На большой грядке цвел осенний шафран[15], его бледно-фиолетовые лепестки и солнечно-золотые сердцевинки Кора докладывала в соус к тушеному мясу. Остановившись по дороге около межевой гермы, я попросил венчавшего каменный столб двуликого Януса, чтобы мои гости как можно скорее отправились в путь. Лик Януса оставались бесстрастными, лишь на кончике длинного носа Януса-старика повисла дождевая капля, отчего казалось, что мраморный старик болен. Вскоре я выяснил, что Янус меня не услышал, потому как гости все еще обитали в заброшенной хижине. Когда я подошел, ставенки были открыты, и Философ бессовестно жег сухие ветви в очаге на улице, сигнализируя о своем присутствии струйкой лилового дыма. Вода в котелке булькала, закипая.
– Не бойся, в тумане никто не заметит наш скромный дымок, клянусь Геркулесом! – успокоил меня наглец.
Я хотел выговорить ему в который раз за неосторожность, но понял, что мои увещевания окажутся бесполезны, такой это человек, беспечного и лихого нрава. Для себя я решил, что в случае чего совру вилику, будто решил сам подремонтировать старую хижину, чтобы иметь летом место для уединения, избавиться от суеты и гомона большого дома. Надо будет прихватить сюда кое-какой инструмент и доски, – решил про себя, чтобы сделать обман совсем уж правдоподобным.
Приготовив казавшийся мне вполне удачным путь к отступлению, я прошел в дом, и принялся выкладывать принесенные дары на стол – первым делом достал лампу и глиняную бутыль с маслом, потом разложил запеченные в золе яйца, хлеб и два куска сыра, извлек флягу с вином. Вслед за мной в хижину явился Философ с кастрюлькой на длинной ручке, в которой вскипятил воду.
– Верно, ты опасаешься, что мы можем навлечь на тебя опасность, наш юный друг, – вздохнул Сенатор. – В юности люди обычно добры сердцем, смелы и щедры. К примеру, я знал Суллу в молодости, он был человеком веселым, смешливым и даже жалостливым, случалось мне видеть слезы у него на глазах. Но власть сделала его не просто жестоким – а изощренно жестоким, теперь его забавляет сама возможность распоряжаться чужими жизнями. Он включал три дня подряд в проскрипционные списки подлежащих казней, три дня переводя своих противников из списка граждан Рима в свои списки мертвых. А потом объявил с усмешечкой: якобы он сейчас переписал всех, кого мог вспомнить, а тех, чьи имена он запамятовал, он внесет в список в другой раз. Я видел, как расправились с Марком Гратидианом. Его буквально разрезали живого на части, а затем вырвали несчастному глаза. – Сенатор оскалился: – Моего племянника зарезали на глазах его матери, когда несчастная предлагала убийцам свои драгоценности. Ожерелье они тоже забрали… Убийца проскрибированного, принеся голову в доказательство расправы, получал два таланта[16] серебра, а раб – свободу. Доносчикам тоже полагались подарки.
– Слышал я, что в списки попал Гай Цезарь из патрицианского рода Юлиев, еще почти ребенок. – Философ разлил по глиняным чашам горячую воду и вино.
– Да, это правда. За юношу вступились женщины из его родни, просили чуть ли не каждый день, но Сулла ни за что хотел уступать…
– Так Цезаря убили или нет?
– Точно не знаю. Но, кажется, он спасся. Его спрятали клиенты. Но пока мальчишку перевозили из одного дома в другой, он заболел в дороге.
– Скорее, он притворялся больным, а рабы, что тащили закрытую лектику, кричали, что там больной в лихорадке, чтобы никто не заглянул внутрь носилок, опасаясь заразы.
– Может, и так. Всякий спасается в наши дни, как может. Одни теряют всё, даже жизни, другие богатеют на распродажах награбленного добра. Карбон хвастался, что получил роскошное поместья самого Гая Мария в Байях[17] за бесценок.
Как раз в этот момент я извлек из мешка голову Гая Гракха.
– Кто это? – поинтересовался Сенатор, поворачивая бронзовый бюст к себе так, чтобы взглянуть в глаза отлитому из металла народному трибуну.
В ответ я приложил палец к губам.
– Вот! – указал я сначала на Гая, а потом на Философа. – Похож?
– Да, в молодости я был чрезвычайно красив, – ни мало не смутился Философ. Он даже не поглядел на бронзовую голову, как будто заранее знал, кого увидит. – Но прожитые годы и удары кулаком в лицо меняют внешность.
– А мне думается, ты мало похож на Гая Гракха, – не желал я уступать.
– В Риме когда-то объявился самозванец, который выдавал себя за старшего сына Тиберия Гракха, но Семпрония[18], старшая сестра народных трибунов, отказалась его признать, – напомнил Сенатор. – В нынешние времена, когда Сулла стирает память о целых родах, любой может взять себе имя аристократа, объявленного преступником, – лишь бы на это хватило дерзости. Кому мне одолжить свое, которое я опасаюсь произнести вслух, а, Философ?
– Сохрани его для своего будущего сына, – посоветовал тот, вновь наполняя наши глиняные чаши.
– Коли ты тот самый Гай, – меланхолически вздохнул Сенатор, очищая запеченное яйцо, – расскажи нам что-нибудь из своей истории.
– Давай я расскажу тебе о моем старшем брате Тиберии, – предложил Философ.
– Тиберий был слишком чувствителен, чтобы иметь успех в войне или на Форуме, – высказал свое суждение Сенатор.
– Ты не видел Тиберия живым. Это позже придуманные сказки, что он заливался слезами, умолял, заламывал руки, когда обращался к народу. Как будто не народный трибун выступал, а греческий актер, забывший напялить маску. Он – старший сын в семье, заменивший младшим рано умершего отца, видевший смерть сестер и братьев, воевавший под Карфагеном, первым взобравшийся на стену осажденного города. Разве мог он напоминать слезливую старуху, когда выступал на Форуме?
– Разумеется, я не видел Тиберия, ведь я родился в тот год, когда убили Гая Гракха, – отбил дерзкий выпад Сенатор.
Но мне показалось, что Философ в чем-то сумел его убедить.
– Не видел, так слушай! – объявил Философ.
Тиберий Гракх при осаде Карфагена. Рассказ ФилософаВсе вы знаете, что повод для Третьей войны против Карфагена был надуманным, а сама война ненужной. Но Катон Старший убедил Рим, что Карфаген должен быть разрушен, и уже ничто в мире, никакие уступки и заверения, мольбы и обещания не могли спасти несчастный город.
В первые годы кампания против Карфагена шла на редкость неудачно. Консул Маний Манилий, командовавший легионами[19], поначалу сумел уверить карфагенских послов, что Рим желает только прочного мира и соблюдения своих прав, а самому Карфагену и его жителям римский меч угрожать не может. Путь к примирению прост: достаточно выдать незаконно накопленное оружие, и конфликт будет исчерпан, пунийцы смогут жить как прежде, торгуя на море и богатея. К тому же Утика, эта наиважнейшая крепость на Африканском побережье, уже перешла на сторону римлян, так что, почитай, война Римом выиграна и пунийцам остается только одно – покориться. Карфагеняне поверили обещаниям и передали римлянам 200 000 доспехов и 2 000 метательных машин, солидный запас, который они сделали в основном, чтобы отражать набеги нумидийского царя Масиниссы, который злобным псом стерег лишенный прежней мощи Карфаген. Однако оружие это могло пригодиться в грядущей войне. Все выданное было тут же уничтожено вместе с транспортами и сожжено прямо на воде. Цензорин наслаждался зрелищем полыхающих кораблей и уже представлял, какие празднества устроит в Риме в честь покорения давнего врага, как проедет на колеснице, запряженными белыми лошадьми по Священной дороге. А пунийцы были уверены, что своей покорностью купили право на дальнейшую мирную и сытую жизнь. Они неплохо жили после поражения Ганнибала и готовы были и дальше полагаться на гарантии Рима. Но счастливый исход им только пригрезился.
Консулы не были глупцами, но считали противника трусливым и жадным. И потому рассудили, что безоружный Карфаген уже ничего не стоит заставить склонить выю в самом унизительном поклоне. После сожжения оружия консулы потребовали, чтобы карфагеняне ушли из родного города, поскольку Рим желает окончательно обессилить противника и стереть их город с лица земли. Изгнанным жителям сохранялась жизнь, но поселиться они должны вдали от моря, чтобы не смогли жиреть от морской торговли, чтобы не соперничали с римлянами на водных просторах. Но пунийцы это не могли вынести – оставить свои очаги по прихоти пришлого вояки, бросить родной город на разграбление, да и как дальше жить, если торговля становилась для них запретной? Пасти скот? Растить овощи? Карфаген всегда богател именно морской торговлей благодаря своему расположению. Уйти и поселиться вдали от берега – означало обречь себя на нищету и голод.
Послы Карфагена пришли в ужас, но напрасно они пытались спорить и упрекать римлян в вероломстве – ведь пунийцы уже отдали все оружие, и дали заложников, и выполнили все условия… А теперь услышали, что их любимый город будет уничтожен. Несчастные выли, рвали на себе волосы, катались по земле. Но это лишь забавляло римлян. Упиваясь своей безграничной властью и беспомощностью жертв, консул Цензорин как более красноречивый, взялся за поучения. Он чуть ли не дословно процитировал пунийцам «Законы» Платона: «Близость страны к морю делает повседневную жизнь приятной, но это вредно и отвратительно. В городе расширяется торговля и подвоз товаров, а в душу внедряются неустойчивые и ненадежные привычки. Подумайте о совершенстве своих душ, а не о барышах».
Положение Карфагена казалось безвыходным: оставалось одно – сдаться.
Послы, немного придя в себя, поплелись назад. Кое-кто сбежал по дороге, но остальные вернулись в город как на заклание. В воротах собравшийся народ их чуть не задавил – так много прибежало горожан, чтобы узнать ответ римлян. Послы кое-как добрались до здания, где заседал Совет старейшин, и объявили, что Рим намерен уничтожить их родной город, требует немедленной сдачи и запрещает Карфагену отправить своих послов в Рим, чтобы убедить сенаторов смилостивиться. Что тут началось! Народ пришел в ярость, убивал всех, кто попадался под руку – старейшин, которые стояли за уступки Риму, италиков, которые жили в городе, и не успели удрать – с такой скоростью развивались события. Женщины, чьи дети оказались у Рима в заложниках, накидывались на каждого встречного. Совет Старейшин постановил: закрыть ворота и сражаться. Снова были посланы послы к римлянам – вымаливать отсрочку на месяц и снова – разрешение отправить послов в Рим. В посольстве было отказано, а месяц был милостиво дарован – на сборы и на то, чтобы закончить все дела и выбрать новое место для поселения.
Тем временем пунийцы отправили гонцов к Гасдрубалу, моля о помощи и прощении – ведь совсем недавно они приговорили его к смерти. У Гасдрубала имелась армия в двадцать тысяч, и он контролировал земли, принадлежащие Карфагену, а значит, мог обеспечить подвоз всего необходимого. В стены города стали спешно свозить продовольствие. Освободили всех рабов, на всех свободных участках устроили мастерские. Работали все: и мужчины, и женщины посменно. В день изготавливали по сто щитов и по триста мечей, по тысяче стрел для катапульт. Переплавляли любой металл, который могли найти. А еще делали дротики и длинные копья. Строили новые катапульты. Чтобы сделать для них канаты, все женщины в городе остригли волосы.
Так пунийцы совершили невозможное, и вместо того чтобы готовиться к бегству, за один-единственный месяц сумели вооружиться и укрепить свой город.
Итак, дни римской армии проходили в безделье. Консулы, ни о чем не догадываясь, не удосужились даже послать конницу на разведку. Спустя месяц Манилий со своей сухопутной армией наконец подступил к городу, рассчитывая на бескровную сдачу. И что же он увидел? Запертые ворота, а на стенах, сложенных из блоков белого камня высотой в сорок футов, стояли метательные машины и толпились воины. Карфаген восстал. И все попытки Манилия завладеть городом окончились неудачей. Два штурма были отбиты с большими потерями для римлян, а начатая планомерная осада не принесла успеха.
Если бы все полководцы Рима были так же бездарны, как те, что обманом выманили у пунийцев доспехи, или как тот, что пришел им на смену, Карфаген бы выстоял. Но среди распущенной и безалаберной армии нашелся один честолюбивый военный трибун, решивший затмить славу своего деда по усыновлению…
– Ты как будто сочувствуешь карфагенянам, – перебил Философа Сенатор. – Разве римлянин может говорить такое?
– Побежденный Сципионом Африканским Карфаген больше не угрожал Риму. Зачем было убивать сотни тысячи людей, а десятки тысяч отправлять в рабство, разрушать город, который богател и приносил своим жителям достаток?
– Карфаген мог бы нанять армию – это было ему под силу.
– Вряд ли хоть один суд отправит свободного человека в изгнание на основании довода, что он мог бы убить соседа, потому что силен. Если при этом он никого не убил, – съязвил Философ.
– Можно подумать, ты выступал когда-нибудь в суде! – Сенатор окинул товарища по несчастью презрительным взглядом.
– Хотя нет, теперь этот довод неактуален, – фыркнул Философ и рассмеялся деланным смехом. – Сулла составил свои списки не потому, что кто-то злоумышлял против него, а потому, что мог злоумышлять. Так что римляне теперь и своих граждан убивают за вымышленную вину, как прежде убивали пунийцев. Отныне ты в шкуре карфагенянина, Сенатор, которого изгнали из дома и приговорили к смерти лишь за то, что он стал опасен для властелина. Не царская ли это власть, которую вы, римляне, сотни лет проклинали и ненавидели?
– Ты говоришь «вы» и «ваш Рим», как будто ты чужак. Гай Гракх так бы не говорил и римлянах и Риме, – поддел Философа Сенатор.
– Ты прав, народный трибун Гай Гракх так не мог говорить. Но Гай Гракх, бегущий от своих убийц, который проклял римский народ за рабскую душу, именно так бы и сказал.
После чего Философ продолжил свой рассказ.
Тиберий Гракх при осаде Карфагена. Продолжение рассказа ФилософаПолучив римскую армию под свое начала, Сципион Эмилиан[20] принялся тщательно готовиться к захвату города. Первым делом он выстроил лагерь, обнесенный рвами, и с их помощью перегородил перешеек[21], а затем начал постройку дамбы. Дамба должна была закрыть вход в гавань и не позволить подвозить продукты и оружие в город, потому что до этого в Карфаген при попутном ветре продолжали прорываться небольшие суда. Однако поначалу труд оказался напрасным: пунийцы не теряли времени, глядя на работы под стенами, и сумели построить обводной канал, ведущий напрямую из города к морю. Тогда Сципион принялся штурмовать плато, что господствовало над этим каналом, и эти бои продолжались несколько месяцев.
Вокруг города располагались благоустроенные земли: эти места славились оливковым маслом, а местное вино получалось сладким из-за жаркого климата. Тут много было садов с плодовыми деревьями – гранатами, фигами и оливами. Меж деревьев прорыты были каналы, полные текущей водой. Среди садов поднимались загородные виллы богачей. На лугах паслись овцы и лошади.
Постепенно Эмилиан захватил или принудил к сдаче все города в округе, что пытались помогать Карфагену. Самым важным успехом было взятие города Неферис, откуда осажденные постоянно получали помощь, прежде всего хлеб, масло и сушеные фиги. В городе этом жило примерно восемьдесят пять тысяч человек. Неферис защищался так отчаянно, что во время штурма почти все жители погибли[22]. Пока Неферис держался, оставалась надежда, что Карфаген выстоит, но теперь надеяться было не на кого и не на что. Среди осажденных начался голод.
Гасдрубал, вошедший в город вместе со своей двадцатитысячной армией, установил единоличную диктатуру в Карфагене и попробовал начать переговоры с римлянами. Безрезультатно. Сципион не желал добровольной сдачи, он хотел захватить город как добычу.
На другой год весной[23] начался штурм Карфаген.
Прозвучал сигнал трубы, и римляне ринулись на стены со штурмовыми лестницами. Первым поднялся наверх Тиберий Гракх. За ним вскарабкалось человек десять легионеров. Но стена оказалась пустой – защитники, истомленные голодом, уставшие от недосыпа и постоянных дежурств, ушли в город, разбив ведущие на укрепления лестницы. Между стеной и домами образовалось своего рода ущелье. Легионеры сверху стали кричать, что нужны балки и мостки, чтобы перебраться на крышу соседнего дома. Легат Гай Фанний, сообразив, что никто больше не сопротивляется, вскарабкался на стену и встал рядом с Тиберием. Всем, кто теперь поднимался следом наверх, волоча доски и бревна, он сообщал, что оказался на стене вторым (странно, что не первым). Внезапно человек десять пунийцев выскочили на крышу соседнего дома и стали метать дротики. Один едва не угодил Тиберию в грудь. На счастье, стоявший рядом легионер не растерялся и прикрыл и себя, и Гракха щитом. Дротик ударил в нижнюю часть щита и даже не расколол его – бросок получился слабым. Зато ответный залп легионерских пилумов оказался для дерзких пунийцев смертельным.
Римляне стали перебрасывать штурмовые мостики с крепостной стены на крыши ближайших домов через улицу. Гасдрубал уже не руководил обороной. Отныне жители каждого дома сражались сами за себя. Одни бились отчаянно, стараясь прихватить с собой как можно больше врагов. Другие запирались в комнатах или прятались в цистернах для дождевой воды в бесполезной надежде, что это их спасет.
Первым делом римляне захватили Котон[24] и заняли площадь рядом с ним. Здесь располагались многочисленные лавки и здание карфагенского сената. Тут же на площади римляне расположились на ночевку. Эмилиан забрал из лагеря четыре тысячи свежих бойцов и повел их на соединение с первыми отрядами. Но по пути легионерам попалось святилище Аполлона. Внутри, в нише, стояла позолоченная статуя бога, а вся ниша была покрыта злотыми пластинками. Ослепленные этим блеском, легионеры потеряли голову и кинулись резать ножами на куски золотые пластины, покрывавшие нишу. Остановить их было невозможно. Римляне как будто обезумели. Им казалось, что золото должно лежать грудами в каждом доме и шалели при одной мысли о предстоящей добыче. Этим вечером они позабыли, что штурм не окончен.
Еще оставалась не взятой Бирса, самая укрепленная и самая высокая часть города, расположенная на высоком холме, обнесенная стеной, внутренняя цитадель Карфагена. От площади к Бирсе вели три главные улицы, довольно широкие, в двадцать футов, не меньше. Улицы не были приспособлены для повозок[25], во многих местах, там, где холмы поднимались к Бирсе слишком круто, устроены были лестницы. По этим улицам римляне двинулись на штурм. Поначалу сражения шли как на крышах домов, так и внизу. А потом Сципион приказал поджигать город, и рушить дома. Легионеры упирались в стену бревнами и опрокидывали инсулы[26] целиком, как будто случилось землетрясение. Когда дома падали, то вниз вместе с балками и камнями летели и женщины, и дети, и старики, мертвые и живые. Перед осадой в город набилось множество беглецов. Несмотря на голод, дома были плотно заселены, многие комнатки перегорожены по два или три раза, чтобы дать приют пришлым. Сейчас эти люди гибли, никому до них не было дела.
Город постепенно исчезал, будто рука титана стирала его в земной груди. Римляне, расчищая себе проходы топорами и крючьями, освобождали дорогу для новых штурмовых отрядов. Крючьями тащили они тела мертвых и еще живых, будто бревна, и выстилали ими дороги вместе с обломками зданий, равняя путь для легионов и кавалерии. Человечески тела стали мусором, выстлавшим дорогу к римской победе. Порой между камней и досок торчали чьи-то головы или руки, они еще шевелились, когда по ним скакали всадники, разбивая черепа и ломая пальцы.
В Бирсе располагались святилища карфагенских богов – храм богини города Танит[27] и святилище бога-врачевателя Эшмуна, бога, подобного нашему Асклепию. Храм Эшмуна был окружен, будто колоннадой, высоченными священным кипарисами. К зданию храма вела широкая лестница в шестьдесят ступеней. Именно там до последнего укрывались несколько тысяч карфагенян, и оттуда вышли те, кому позволили сдаться.
* * *Полибий потом понаписал много чего слащавого и лживого про те страшные последние дни Карфагена, посмевшего соперничать величием с Римом. Сам Полибий, выходец из Аркадии, отстаивал союз греков с римлянами в войне с македонским царем Персеем, но, видимо, недостаточно сильно угождал властелинам мира, поскольку его обвинили в измене и отослали в числе прочих заложников в Рим. Тут, правда, как человек широкого ума, Полибий не пропал, а нашел покровителей и сумел устроиться весьма неплохо. Эмилий Павел взял его в дом как учителя для своих сыновей, учителя, который воспитал будущего разрушителя Карфагена. И не только воспитал, но и сопровождал его под стены обреченного города, и вдохновлял на этот подвиг. Сам же Полибий написал подробную историю, в которой воспел подвиги Сципионов, прежде всего своего ученика Эмилиана.
Яркими красками Полибий живописал унижения Гасдрубала, стоявшего во главе обороны Карфагена. Рассказывал, как супруга Гасдрубала вырядилась в дорогие одежды и вышла с детьми к Эмилиану благодарить за оказанную милость. Эмилиан изображал мудреца, а Полибий, следовавший за патроном по пятам, подсказывал ему значительные фразы или попросту сочинял их сам и записывал на таблички. Расхаживая по лагерю, зачитывал он всем встречным эти изречения и уверял, будто бы Эмилиан все это говорил сам, а Полибий только услышал. Заложник-грек придумал легенду, будто, глядя на горящий Карфаген, Эмилиан цитировал Гомера[28] и плакал, и вздыхал – мол, и Рим может вот так же когда-нибудь погибнуть, ибо города как люди, рождаются, переживают расцвет и помирают. И у полководца при этой мысли сердце разрывалось от горя. Ничего такого Эмилиан не говорил: римляне шестой день разрушали Карфаген, город горел, легионеры валили один пылающий дом на другой целиком, тучей взлетали искры, выстреливали, как ядра из баллисты, горящие головни, и пламя перекидывалось с одного поверженного дома на другой. Облака дыма стояли над полуостровом, у всех слезились глаза, людей мучил удушливый кашель. Казалось, проснувшаяся Этна стала извергаться на месте погибающего города. В этом облаке пепла, в этой пляске огня посреди нестерпимого жара, когда легионные рабы едва успевали подносить воду – обливать плащи и доспехи, а заодно и тряпки, которыми воины закрывали обнаженные руки и лица, было не до красивых фраз. Слышались только яростная ругань, проклятия, хриплые крики команд, вопли боли, треск горящих бревен, грохот падающих каменьев. И опять ругань и проклятия.
Сдавшийся в плен командующий карфагенской обороной Гасдрубал вовсе не сидел у ног Эмилиана, потому что римский консул не стоял на месте, а все время двигался, и Гасдрубал полз за ним по земле, чтобы быть все время подле и чтобы нечаянно римляне не зарубили его в неразберихе штурма. Эмилиан мог бы приказать отвести пленника в палатку и приставить стражу, но он наслаждался унижением врага. Жена Гасдрубала так и не вышла из бешеного пожара, пожиравшего город. А история про богатые одежды и детей выдумана была позже. Сама ли она кинула в огонь детей и кинулась следом, или они задохнулись в дыму, или ей на голову обрушилась крыша храма или какого-то дома – неведомо. Никто толком этого не видел, а кто видел, не сумел бы рассказать, потому что точно так же не успел выбраться из самого пекла. Тел их не нашли.