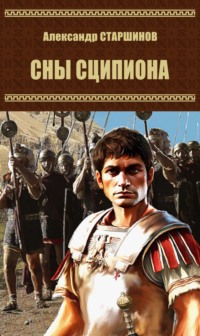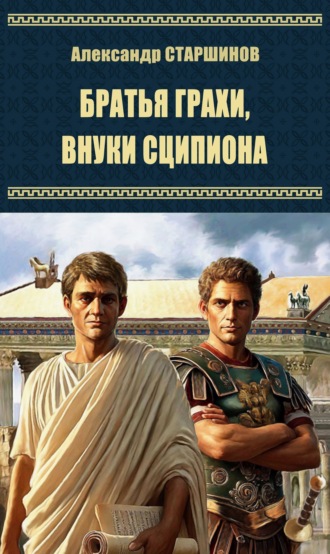
Полная версия
Братья Гракхи, внуки Сципиона
Только смерть дает оценку любви. Все остальные оценки лживы.
* * *В тот год, когда Корнелия овдовела, только старшая дочь Семпрония, недавно вышедшая замуж за усыновленного внука Сципиона Африканского, считалась взрослой. Сыновья же были совсем юными – Тиберию всего двенадцать, а Гай лишь недавно научился ходить и говорить. Корнелия занималась воспитанием сыновей и посвятила им всю себя без остатка. Для них искала лучших учителей, мальчиков учили греческому, музыке, риторскому искусству, владению оружием, верховой езде.
Но не это главное. Главными были те беседы, которые вела она с сыновьями. Она как будто пыталась вселить в них не только дух своего покойного супруга, но и дух своего отца, великого Сципиона.
Рим уже во времена братьев Гракхов напоминал зачерствелый каравай, внутрь которого забралось семейство мышей. Они выгрызли изнутри мякоть, оставив лишь внешнюю сухую корку. Но это мало кто замечал. Разве что сетовали по поводу увлечение молодежи, и в особенности женщин, роскошью, пеняли на распущенность, на страсть к деньгам и мотовству. Но дело не в том, что прежде молодой человек выходил на Форум в застиранной серой тоге, а ныне наследник древнего рода надевал новенькую пышную тогу из белой шерсти с начесом, и не в том, что супруга аристократа покупала туники из красной ткани по цене молодого раба. Дело в том, что на Форум теперь приходили не для того, чтобы высказаться о судьбе Республики и поспорить о кандидатах на грядущих выборах, но лишь затем, чтобы выгоднее продать своему патрону голос на предстоящем голосовании. Это прежде от выбора, какой камень ты бросишь в урну, зависело твое завтра и завтра твоих соседей. А ныне все отдали свою судьбу в лапы богатеев, даже сенаторы искали покровителей. Подкуп сделался обычным делом, и мы не заметили, когда это произошло.
Философ замолчал и выразительно посмотрел на своего собрата по несчастью, не возразит ли тот.
– Прежней жизни уже не будет, – согласился Сенатор. – Пороки пронизали нашу жизнь насквозь. От цензоров и консулов до вольноотпущенников и слуг все позабыли, что такое добродетель. Был у меня превосходный чтец из греков, я назвал его Пиндаром. Я мог слушать его часами, и всякий раз дарил ему не меньше десяти сестерциев за вечер. И это уже после того, как я дал ему свободу. Но в тот день, когда я бежал из родного дома, старая служанка моей матери шепнула, что именно Пиндар написал на меня донос. Не ведаю, что надобно было этому наглому греку!
– Все просто: ты оставался его патроном после освобождения, а твоя смерть делала его полностью свободным.
– Человек, написавший подлый донос, не может быть свободным. Он не знает, что это такое.
– Ты бежал, значит, мерзавец не получит обещанные два таланта серебра за твою голову. Пусть это тебя хотя бы порадует.
– Вся прежняя наша жизнь сломана, – вздохнул Сенатор.
– Мы разучились гордиться правильными вещами. Людей приводят в восторг хитрость, козни и интриги. Вспомни, когда в последний раз ты восхищался чьей-то доблестью. Не помнишь? Так я продолжу…
Продолжение рассказа Философа о Корнелии, матери ГракховСмерть поселилась в этом доме почти одновременно со счастьем. Они ходили вместе друг за дружкой, рука об руку. Счастье рождения ребенка, боль утраты. Внутри пустота, будто вынули что-то рядом с сердцем, и оно тяжко ворочается в груди, кожа горит, во рту сохнет. Корнелия научилась не пускать смерть внутрь, как злобную воровку на порог. Пять дочерей, четверо сыновей. Болезни уносили их, как десятый вал неосторожных путников с палубы застигнутого бурей корабля.
Большой дом, тщательно ухоженный, с покрытыми штукатуркой и окрашенными охрой колоннами в атрии. Лепные капители. Каштаны и лавры в перистиле. Вышколенные рабы. Строгость и справедливость – им стоило поставить статуи у входа в таблиний Тиберия Гракха.
Корнелия была истинной римлянкой, достойная дочь своего отца. После смерти супруга она отвергла сватовство Пергамского царя Аттала, дабы посвятить себя воспитанию детей. Из двенадцати она схоронила девятерых. Они умирали маленькими или чуть-чуть начав ходить. Их забирали лихорадка и нелепые случайности. Она приучила себя встречать известие об их смерти без слез. Она как бы пеленала себя плотными пеленами, как пеленают мумии в Египте, стискивала руки, сжимала горло и сердце, рвущееся из груди. Каменела. Позорно для благородной матроны показывать слабость, рыдать у всех на виду. Когда она теряла очередного ребенка, то еще с бо́льшей страстью начинала заботиться об оставшихся, следить за их учебой, за тем, чтобы в души их были заронены самые прекрасные зерна учености без плевел порока. Она выводили сыновей на Форум, как это должен был делать их отец.
Когда смерть настигала еще одного малыша, она вспоминала, как умерли ее кузены, сыновья Эмилия Павла. Как триумф ее дяди был омрачен смертью юных сыновей, которые должны были наследовать его имя, а двое старших, уже перешедшие в род Сципионов и в род Флакков, хотя жили в доме родного отца, принадлежали теперь другим семьям. Она воображала, что в руках ее невидимых щит, а грудь закрыта непробиваемой эгидой – нет такого горя, что было бы способно сломить дочь победителя Ганнибала. Она верила в посмертие, хотя редко говорила об этом. Жизнь казалась ей лучом солнца, у него есть начало в центре Гелиоса, но никто не знает, где заканчивается его свет.
Семпрония родилась первой. Отец ожидал рождения сына-первенца, но на свет появилась дочь. А потом снова родилась дочь, и снова. Две малышки умерли в один год, когда в Риме свирепствовала лихорадка. Их унесли на маленьких носилках, похороны устроили скромные – когда умирают дети, о них нечего сказать, у них нет заслуг и деяний, которые надлежит запомнить. Когда родился малыш Тиберий, всем показалось, что беды отступили – он был сильным крепким ребенком и никогда в детстве ничем не болел. Но смерть возвращалась с завидным упорством.
После смерти Тиберия Гракха Старшего Сципион Эмилиан числился опекуном Корнелии, поскольку ее муж и отец умерли. Но он не пытался вмешаться в ее жизнь, полагая, что немедленно получит отпор, как варвар, посмевший напасть на легионера.
Семья Сципиона Африканского никогда не была для Эмилиана родной. Формальные сухие отношения без намека на теплоту. Другое дело его родная мать и сестры. Более всего он был привязан к родной по крови матери. Когда умер приемный отец Эмилиана, старший сын Сципиона Африканского, болезненный и равнодушный к делам Форума и сражениям Публий, а затем скончалась вдова победителя Ганнибала[43], пережившая супруга на двадцать лет, Эмилиан сделался единственным распорядителем наследства приемного деда. Он не был жадным, напротив, подчеркивал, что никогда не мелочится, до срока выдал приданое мужьям своих приемных сестер. Но к родным по крови Эмилиан питал особую слабость. Это они были его близкими, а не Корнелия Младшая или ее сестра. Родной отец Эмилиана развелся с его матерью Папирией, но не потому, что она ему изменяла или дурно вела себя, но лишь потому, что отчуждение меж ними сделалось нестерпимым, что эти двое не могли находиться рядом даже пару мгновений, чтобы не начать ругаться и злословить. Папирия происходила из патрицианской семьи, единственная дочь консула Гая Папирия Мазона. Но знатность уже давно не означала достаток, после развода покинутая женщина жила не богато – отец ее, чрезвычайно амбициозный, всю добычу, привезенную с Корсики, пожертвовал на возведение храма богу Фонсу[44] и приданого за дочерью почти не дал. Папирия всегда и всюду выпячивала свою добродетель, могла рассуждать о ней часами, отчитывала слуг и выговаривала всем, кого считала нужным вернуть на путь добродетели. Выносить ее поучения могли немногие, рабы вынужденно терпели, свободные бежали ее общества. А вот дочери охотно злоязычничали вместе матушкой о гражданах Рима. Они ругали Тиберия Гракха за поздний брак, Корнелию Младшую – за надменность, Корнелию Старшую, супругу Сципиона Назики, – за сомнительные развлечения, Аппия Клавдия – за непомерное тщеславие. Да мало ли чьи пороки можно обсудить во время прогулки по Форуму. Эмилиан обожал мать и сестер. При нем они обычно замолкали, смотрели с обожанием и величали его наилучшим римлянином, сетуя, что Эмилиана наилучшим официально не признали. Он был их кумиром, и это обожание согревало его не хуже жаровни с горячими углями в холодный день. Будучи подростком, Эмилиан считал себя самым обычным, даже посредственным, лишенным жажды деятельности и любых устремлений. Каковым на самом деле и был. Полибий внушил ему, что он может сделаться великим. А мать и сестры подогрели его жажду славы. Главным достоинством Эмилиана была методичность – во время военных тренировок он мог наносить сотни ударов в щит, метя в одно и то же место. Эта методичность помогла ему при осаде Карфагена и Нуманции, она превратила его в великого воина.
Получив наследство своей тетки, вдовы Сципиона Африканского, Эмилиан подарил матери все украшения покойной, жертвенную утварь, лошадей, колесницы, сопровождавших ее во время торжественных выходов рабов и рабынь. Теперь Папирия могла при выезде из дома устраивать маленькие процессии на зависть оставивших ее в одиночестве патрицианок. Однако все это богатство доставляло Папирии удовольствие всего лишь в течение трех лет. После смерти матери Эмилиан передал ее наследство, в том числе и все, что прежде принадлежало Эмилии, своим сестрам, которые на эти богатства не имели никаких прав. Сестры его были выданы замуж за людей не слишком знатных. Старшая – за сына Марка Порция Катона Цензора от первого брака, вторая – за Квинта Элия Туберона, который был не просто беден, а буквально нищ – шестнадцать человек ютились в крошечном домике и кормились с одного клочка земли.
Вся эта родня, облепившая Эмилиана и жаждущая от него подачек, вызывала у Семпронии отвращение до тошноты. Но отец выбрал Эмилиана ей в мужья, и она согласилась, чтобы угодить отцу. Она смотрела в серебряное зеркало на длинной витой ручке и видела мрачную некрасивую девушку с крупным ртом и взглядом исподлобья. Неважно, что она читала книги и знала греческий, играла на флейте, могла рассуждать о «Законах» Платона и поэзии Пиндара и Сапфо – в ней не было и намека на женскую игривость или кокетство.
«Кто тебя такую полюбит? – говорила она себе. – Но тебе достанется слава продолжательницы рода Корнелиев».
* * *Едва была сыграна свадьба Семпронии с Эмилианом, как умер отец семейства Тиберий Гракх. Конечно, странно было надеяться Корнелии Младшей, что они с супругом уйдут за порог жизни одновременно. Но смерть всегда приходит неожиданно, даже если ее предугадываешь, предчувствуешь, ждешь. Взмах серпа Кроноса – и жизнь вытекает, как вино из разбитой стеклянной чаши. И нет сил, которая сможет соединить чашу, а жизнь – вернуть.
А ведь еще за месяц до смерти Гракх Старший учил сына обращаться с мечом в одиночном поединке. Ей казалось, у них еще лет десять впереди.
Этот удар Кроноса подрубил что-то и в самой Корнелии. Прежде она теряла детей, но рождались другие. Тиберий Старший был ее опорой, ее силой. Теперь Гай стал ее последним ребенком. Она огляделась и увидела – пустоту. Застланное пустое ложе Тиберия. Бюст в атрии. Ветви лавра и кипариса. Комната малышки Семпронии – тоже пустая. В библиотеке на столе остался развернутый свиток на скалке из слоновой кости с выкрашенными красным рожками. Рядом красный футляр. Заметки Тиберия на восковых табличках и рядом бронзовый стиль. Она не позволяла себе плакать, ни прилюдно, ни оставаясь в одиночестве. Выходя в город, надевала траур. Ни украшений, ни пышной прически. Даже накидка поверх столы – из некрашеной шерсти. Она всегда брала с собой сыновей, когда выходила. Они шагали, как два ликтора перед магистратом, символы ее власти. Подчеркивала свою добродетель постоянно и всюду, не навязчиво, всегда к месту, но не упускала случая. Это была ее броня, в которой она укрывалась от текущей вокруг жгучими потоками жизни. Матроны ее спрашивали: «Почему не носишь украшений?» Она опускала руки на головы мальчишкам со словами: «Вот мое главное сокровище». Сыновья с детства привыкли быть символами и охранителями ее добродетелей, они должны были исполнить ее мечты, дать ей такую бессмертную славу, чтобы ее отныне называли не дочь Сципиона, а мать Гракхов.
«Мать Гракхов», – она произносила эту фразу как заклинание, грядущая слава ее сыновей сделалась смыслом ее жизни. Мать Гракхов может спать в одиночестве в холодной вдовьей постели и демонстративно отвергать корону, что кладет к ее ногам царь Пергама Аттал, потому что ее вдовья добродетель – слава ее сыновей. В ответ сыновья ее боготворили. И обожали друг друга. Они, трое, были связаны невидимой пуповиной навсегда, питая друг друга живительной силой. Гай, повзрослев, помнится, сцепился с одним из врагов и обрушил на того поток яростных упреков. «Как ты смеешь хулить Корнелию! – кричал он. – Как ты смеешь хулить Корнелию, которая родила Тиберия Гракха? Как у тебя язык повернулся сравнивать себя с Корнелией?! Ты что, рожал детей, как она? А ведь в Риме каждый знает, что она дольше спит без мужчины, чем мужчины без тебя!»
В таком обожании было нечто болезненное, никто в Риме так не гордился своею матерью, как братья Гракхи.
* * *Когда в дом возвращалась погостить Семпрония, ощущение холодной строгости лишь возрастало. Молодая женщина смотрела исподлобья, отпускала едкие замечания и никогда не смеялась. Она не предлагала матери направиться за покупками, не рассказывала о новых платьях, не обсуждала дорогие ткани и новые украшения. Она часами сидела в перистиле и смотрела на воду в маленьком бассейне или отправлялась в библиотеку и читала какую-нибудь книгу на греческом, который хорошо знала. Иногда просила мать почитать ей, но уже переводя сразу во время чтения – прямо со свитка. Так Корнелия когда-то читала ей в детстве басни Эзопа, когда Семпрония еще не знала греческого. Эти маленькие путешествия в прошлое вызывали на губах юной женщины мимолетную грустную улыбку. Внешне она больше походила на отца, нежели на мать, но отцовские черты исказились в ее лице, отчего сделалась она некрасивой, и ни белила, ни румяна не могли исправить грубость ее черт, скрыть тяжелый подбородок и крупный рот, а главное, придать ей ту женскую притягательность, которой обладала ее мать.
– Ты не беременна? – спросила как-то Корнелия.
Семпрония отрицательно несколько раз покачала головой.
– Надеюсь, это скоро случится? – Корнелия улыбнулась.
– Не думаю… – жена Эмилиана усмехнулась ядовито. – Скажи, тебе доставляло удовольствие возлежать с моим отцом?
– Дочери не пристало…
– Так да или нет?
Корнелия залилась краской. Прижала ладони к щекам.
– Мой супруг был нежным мужем и…
– Да, знаю, ты так стонала, что было слышно даже через стену… Мы с Ампелией поутру подкрадывались к двери вашей спальни и слушали… Вы любили заниматься этим утром. Ампелия хихикала и говорила, что я тоже испытаю наслаждение, когда выйду замуж. Жаль, эта маленькая стервочка умерла, а то бы я отрезала ей язык.
– Девочка моя…
– О, я бы многое отдала, чтобы хоть раз во время этого испытать наслаждение. Хотя бы один Венерин спазм! А сколько ты получала за одно утро даров от супруга? Три? Пять? Десять?
– Семпрония!
– О, не переживай! Я добродетельна! Как и ты. Только добродетель у нас разная. Твоя – от богатства, когда ничто не может сравниться с прежними дарами. А моя – от нищеты. От нищеты в Венериных забавах. От нищеты моего чрева. Хотя, полагаю, нищими могут быть чресла моего супруга. Я расспрашивала домашних слуг: ни одна из рабынь, с которыми он спал до нашей свадьбы, не принесла ему чада.
– Если во время Луперкалий[45] встать на пути бегущих юношей и получить удар окровавленного ремня из козлиной шкуры, говорят, это помогает от бесплодия… – не слишком уверенно сказала Корнелия. – И роды бывают легкими…
– Нелепость это… Ты же знаешь, что нелепость. Ну, разве что заняться любовными утехами с одним из этих парней! Прежде так, видимо, и поступали…
– Семпрония!
– Молчу, молчу… Я все вынесу безропотно, как вынесла ты. Ты – смерти моих братьев и сестер, я – отсутствие малышей.
* * *В этом месте Сенатор прервал рассказ:
– Забавные подробности! Кто-то подслушал разговор женщин? Вот проказник!
Я вспомнил, что меня ждут дела в поместье и спешно поднялся.
– Сегодня вечером я не смогу вас навесить. Будьте осторожны. Я приду завтра поутру и принесу, как обычно, поесть. И еще прихвачу доски и инструмент. Надеюсь, кто-то из вас сумеет починить скамьи и стол.
– Может, кто-то умеет, но это не я, – засмеялся Философ.
– Я расскажу завтра вечером о Нуманции, – пообещал Сенатор. – Все дело в Нуманции, а не в помешанных на своих добродетелях матронах. Хотя, когда их трое, это уже чересчур.
Я уже почти не надеялся, что они уйдут ночью.
И они не ушли.
Глава 4. Философ и Сенатор. День четвертый
Декабрь 82 года до н. э.
Ночь выдалась холодная. Поутру иней лежал на кустах лавра и на каменном фаллосе, установленном посреди огорода. Ледяной узор покрыл перекопанные грядки.
Поутру я принес моим гостям не только хлеб и копченый окорок, но и несколько досок, пилу и кожаный футляр с прочим столярным инструментом. Инструмент этот принадлежал нашему рабу Икару. Когда-то он был мастером на все руки, почти вся мебель в поместье была сработана его руками или починена старая. Вилик говорил про него, что Икар слышит дерево, будто оно с ним говорит. Когда он был моложе, лет десять назад, Икар просил отца отпустить его на свободу, обещал патрону процент с мастерской, которую собирался открыть. Отец колебался: в один день обещал свободу, в другой – отказывал. Наконец, когда отец решился. Но Икар заявил, что никуда уходить не хочет и намерен остаться при доме. Отказ этот вскоре стал понятен: Икар начал слепнуть, и о мебельной мастерской и прибыли с нее можно было забыть. Так что остался Икар доживать свой век у нас в поместье. В мастерской, где когда-то выреза́л он чудесную мебель, теперь он точил на ощупь одни деревянные фляги. Икар попытался научить Персея, который в поместье ходил за скотиной или сопровождал меня в поездках, своим премудростям, но Персей отнекивался: мол, у него свои обязанности в фамилии, а у Икара – свои. К счастью для старика, отец мой не следовал совету Катона в том, что старого ли больного раба надо продать[46], как ненужную утварь. Да и кто купит слепого раба?
Когда я заглянул поутру в мастерскую и спросил, что я могу взять с собой, Икар обрадовался и отдал свой кожаный мешок с инструментом, попросив показать результат моих усилий. Увидеть он их не увидит, но сможет оценить работу на ощупь. Я сказал, что намерен сделать две скамьи, и ушел как можно скорее, чтобы слепец не увязался со мной в надежде помочь советами.
* * *В маленькой хижине было довольно прохладно, хотя в жаровне уже алели угли.
Философ оглядел мои дары скептически:
– Думаешь, кто-то из нас умеет столярничать? – Он насмешливо выпятил губы.
– Я умею, – отозвался Сенатор. – Отец у меня был строгим, старых традиций. Когда он служил легатом, то наотрез отказался дать мне место при своем штабе, отправил простым легионером в центурию. Он сам в свое время точно так же служил. Я многому научился за годы службы. Изготовить скамью или починить стол сумею.
На том наш утренний разговор закончился. Я оставил моих гостей столярничать, а сам удалился: мне надобно было написать письмо моему отцу в Ларий с отчетом, что произошло за минувший месяц в поместье, что мы купили (почти ничего), что продали (масло из зеленых маслин, самое вкусное), и сколько прибыли у нас вышло.
* * *Вечером я принес солидный бурдюк с вином, сыр и котелок с бобовой похлебкой. Сенатор не обманул – скамью он смастерил на славу, и колченогий стол перестал быть колченогим. Философ зажег светильник, и мы уселись трапезничать.
– Обед роскошный. Вино – выше всяких похвал. Может быть, наймемся к нашему Марку батраками? – подмигнул мне Философ. – По-моему у нас неплохо получается. Жизнь вдали от Рима разом сделала нас добродетельными. Что думаешь по этому поводу, Сенатор?
– «Я хочу от зла подальше и к добру поближе быть», – отвечал аристократ цитатой.
– Плавт? – спросил не очень уверенно Философ.
– Да, «Пленники», – кивнул Сенатор.
Философ разлил вино и горячую воду по кубкам. Тлели угли в жаровне. Я вдруг подумал, что лучше этих вечеров ничего в моей жизни еще не было.
– Говорят, никакого Плавта-сочинителя не существовало, и все его пьесы кропали Сципион Эмилиан с Лелием, сыном того Гая Лелия, что был верным другом Сципиона Африканского. Что думаешь? – спросил Философ у своего товарища.
– Слишком много пришлось бы сжечь масла[47]. И не станет римский патриций сочинять сцены про греческих параситов, гетер и сводников. У Плавта нет ни одного заседания Сената в Курии, где герой произносил бы блестящую речь. Или показан штурм какой-нибудь вражеской кастеллы. Или жаркая битва. Сципион Старший, помнится, писал письма царям, как равным участникам особого круга, и никто никогда в его избранности не усомнился. Эмилиан, конечно же, в таком кругу смешался, он сразу бы позвал Полибия, требуя подсказок. Но сочинять пьесы про торговцев и мелких жуликов? Это слишком для него. Даже в мыслях он не мог так себя уронить. Хотя он привечал в своем доме философов и сочинителей, и они вели длинные красивые беседы. У меня в клиентах был один философ, я любил послушать его рассуждения за обедом. Он уехал в Афины, и, боюсь, сгинул в той кровавой вакханалии, что устроил в этом городе Сулла, отдав его на разграбление своим солдатам. С тех пор посланий я от моего умника не получал.
– Ты обещал нам рассказ про Нуманцию, – напомнил Философ.
Сенатор сделал большой глоток из своего кубка.
– Я не такой мастак чесать языком, как наш Философ, но про Нуманцию расскажу не хуже, чем он – про падение Карфагена.
Рассказ Сенатора об осаде Нуманции.Позор МанцинаЯ все думаю: была ли Фортуна милостива к Гракхам или нет, – начал издалека свой рассказ Сенатор. – С одной стороны – они родились в блестящей семье, где отец и мать нежно любили друг друга. Вся их жизнь была осенена славой деда, который разгромил Ганнибала. С другой стороны – смерть братьев и сестер, смерть отца, когда мальчики остались сиротами – все это вряд ли можно назвать словом удача.
Но вот где Фортуна сыграла злобную шутку с Тиберием Гракхом, так это в Испании. Посудите сами – после разрушения Карфагена он был известен как герой, человек смелый и преданный долгу. Передавали, что он первый вскарабкался на стену Карфагена с небольшим отрядом. И почему не получил стенной венок – не ясно.
Теперь его отправили квестором по жребию[48] вместе с консулом Манцином воевать с Нуманцией, а последние войны Рима в Испании выдавались несчастливые, требовали много крови, приносили мало добычи, зато были щедры на поражения.
Когда-то отец братьев Гракхов в год своего второго консульства[49] заключил договор долгой войны с кельтиберами[50]. Договор этот определил жизнь Ближней Испании[51] на целых двадцать пять лет. Благодаря Старшему Гракху в этих землях надолго воцарился мир. В отличие от лузитан, кочевников и пастухов, а заодно ловких грабителей, кельтиберы уже проживали в городах, города эти росли, и кельтиберам становилось тесно в старых стенах под властью римлян. Когда поднялись лузитаны во главе с Вириатом[52], восстала и Нуманция, главный город кельтиберов. Вириат долго портил кровь римлянам, нападая из засады и уходя после очередного кровавого укуса в горы, пока не пал от рук предателей. Римлянам удалось одержать верх, нумантийцы, не в силах больше воевать, заключили новый договор, то есть сдались на волю победителям, уплатили контрибуцию и согласились жить согласно прежним условиям договора Гракха. Это означало, что они не могли строить новых городов и расширять стены старых, а также не имели права чеканить монету крупнее одного асса. Когда-то эти условия устроили кельтиберов, но выросло новое поколение, им нужны были новые дома и новые земли. Однако, потерпев поражение, варвары смирились. На восемь лет буря в Ближней Испании улеглась, лишь отдельные всполохи недовольства прорывались наружу. Но консулы менялись каждый год, и каждому (хотя бы одному из двух) нужна была новая война и новая победа, а, значит, добыча и триумф. У нового командующего Лукулла имелись армия и страстное желание повоевать и пограбить. Посему он направился в земли вакеев, разграбил Кауку, совершив очевидную подлость[53], забрал серебро и отнял жизни, и двинулся дальше. Поход его нельзя было назвать счастливым, тем более что Лукулл искал не выгоды Риму, а лишь золота и добычи для себя. Однако самоуправство его никак не было наказано поборниками справедливости в Сенате. Еще один любитель добычи Гальба истреблял лузитан и продавал их в рабство, презрев заключенные прежде договоры и данные обещания.