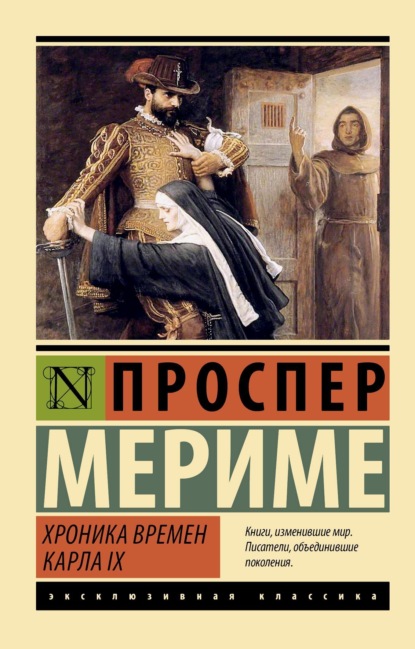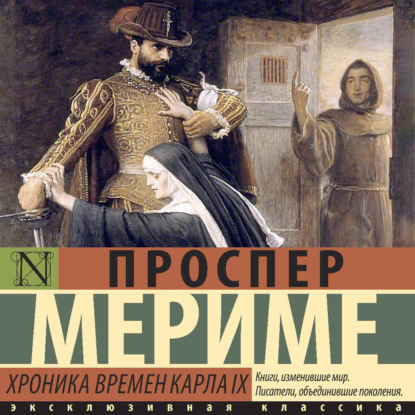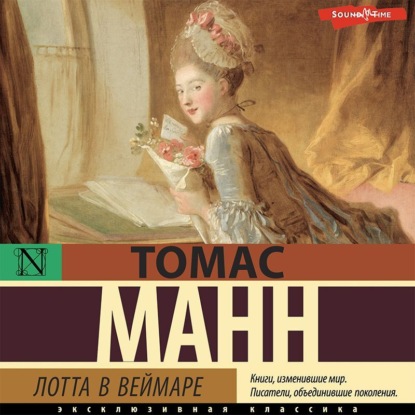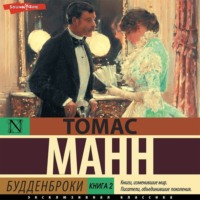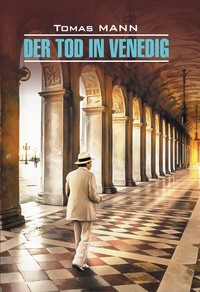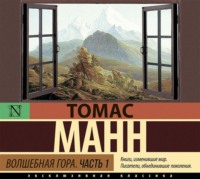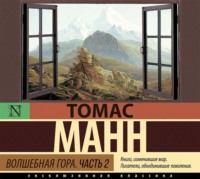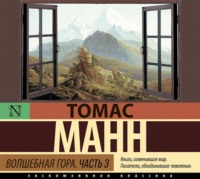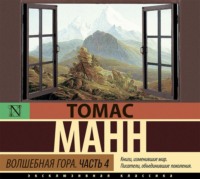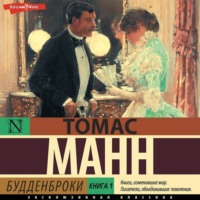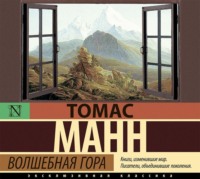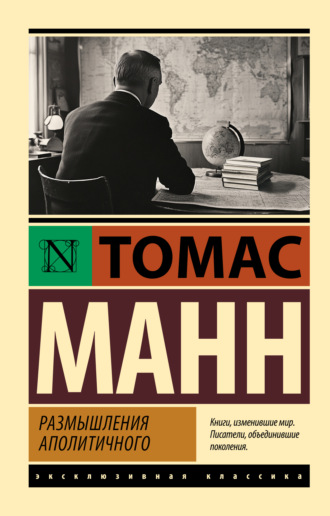
Полная версия
Размышления аполитичного
Право, моё возмущение довольно нелепо! Даже для меня самого, а я имею дурную привычку другим преподносить в качестве нелепостей то, что таковым представляется мне. Нелепо, поскольку факт, что всё моё существо относится к существу литератора цивилизации куда с меньшей враждебностью и сопротивлением, чем можно судить по холодно-объективному анализу, который ему от меня достался. Чего он хочет? И если я этого не хочу, то почему? Он вовсе не настолько скверный гражданин и патриот, чтобы не болеть за Германию. Напротив! Он болеет за неё изо всех сил, испытывая сильнейшее чувство ответственности за её судьбу. Он хочет и подталкивает эволюцию, которую и я считаю необходимой, то есть неотвратимой, к которой и я в известной степени невольно причастен по своей природе, но ликовать по данному поводу всё-таки не вижу ни малейших оснований. Кнутом и шпорами литератор подстёгивает прогресс, который и мне – во всяком случае частенько – видится неудержимым, видится самой судьбой; подстёгивать его в меру скромных возможностей есть и моя судьба, и тем не менее по смутным причинам я состою к нему в некоей консервативной оппозиции… Хотелось бы быть понятым вполне. Так вот, можно считать прогресс неотвратимым, самой судьбой и в то же время не испытывать ни малейшего желания галопом мчаться следом с «ура, да здравствует», чего прогрессу, как мне думается, также вовсе не требуется. У прогресса есть всё, что нужно, и прежде всего золотые перья. Кому-то может показаться, что будущее за золотыми перьями, однако в действительности золотые перья за будущим. То, что во имя идеи хорошо пишут, служит метафизическим доказательством её доброкачественности и будущности. Можно и иначе: пока об идее пишут хорошо, она достойна внимания и имеет право на жизнь, даже если это не прогресс… Повторяю: у прогресса есть всё, что нужно. Он только с виду оппозиция. На самом деле в оппозиции очутилась уцелевшая противонаправленная воля, она заняла оборону, и, как ей прекрасно известно, бесперспективную.
Что же это за эволюция, что за прогресс, о котором я толкую? Но, чтобы объяснить, о чём речь, понадобится горстка постыдно мерзких, искусственных слов. Речь о политизации, радикализации, литераризации, интеллектуализации Германии, о её «очеловечивании» (в латинско-политическом смысле) и дегуманизации (в немецком)… Речь, пользуясь любимым словечком, воинственным, ликующим кличем литератора цивилизации, о демократизации Германии или, если всё объединить и свести к общему знаменателю, её дегерманизации… И мне участвовать в этом безобразии?
Самосозерцание
Неужели правда, что и в Германии уже силён космополитический радикализм?
Достоевский, «Сочинения»
Что ж, и я в нём участвую… Простоты ради перейдём к тем расшаркиваниям, нынче, разумеется, совершенно необходимым, когда кто-то намеревается говорить о себе. «Мировой слом! – слышу я. – Ей-богу, самое время среднему писателю отвлекать наше внимание на свою бесценную литературную личность!» Я называю это здоровой иронией. Но, с другой стороны, если приглядеться, не есть ли мировой слом самое время для каждого заглянуть в себя, посоветоваться с совестью, провести генеральную ревизию своих основ? Такая потребность кажется по меньшей мере понятной и простительной там, где даже в пору торжества внешней политики и «власти» главенствующий интерес сохраняет внутренняя политика, материи нравственные. Однако в том, что этого от меня требует совесть, а «самовлюблённость» и «честолюбивые амбиции» – диагноз наименее вероятный из всех, удастся убедить лишь сочувствие, не равнодушие и не неприязнь. Пусть я рискую проявить отсутствие вкуса, но должно же быть у меня право вообразить небольшой круг знакомых и незнакомых друзей в том смысле, что их серьёзное, живое участие в прежних моих исканиях и писаниях развило в них осознанное чувство общей за эти писания ответственности, совестной солидарности, которая связывает писателя с истинными его читателями и может оказаться достаточно крепкой, чтобы помочь им, как и мне, справиться с рискованной для нашего времени затеей в виде последующих отрывков.
Начнём с того, что имеются основания поставить моё право на «патриотизм» под сомнение, поскольку я не очень настоящий немец. Будучи на одну часть романской, латиноамериканской крови, я сызмальства был настроен скорее на европейский интеллект, нежели на немецкую поэтичность: разница… нет, противоречие, относительно которого, как я принуждён надеяться, изначально возникло единодушие, так что мне более не придётся на него напирать. Я никогда не пытался внушить себе, будто являюсь немецким поэтом наподобие Герхарта Гауптмана или Герберта Эйленберга, – речь, спешу добавить, отнюдь не о месте в иерархии, лишь о сути. Дар, слагающийся из синтетически-пластических и аналитически-критических свойств и избирающий художественную форму романа как сообразную себе, – по большому счёту не очень немецкий; роман вообще не вполне немецкий жанр; пока трудно себе представить, чтобы у нас, в «нелитературной стране», писатель, прозаик, романист занял бы в сознании народа столь же представительное положение, как поэт, чистый синтетик, лирик или драматург. Повторяю – пока, ибо литератор цивилизации желает, чтобы было иначе, и знает почему. Выход романа, точнее социального романа, на авансцену общественного интереса, несомненно, как точный термометр сможет замерить процесс олитературивания, одемократизовывания, «очеловечивания» Германии, о котором я говорил и в воспламенении которого, собственно, и заключается дело и миссия литератора цивилизации.
Вернёмся, однако, к личному! Назвав себя не самым настоящим немцем, я, надо сказать, пренебрёг той крайней осторожностью, которую тщательно соблюдал по отношению к литератору цивилизации. С собой я вправе поступать легкомысленнее. Но и тут я не вовсе забываю, что немецкая гуманистичность почти предполагает не немецкое, даже антинемецкое; что, по авторитетному мнению, разъедающая национальное чувство склонность к космополитичности неотторжима от немецкой национальности; что, вероятно, дабы обрести немецкость, её надлежит утратить; что без добавки чужого никакая высокая немецкость, пожалуй, невозможна; что как раз образцовые немцы были европейцами и сочли бы варварством любое ограничение рамками «ничего-кроме-немецкого». Уже Фонтане называл великого Шиллера получужаком, и если риторическая драма последнего, собственно, прописана в grand siècle, то потребовалось совсем немного, чтобы Ницше отослал творчество другого великого немецкого театрализатора к французскому романтизму. У Гёте по меньшей мере «Избирательное сродство» с формальной точки зрения не очень немецкое произведение, да и в целом проза его иногда офранцужена до невозможности (что у «поляка» Ницше удивить не может); Шопенгауэр же, кажется, сперва переводил свои параграфы на латынь, дабы затем, не без набежавших на чеканно-бессмертную точность процентов, вернуть их обратно в немецкий… На подобную национальную ненадёжность наших великих привыкли закрывать глаза, решив просто включить её в понятие наивысшей немецкости. Между тем я не настолько безумен, чтобы увязывать свой европействующий вкус с собственной значимостью (речь вообще не о ней). Не заслуга, вероятно, даже грех, но интимно-, исключительно немецкого мне всегда было мало, я толком не знал, что с ним делать. Кровь моя требовала европейского очарования. Художественно, литературно моя любовь к немецкому начинается там, где оно становится возможным, состоятельным в европейском масштабе, способным на европейский резонанс, доступным любому европейцу. Три имени, которые я обязан назвать, отвечая на вопрос о фундаменте моего духовно-художественного воспитания, три имени, навечно спаянные в трёхзвездие, что ярко светит на немецком небосклоне, отсылают не к интимно-немецкому, а к европейскому: Шопенгауэр, Ницше, Вагнер.
Взору моему является маленькая комнатка на верхнем этаже в предместье, где я – тому минуло уже шестнадцать лет – в странной формы шезлонге, или канапе, с утра до ночи читал «Мир как воля и представление». Одиноко-беспорядочная, алчущая мира и смерти юность – как судорожно она впитывала волшебное зелье метафизики, глубинная суть которого – эротика, и в котором я находил духовные источники музыки «Тристана»! Так читают раз в жизни. Такое не повторяется. И какое счастье, что мне не пришлось запереть это потрясение в себе, что тут же представилась прекрасная возможность о нём свидетельствовать, за него поблагодарить, что поэтическое пристанище для него было под рукой! Ибо в двух шагах от канапе лежала раскрытая, невозможно и непрактично распухшая рукопись – бремя, достоинство, родина и благословение странного юношеского возраста, крайне сомнительная в плане публичных качеств и перспектив, как раз доспевшая до расставания с Томасом Будденброком. Ему, трижды мистически-родственному мне образу – предку, отпрыску и двойнику, – я подарил драгоценный опыт, головокружительную авантюру, в его жизнь повествовательно вплёл её на самый последок, поскольку мне показалось, что она к лицу этому страдальцу, который отважно держался до последнего, этому столь близкому мне моралисту и «милитаристу», позднему, сложному бюргеру, чьи нервы в собственной среде уже чужие, одному из соправителей городской аристократической демократии, который, набравшись современности и сомнительности, обретя непривычные здесь вкусы и развитые европейские потребности, давно уже, посмеиваясь, начал отходить от своего окружения, так и оставшегося здоровым и узколобым, доподлинным. А потому незадолго до смерти Томас Будденброк лишь якобы случайно обнаружил книгу в запылённом углу книжного стеллажа; на пару лет раньше её обнаружила интеллектуальная Европа, к которой сей почтенный житель среднего города питал нервные симпатии; в интеллектуальной Европе воцарился, вошёл в большую моду пессимизм Артура Шопенгауэра, ибо этот немецкий философ уже не был «немецким философом» в привычном, недоступно-запутанном смысле. Он, конечно, остался очень немецким (можно ли быть философом, не будучи немцем?), поскольку, например, категорически не был ни революционером, ни велеречивым ритором, ни льстивым певцом человечества, а, напротив, метафизиком, моралистом, в политическом отношении, мягко выражаясь, индифферентным… Но, помимо этого, он приводил в немалое изумление и требовал немалой признательности как большой писатель, проницательный мыслитель, виртуозно владеющий языком и обладающий широчайшими возможностями литературного воздействия, европейский прозаик, каких среди немцев имелось, может, два-три, а среди немецких философов и вовсе ни одного… Да, это было внове, и воздействие было необычайным – на интеллектуальную Европу, пережившую и «преодолевшую» моду, на умершего Томаса Будденброка, и на меня, кто не умер и для кого это наднемецкое явление духа стало одним из источников столь неприличного с литературной точки зрения «патриотизма».
Примерно тогда же достигла вершины, или по крайней мере приблизилась к высшей точке, моя страсть к гезамткунстверку Рихарда Вагнера – я говорю «страсть», поскольку слова попроще, «любовь» или «восторг», не вполне точно отражают суть дела. Годы наибольшей способности увлекаться нередко становятся и порой наибольшей психологической восприимчивости, в моём случае мощно усиленной аналитическим чтением, а увлечённость в сочетании с познанием и есть страсть. Самым сокровенно-тяжким и плодотворным открытием моей молодости стало то, что страсть прозорлива – или не заслуживает своего названия. Любовь слепая, панегирически-дифирамбическая – смазливая придурковатость! Известного рода признанную литературу о Вагнере я и читать-то не мог. Но обостривший восприятие анализ, о котором я упомянул, вышел из-под пера Фридриха Ницше, анализ в особенности художничества, или, что для Ницше одно и то же, анализ Вагнера. Ибо везде, где в его сочинениях заходит речь о художнике и художничестве – к коим он отнюдь не благоволит, – без колебаний, даже если оно не встречается в тексте, можно подставить имя Вагнера; в основном на Вагнере Ницше познал и изучил если и не само искусство – хотя можно утверждать и это, – то по меньшей мере феномен художника, как позже куда менее одарённый потомок посредством этого анализа со страстью познавал творчество Вагнера, а в нём – почти само искусство, причём в решающие годы, и анализ этот навсегда определил мои представления о художественном и художническом, а если не определил, то как минимум окрасил, повлиял, и вовсе не в душевно-религиозном, скорее уж в слишком скептически-лукавом смысле.
Страсть есть проницательная увлечённость, прозорливая любовь. Прошу мне поверить, постоянство моей страсти к Вагнеру ничуть не пострадало оттого, что та преломилась в психологии и анализе, по утончённости, как известно, не уступающим своему колдовскому предмету. Напротив, самым тонким, самым острым жалом страсть впилась в меня именно тут, стала подлинной, отвечая всем требованиям, какие только подлинная страсть может предъявить нервному напряжению. Искусство Вагнера, каким бы ни казалось поэтичным, «немецким», в себе и для себя в высшей степени современно и не так уж невинно; умное и тонкое, тоскливое и скользкое, оно умеет так сочетать усыпляющие и бодрящие ум средства и свойства, что ценитель изматывается вконец. Увлечение им становится чуть не пороком, входит в отношения с нравственностью, приводит к безоглядному этическому погружению во вредное, выедающее внутренности, если оно окрашено не доверчивым энтузиазмом, а сплавлено с анализом, самые нелицеприятные прозрения которого в конечном счёте суть лишь форма прославления и, опять же, свидетельство страсти. Даже в «Ессе homo» есть место о «Тристане», являющееся вполне достаточным доказательством, что отношение Ницше к Вагнеру так и осталось сильнейшей любовью, вплоть до паралича.
Интеллектуальное название «любви» – «интерес», и тот не психолог, кто не знает, что интерес – отнюдь не блёклый аффект, что он куда интенсивнее, к примеру, аффекта «восхищения». Это, собственно, и есть писательский аффект, и анализ не просто не уничтожает его, но непрерывно питает – совсем не по-спинозиански. Так что интерес – вовсе не панегирик, он критика, резкая, даже злая, практически памфлет, если она остроумна и порождена страстью, утоляющей жгучий интерес; одно лишь восхваление для него пресно, он полагает, тут ничему не научиться. А если ещё удастся с толком воспеть предмет, личность, острую проблему, то выйдет нечто удивительное, почитающее почти делом чести остаться непонятым, продукт коварного, ловко сбивающего с панталыку восхищения, на первый взгляд до путаницы похожий на пасквиль. Я сам недавно дал незначительный тому пример, внеся в дискуссию о войне свою лепту – в виде историзирующего опуса, очерка жизни Фридриха Прусского, внушённого, даже выдавленного событиями эпохи сочиненьица, от публикации которого поначалу – война длилась ещё недолго – меня настойчиво отговаривали обеспокоенные друзья, и не из-за оскорбляющего литературу «патриотизма», а как раз по противоположным причинам…
Я знаю, к чему веду, говоря об этом. Оба – Ницше и Вагнер – великие аналитики немецкости; один использует опосредованный, художественный метод, другой – непосредственно писательский, причём, как нынче принято, по интеллектуальному осмыслению и многомерности художественный не отстаёт от писательского. Так вот, если не считать Ницше, в Германии не было анализа Вагнера, ибо «нелитературный» народ тем самым и непсихологичен, антипсихологичен. Бодлер и Баррес сказали о Вагнере лучше, чем все его немецкие биографии и апологии, а теперь вот швед В. Петерсон-Бергер в своей книге «Вагнер как культурное явление» дал нам, немцам, пару подсказок, каким боком лучше подходить к этому в невероятнейшем смысле интересному явлению – по-демократически прямо и смело, это позволяет хоть что-то в нём рассмотреть. Швед говорит о национализме Вагнера, о его искусстве как искусстве национально-немецком, отмечая, что немецкая народная музыка стала единственным направлением, которое не вобрал в себя его синтез. Ради колорита он, дескать, ещё может подпустить народную немецкую ноту, как в «Мейстерзингерах» или «Зигфриде», но она не является основой, отправной точкой его музыкальных сочинений, источником, из которого те фонтанируют, как у Шумана, Шуберта или Брамса. Необходимо отличать, полагает швед, народное искусство от национального: первое нацелено вовнутрь, второе – вовне. Музыка Вагнера скорее национальна, нежели народна; конечно, в ней много такого, что именно иностранец воспримет немецким, но при этом она несёт явную печать космополитизма. Что ж, легко попасть в цель, когда тебя заточили. Вагнер как духовное явление в самом деле колоссально немецкий, мне даже всегда казалось, что, дабы если не понять, так хоть чуточку почувствовать не только глубокое великолепие, но и мучительные противоречия немецкого естества, непременно нужно со страстью погрузиться в его творчество. Но помимо того что Вагнер – взрыв откровения немецкого естества, это ещё и его инсценировка, интеллектуализм и плакативное воздействие которой доходят до пародии, гротеска; инсценировка, которая, если говорить предельно грубо, моментами не может полностью избавить от подозрений, что имеет некое отношение к экспортной продукции, созданной с целью вырвать у содрогающейся от любопытства антантовской публики возглас: «Ah, ça c’est bien allemand par exemple!»
Итак, немецкость Вагнера, какой бы ни обладала подлинностью и мощью, на сегодняшний манер надломлена и надорвана, декоративна, аналитична, интеллектуальна; и сила её очарования, её врождённая способность к космополитическому, к всепланетарному воздействию – отсюда. Его искусство – небывалый автопортрет и небывалое самопостижение немецкого естества, какое только можно представить; оно исполнено так, что его немецкость покажется интересной даже полному ослу, если это иностранный осёл, и страстное увлечение им всегда становится и страстным увлечением немецкостью, которой оно поёт аналитически-декоративный гимн. Искусство это было бы таким уже в себе и для себя, но насколько же выигрывает, когда ведомо анализом, который, вроде бы говоря об искусстве Вагнера, в действительности говорит о немецкости в целом, хотя и не всегда столь откровенно, как в блестящем разборе увертюры к «Мейстерзингерам» из «По ту сторону добра и зла» (начало восьмого отдела). Если Ницше как знаток Вагнера и имеет соперников за границей, то как знаток немецкости он, ей-богу, не имеет их нигде, ни там, ни тут; именно Ницше нашёл для неё самые злые и самые прекрасные слова, и гениальность словоохотливости, которая овладевает им, несёт его за разговорами о немецком, о проблеме немецкости, – свидетельство его довольно-таки страстного к данному предмету отношения. Твердить о враждебности Ницше к немецкому, что иногда случается в Германии (заграница с большего расстояния видит точнее), так же пошло, как и называть его антивагнернанцем. Он любил Францию по причинам артистически-формальным, уж точно не по политическим; но покажите мне, где он говорит о Германии с тем же презрением, какое вызывал у него английский утилитаризм, английская немузыкальность! Честное слово, не вправе ссылаться на Ницше политические блюстители нравов, позволяющие себе литературно пороть свой народ, поучать его в выражениях, заимствованных из трескучей терминологии западного демократизма, но ни разу, ни разу в жизни не нашедшие ни единого слова проницательной страсти, закрепившего за ними право хотя бы поддакивать в разговорах о немецком… Я что хотел сказать: молодой человек, которого обстоятельства времени, вкус вынудили в основание своей культуры положить искусство Вагнера и анализ Ницше, воспитывать себя в первую очередь на них, не мог вместе с тем не увидеть в собственной национальной среде, в немецкости крайне занятный европейский элемент, провоцирующий страстную критику; в нём, и довольно рано, развился своего рода психологически ориентированный патриотизм, не имевший, разумеется, ничего общего с политическим национализмом, но всё же породивший определённую возбудимость национального самосознания, определенную нетерпимость к пошлым, проистекающим из невежества оскорблениям; примерно так любитель искусства, имеющий за плечами опыт глубокого проживания Вагнера, но по высшим духовным соображениям ставший противником его искусства, в ответ на ругань отстало-дремучей безграмотности будет испытывать нетерпеливое раздражение. «Интерес», перевернём уже сказанное, – это интеллектуальное название аффекта, чьё сентиментальное название – «любовь».
Шопенгауэр, Ницше, Вагнер – трёхзвездие навеки сочленённых душ. Под ним Германия, мир стояли до вчерашнего, до сегодняшнего дня, пусть даже завтра будет иначе. Глубоко, неразрывно переплетены судьбы этих творцов и властелинов. Ницше называл Шопенгауэра своим «великим учителем»; мир знает, каким невероятным счастьем стала встреча с Шопенгауэром для Вагнера; трибшенская дружба, хоть и умерла, бессмертна, как бессмертна последовавшая за ней трагедия, которая никогда не была и не будет разрывом, лишь духовно-историческим перетолкованием и переакцентировкой этой «звёздной» дружбы. Все трое – одно. Робкий ученик, для которого их мощные жизни стали культурой, желал бы научиться говорить обо всех разом, столь трудно ему дробить то, чем он обязан каждому. Если морализм (более ходовое название которому – «пессимизм») проступившего уже в первых опытах основополагающего душевного настроя, настроя «креста, смерти и склепа», у меня от Шопенгауэра, так этот, говоря словами Ницше, «этический воздух» есть и у Вагнеpa; им и только им дышит его огромное творение, и с таким же успехом я могу сослаться и на его влияние. Однако если именно этот настрой сделал из меня психолога упадка, то тут я учился у Ницше, ибо с самого начала он был для меня не столько пророком какого-то невзрачного «сверхчеловека», как в пору царившей на него моды для большинства, сколько величайшим, опытнейшим, не имеющим себе равных психологом декаданса…
Редко, думается мне, влияние Вагнера на немузыканта и ещё более последовательного недраматурга оказывалось столь сильным, решающим, как, должен признать, в моём случае. Он повлиял на меня не как музыкант, не как драматург, не как «музыкальный драматург», а как художник вообще, как современный художник par excellence, коего приучил меня видеть в нём ницшев анализ, и прежде всего как великий создатель музыкального эпоса, прозы и символа – а кто же он ещё? Подручный набор средств, воздействие вообще (в отличие от эффекта, этого «беспричинного воздействия»), эпический дух, зачины и финалы, стиль как таинственная подгонка личностного к наличному, создание символа, органичная цельность сделанного, не упускающая ни единой подробности, не разлагая его совокупность, – всем, что мне об этом известно, в чём я в отведённых мне пределах пытался упражняться, что пытался выстраивать, я обязан самозабвенной увлечённости этим искусством. И сегодня ещё, когда слуха моего нежданно коснётся ассоциативный оборот, толика звука из музыкального космоса Вагнера, я вздрагиваю от радости. А для юноши, которому не нашлось места дома, который жил в своего рода добровольном изгнании на нелюбезной сердцу чужбине, этот художественный мир был буквально родиной души. Экскурсия с завершающим её концертом на Пинчо… и затесавшийся в толчею млеющей от пошлых наслаждений интернациональной элегантности, сирый, полунеприкаянный юноша стоял у подиума под густо-синим небом, которое давило и давило ему на нервы, под пальмами, к которым он был равнодушен, и с подгибающимися от восторга коленями впитывал романтическую весть прелюдии к «Лоэнгрину». Припомнил ли он те минуты двадцать лет спустя, когда между духом прелюдии к «Лоэнгрину» и интернациональной элегантностью разразилась война? Может, эти воспоминания также повинны в рефлекторно занятой им в войну нелитературной позиции? Демонстрация Вагнера на пьяцца Колонна! Маэстро Весселла, тогда дирижёр муниципального оркестра (с литаврами; появление на пьяцца литавр означало, что концерт будет давать не меднолобая военная капелла, а городской оркестр и что в программе будет Вагнер), – так вот, Весселла, глашатай немецкой музыки в Риме, играет погребальный плач по Зигфриду. Всем понятно, будет скандал. На площади давка, все балконы забиты. Фрагмент выслушивают до конца, а затем начинается сражение между нарочитыми аплодисментами и национальным протестом. Выкрики «Bis!» и рукоплескания. Выкрики «Basta!» и свист. Вроде бы оппозиция берёт верх, но Весселла играет на бис. На сей раз демонстрация беспощадно вторгается в самую плоть музыки. Piano раздирают свист и громкие требования играть родную музыку, однако на forte победу одерживают одобрительные возгласы энтузиастов. Но никогда мне не забыть, как под «Evviva!» и «Abbasso!» повторно прозвучал мотив Нотунга; как распростёр он свои мощные ритмы над уличной мировоззренческой сварой, как в момент кульминации, на том пробирающем насквозь громовом диссонансе перед двойным до-мажорным аккордом поднялся вой ликования, накрыв, безнадёжно потеснив и на довольно долгое время погрузив потрясённую оппозицию в растерянное молчание… Стиснутый толпой двадцатилетний чужеземец – чужой здесь, как и эта музыка, на пару с этой музыкой, – стоял на мощёной площади. Он не кричал вместе с публикой – ему перехватило горло. Лицо, обращённое к подиуму, который уже штурмовали итальяниссими, а музыканты обороняли при помощи инструментов, – вскинутое, ощущавшее собственную бледность лицо улыбалось, а сердце колотилось от безудержной гордости, от юношески болезненных ощущений… От гордости за что? От любви к чему? Только ли к спорному художественному вкусу? Вполне возможно, двадцать лет спустя, в августе 14-го, он вспоминал пьяцца Колонна и нервные слёзы, что когда-то, по случаю победы мотива Нотунга, стремительно застлав взор, текли по холодному лицу, а он не мог их утереть – чужая толпа не давала ему поднять руку. И всё же я прав. Даже если сильнейшее потрясение от этого искусства и стало для юноши источником патриотических чувств, то было наднемецкое духовное потрясение, которое я разделил с интеллектуальной Европой, как Томас Будденброк – своё. Этот немецкий музыкант уже не был «немецким музыкантом» в прежнем, интимном, собственном смысле слова. Он, конечно, оставался очень немецким (можно ли быть музыкантом, не будучи немцем?), однако околдовало меня в его искусстве не немецко-национальное, не немецко-поэтическое или немецко-романтическое (а если и так, то лишь в силу интеллектуализации и декоративной самоподачи), но исходившее от него сильнейшее европейское очарование, доказательством чему служит нынешнее, почти уже вненемецкое значение Вагнера. Нет, я не был настолько немцем, чтобы не видеть глубинное психологически-артистическое родство средств воздействия Вагнера, Золя и Ибсена. Последние так же мастерски владели прежде всего символом, тиранической формулой; особенно Золя, этот западный романсье, такой же натуралист и романтик, как и Вагнер, представляется истинным его собратом по воле и способности одурманивать, покорять массы… «Ругон-Маккары» и «Кольцо Нибелунгов» – «вагнерианец» не поставит их в один ряд. И тем не менее они в одном ряду – для рассмотрения, если уж не для любви. Ведь случается, разум упорно проводит параллели там, где аффект стремится избавиться от них раз и навсегда. «Ругон-Маккары» и «Кольцо Нибелунгов»! Надеюсь, меня не поставят перед выбором. Боюсь, я решил бы вопрос «патриотически».