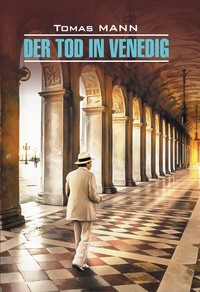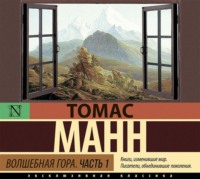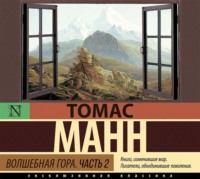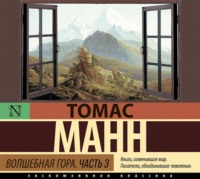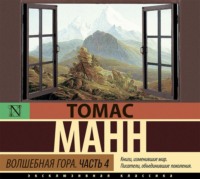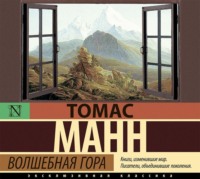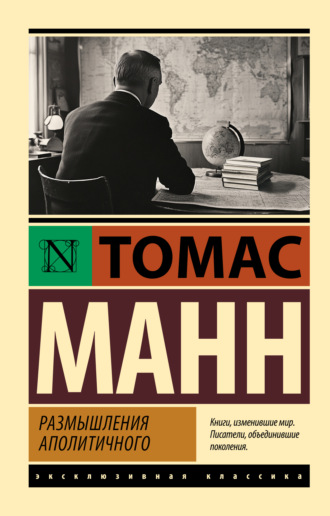
Полная версия
Размышления аполитичного
Далее, книга, в которой я придал форму этому душевному опыту, писалась на мюнхенской земле, куда я был пересажен довольно рано, и эта случайность (или неслучайность) также извиняет и объясняет мою политическую сонливость. Разумеется, баварская столица в известной степени участвовала в преображении немецкого бытия. Вторжение ново-немецкого духа, американизация немецкого стиля жизни приняли здесь облик какой-то неуклюжей коррупции, махинаторства и предпринимательства своеобразно наивного оттенка, и моя безучастность не помешала кое-что тут увидеть. Осовремениваясь по собственным законам, город сохранил свой исторический характер центра искусств, с энтузиазмом увлёкшись туристической индустрией: сегодня, в мирные времена, это метрополия-курорт, в авангарде – процветающее гостиничное дело и своего рода союз украшателей, при содействии энергичнейшей рекламы безостановочно предлагающий интернациональной путешествующей публике богатый выбор местных культурно-бодрящих высококачественных развлечений. Имеющая здесь глубокие корни художническая культура не столько духовна, сколько чувственна; Мюнхен – город прикладного, причём празднично-прикладного искусства, и классический мюнхенский художник – всегда прирождённый устроитель празднеств и карнавальщик. Наверное, то обстоятельство, что я живу тут в состоянии некоего протеста против этой культуры чувств и праздников, во «Фьоренце» придало фанатично-духовной критике монаха по адресу правления Лоренцо Великолепного личный оттенок. Но остался я здесь, а не перебрался, скажем, в Берлин, не из-за одной лишь инерции. Праздный вопрос, что бы из меня получилось, проведи я эти двадцать два года, первая половина которых стала в моём развитии решающей, не в Мюнхене, а в терпком воздухе прусско-американского города мира. Во всяком случае, есть своя привлекательность и польза, чтобы жить протестом и иронией по отношению к окружающему; это обостряет чувство жизни, в таких условиях живётся своеобычнее и сознательнее. Правда, если подумать, так мюнхенская атмосфера потому имела и имеет нечто для меня родственное, мне сообразное, что здесь ещё довольно ощутима, жива старинная немецкая смесь искусства и бюргерства. Город этот напрочь нелитературен, литература не имеет тут почвы. Но сколь плохо здешний бюргер знает, что такое литератор (а он в самом деле не имеет ни малейшего о том представления, писатель живёт здесь совершеннейшим инкогнито), столь хорошо ему известно, что такое художник, и не только потому, что мюнхенцу объяснили это его короли. Франк Ведекинд сказал как-то, что мюнхенский бюргер – уже художник, поскольку желает, во‐первых, веселиться и, во‐вторых, чтобы его не трогали; это и впрямь – до сих пор – совершенно мюнхенское определение художничества, которое едва ли будет понятно где-либо ещё; я двадцать лет жил молчаливым протестом именно против этого. Куда важнее, однако, что художничество здесь в самом деле традиционно, естественно прорастает из бюргерства и срастается с ним навсегда; что коренное мюнхенское бюргерство и ремесленничество пропитано художничеством. Духовно-культурная и даже социальная дистанция между ремесленником (artista), являющимся носителем не личной, не приобретённой культуры, и членом Академии художеств очень мала; и когда один из братьев, носящих старинное бюргерское имя, становится, например, пекарем или пивоваром (и членом «художественного кружка»!), а другой – знаменитым архитектором или мастером художественного литья – это очень по-мюнхенски. Подобная культурная атмосфера, более чем характерная для старинных немецких городов (нигде не услышать таких «Мейстерзингеров», как в Мюнхене, даже в буржуазном Нюрнберге), несомненно, способствовала тому, что мне толком не довелось увидеть преображение немецкого бюргера в буржуа; эта атмосфера сохранила мне бюргерство, пусть ещё менее духовное в литературном смысле, чем родное, пусть не обладавшее его материально-аристократической культурой жизни, зато бывшее культурой непосредственно чувственно-художественной; я видел, как из бюргерского естества вырастает не отвердевший буржуа, а художник; и в данном случае вырождение совершенно ни при чём.
Короче, должен признаться, мне повезло: я видел не самое скверное преображение. Происхождение, жизнь почти сокрыли от меня превращение немецкого бюргера в буржуа. Тому способствовало и моё «знание» – если, будучи художником поколения «натуралистов», не очень-то почитавшего позитивную учёность, я вправе хоть как-то претендовать на интеллектуальное знание. Я назвал двух своих духовных воспитателей, которые были не просто близки к сфере искусства, но огромной частью своего естества жили в ней. Не знаю ни одного специфически буржуазного философа, не читал. Я не пошёл дальше Шопенгауэра и Ницше, а они, ей-богу, не были буржуа. Шопенгауэр ещё полностью принадлежит бюргерско-романтической эпохе, а Ницше в той степени, в какой он выходит за пределы как романтизма, так и бюргерства, бесспорно, вводит что-то новое, ещё безымянное, по крайней мере не имеющее одного имени; его кровная учёно-литературная связь с немецким романтизмом прекрасно описана (Йоэль), а тончайшие корневые волоконца естества питались немецко-идеалистической гуманистичностью, пронизывающей и такие поздние высказывания (из письма Овербеку – 1880 года!): «Я бесконечно благодарен тебе, дорогой друг, за то, что получил возможность рассмотреть полотно твоей жизни вблизи. Да, Базель дал мне два портрета – твой и Якоба Буркхардта. <…> Достоинство и прелесть собственного и по большей части отшельнического пути в жизни и познании: это зрелище подарила мне благосклонность судьбы, которую нельзя переоценить». Разве не отсюда, не из этого духа вышла антитеза furor philosophicus и furor politicus? Антитеза воистину немецкая! Под «философией» тут понимается нечто в высшей степени не французское и не исключительно учёное. Это слово используется здесь в бюргерски-культурном, в немецком смысле, и если для Ницше, называвшего себя «последним неполитичным немцем», философский духовный уклад лучше, выше, благороднее политического, то и это в высшей степени по-немецки, в высшей степени по-бюргерски – в том смысле, который я придаю этому слову; и никакие хронологические доводы не разубедят меня в том, что такая немецкость и есть бюргерство; для меня – как я живу, как вижу – она не может не быть чем-то бессмертным, не подверженным гибельной коррозии под воздействием будь то эволюции, будь то прогресса.
Сегодня во главе империи стоит человек, которого в народе и дешёвых газетах любят называть «философом», – насмешка, ибо подразумевается, что он плохой политик. Но если признать, что господин фон Бетман-Гольвег – политик он там или нет – именно в наше военное время, будучи достойным выразителем немецкого естества, на своём месте; если считать удачным, как считаю удачным и правильным я, что это место занимает не скользкий, светский и куда более антантовский князь Бюлов; если далее принять, что государственный деятель, выражающий интересы Германии этой войны духовно-политически, не юнкер, не буржуа, а в самом духовном, самом достойном смысле выражает интересы бюргера, просвещённости, гуманности, «философии» и благонравия, то нельзя не согласиться с тем, что тип немецкого естества и по сей день раскрывается в свете того, что я разумею под словом «бюргерство». Хорошо понимая обеспокоенность, даже ненависть атакующих его патриотов, я не намерен скрывать симпатии к личности этого рейхсканцлера, по крайней мере к типу, который он представляет. Фон Бетман-Гольвег не случайно стоит сегодня во главе государства, как не случайно и то, что, невзирая на все нападки, стоит пока крепко. По духовным и даже, как ни смело это прозвучит, художественным причинам едва ли кто решится расстаться с ним в разгар нынешнего кризиса немецкости.
Может, достаточно? Ещё два слова. Ибо, сказав, почему я несколько проспал превращение немецкого бюргера в буржуа (причина в том, что я проживал процесс дебюргеризации слишком интимно-психологически, совершенно не политически), не хотел бы утаить от себя и то, почему бюргер в своём поновлённом облике всё-таки не полностью исключён из сферы моих исследований и даже душевного участия; более того, почему результаты этих исследований и участие нашли отражение в творчестве. Моя чуточка прозы изначально не могла обходиться без аналитических впрыскиваний, настолько, что понятия «проза» и «анализ» казались мне почти идентичными. Но аналитизм мой всегда имел отношение к жизни, а не к каким-то политическим напастям, и хоть писательство, даже поэзия означали для меня почти исключительно анализ действительности при помощи духа, я был настроен, пожалуй, слишком позитивно, чтобы питать поэтическое расположение к чисто негативным характеристикам, памфлету, брезгливой сатире. Думаю, образ вообще не создать, не испытывая к нему симпатии; чистое отрицание порождает плоскую карикатуру. Если мне что и удалось симпатически понять в моём времени, так это его род геройства, современную подвижническую форму и стиль жизни чрезмерно нагруженного, чрезмерно натасканного, «работающего на грани истощения» трудяги, этически нацеленного на результат… В этом единственная точка моего душевного соприкосновения с типом нового бюргера, но точка важная, меня потрясшая. Я ни разу не изобразил его как реального человека, как политико-экономическое явление; для того недостало ни сочувствия, ни знания. Но мне всегда казалось, что поэтическое есть символ, и смею сказать, в написанном мною нет почти ничего, что не стало бы символом героизма, свойственного этому современному, необюргерскому типу. Под таким углом зрения даже Томас Будденброк – не просто немецкий бюргер, но и современный буржуа; он первый персонаж, при создании которого пригодился этот важнейший опыт, который впоследствии, созидая форму и символ, вторгался и в мою работу над образами главных героев возрожденческой пьесы, над всей жизнью романа о принце, вплоть до Густава Ашенбаха.
Для меня имеет некоторое значение, что я совершенно самостоятельно, безо всяких книг, в результате непосредственного наблюдения выпестовал, выносил мысль, что современный капиталистический человек заработка, буржуа со своей аскетической идеей профессионального долга является порождением протестантской этики, пуританизма и кальвинизма, и лишь задним числом не так давно заметил, что о том же думали и говорили учёные мыслители. Макс Вебер в Гейдельберге, затем Эрнст Трёльч рассуждали о «протестантской этике и духе капитализма», а до крайности эта мысль доведена в труде Вернера Зомбарта «Буржуа», вышедшем в 1913 году и трактующем капиталистического дельца как синтез подвижника, торговца и бюргера. То, что Зомбарт в значительной степени прав, вытекает из следующего: за двенадцать лет до того, как он выдвинул эту теорию, я вообразил её в ипостаси романиста, если, конечно, влияния на мысль учёного не оказал образ Томаса Будденброка, материальное предвосхищение его гипотезы. Но вот что хотелось бы добавить: у меня есть предположение, равное уверенности, что наше единодушие относительно психологического ряда «кальвинизм – бюргерство – геройство» стало возможным благодаря тончайшему духовному инструменту – Ницше, ибо без этого покорившего время явления, оказавшего влияние на духовный опыт эпохи во всех его мельчайших подробностях и ставшего воистину героическим явлением неслыханно нового, современного толка, представитель социальных наук едва ли додумался бы до своей протестантско-геройской доктрины, а романист едва ли увидел бы образ своего «героя» так, как увидел. В книге об Овербеке и Ницше Бернулли, пытаясь дать читателю представление о ницшевом «героизме слабости», решил привести фрагмент из моих флорентийских диалогов; ему не пришло бы это в голову, не будь процитированные реплики пропитаны духом Ницше. Однако тот же швейцарский исследователь где-то назвал Ницше «безбожным Кальвином», а в другом месте убедительно показал, что в политическом отношении Ницше изначально был заступником среднего сословия…
Смею сказать, молодость не помешала мне распознать в Ницше моралиста ещё тогда, когда уличная мода на него сводилась к своего рода лихорадочному преклонению перед силой и «красотой». Но где же искать душевные предпосылки и истоки этической трагедии его жизни, этого бессмертного европейского зрелища самопреодоления, самообуздания, самораспинания с жертвенной духовной смертью в душе- и умораздирающем финале, как не в протестантизме сына наумбургского пастора, не в той северно-немецкой, бюргерско-дюреровско-нравственной среде с непременной гравюрой «Смерть, рыцарь и дьявол», навсегда оставшейся родной для этой строгой, такой не «южной» души? «В Вагнере, – пишет Ницше Роде в октябре 1868 года, – мне мило то же, что и в Шопенгауэре: этический воздух, Фаустов дух, крест, смерть и склеп». Примерно в это же время в Базеле трижды за неделю – Страстную неделю – он прослушал «Страсти по Матфею»… Крест, смерть и склеп! Он метал поздние, сернистые молнии в «аскетический идеал», но сам был бескомпромисснейшим, фанатичнейшим аскетом в истории духа. Он называл Ренана уличным клоуном in psychologies, поскольку тот приписал личности Христа черты «гения» и «героя», – но кем был он сам, как не героем, гением и «распятым» в одном лице? Ибо, право, нельзя считать подпись под той запиской безумия, адресованной датскому критику, подписью слабоумия и недоумия…
Предосудительно ли с моей стороны говорить, или лепетать, о столь высоких и страшных материях, когда речь идёт о куда меньшем – о буржуазном человеке заработка и результата, а также о душевно-символической симпатии, помешавшей мне отнестись к нему с отвращением? Мир глубок – повсюду, в любом своём проявлении; теперь-то я вижу, как трагически-этический опыт Ницше вошёл в мой собственный – бюргерский – опыт человека, исповедующего этос результата, пусть об учёных психологах капитализма этого сказать никак нельзя. Я вижу далее, что именно это эмоциональное понимание связи капиталистического необюргерства с протестантской этикой и привело к известной новизне моих писаний в плане анализа времени. Наконец, я вижу, что мой «патриотизм» 1914 года в значительной мере был внезапной и, пожалуй, всё-таки вре́менной политизацией этой симпатии, этого символического сочувствия.
Anno 1914 «цивилизация» объявила войну «милитаризму». Так вот, для меня «милитаризм» был почти исключительно новизной, крайне подверженным бесчисленным опасностям и напряжённым наличным бытием с «плохими границами». В цивилизации же я видел полную противоположность, то есть безопасность и вялость. Правда, героизм Германии, природу которого нельзя считать только наступательной или только оборонительной, вовсе не казался героизмом слабости, напротив, пышущей силы, и всё-таки это был ещё тот самый героизм, что пронизывает всю историю становления неправдоподобной и тем не менее весьма реальной империи, где как по внешним, так и по внутренним причинам почти невозможно заниматься политикой, но которую тем не менее её сила, хватка, новизна обрекли на великие начинания, на большую политику; историю народа, подобно Гамлету в общем-то не рождённого для поступка, но неотвратимо к нему призванного. Призванность, будь то к знанию или к поступку, для которых ты не рождён, всегда казалась мне смыслом трагического, а где трагизм, там имеет права и любовь. Преклонение перед шопенгауэровым отождествлением мужества и терпения, любовь к «вопреки», или – позволим себе ещё разок отвратительно-предосудительное слово – к этосу «стойкости», довольно рано подвели меня к величественному образу жуткого и популярного короля, чьи свершения и страдания проложили всему этому дорогу… Я видел, как в истории зарождения нашей войны во всех деталях – до смешного – повторяется история Фридриха. Я их записал – и ту, и другую. Да, я испытывал восторг. Но не как ура-патриот или услужливый попутчик, а восторг от Истории, психологического узнавания – и бесконечного сочувствия. Это сочувствие, сопереживание трагически-исторической судьбе Германии в понимании литератора цивилизации были «противодуховны», знаю. А по мне – так человечны и поэтичны, и стыдиться их, нет, я не стану.
«Против права и правды»
Дело проясняется: если я вынужден сомневаться в своём праве на патриотизм, если оно нуждается в оправдании перед моей совестью, то не столько потому, что я не очень настоящий немец, сколько потому, что мои отношения с политикой, по доброй немецкой традиции, суть безотносительность. Ибо политика – это участие в государстве, пылкая к государству страсть, а наш брат каких угодно, только не гегельянских взглядов; не думаю, что государство нужно «почитать как нечто божественно-земное»; я вижу в нём не «самоцель», а скорее нечто техническое, нежели духовное, машину, следить за которой, обслуживать которую есть дело знатоков, и не только не считаю предназначением человека пребывание в государственно-общественной сфере, но, напротив, полагаю такое воззрение отталкивающе негуманным; по-моему, важнейшие составляющие человеческого духа – религия, философия, искусство, поэзия, наука – существуют помимо, превыше, вне государства, а зачастую и вопреки; любое использование, мысль об использовании этих составляющих человеческого духа в качестве государственных, то есть любая официальная, унифицированная и регламентированная духовность, думается мне, провоцирует иронию, равно как и «министерство изящных искусств»; лично я никогда не горел желанием иметь дело с государством; чувства мои к нему всегда были донельзя халатно-хладными и индивидуалистически-неверноподданническими; я был аполитичен, был тем, кого литератор цивилизации называет «эстетом»… Но разве патриотизм не политика? Разве, будучи политикой, он не придаёт художнику экстравагантности? Ведь политика бесчеловечна, а дело художника если не «человечное», то по крайней мере человеческое. Хорошо понимаю тех, кто говорит: «Я не могу любить или ненавидеть целый народ; я знаю только людей». Ну да, иногда и мне кажется, что художнику подобает думать лишь так, хотя
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.