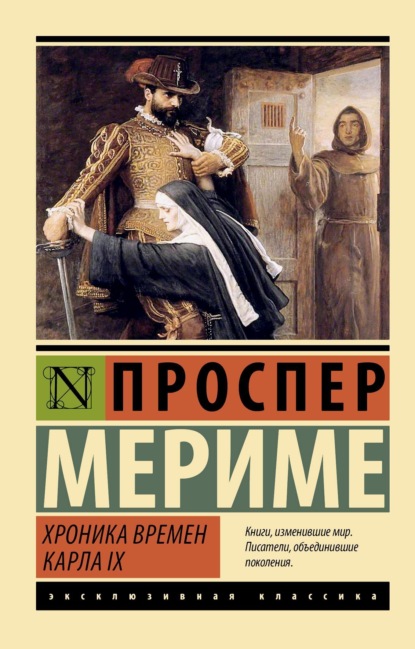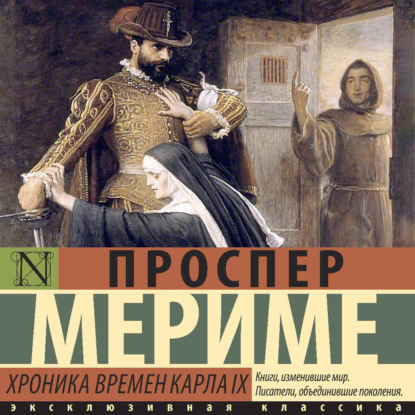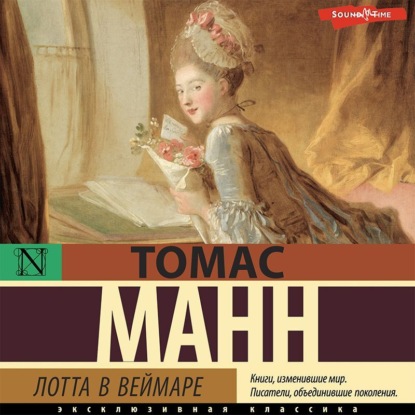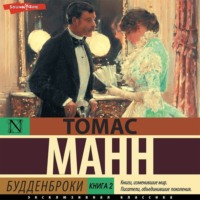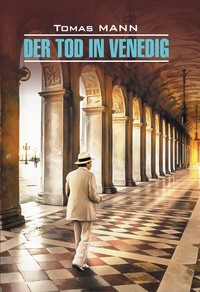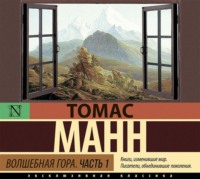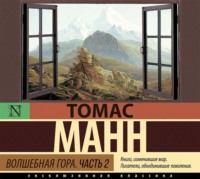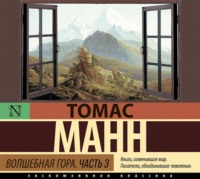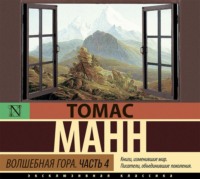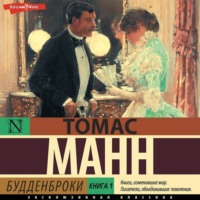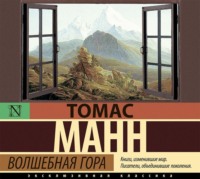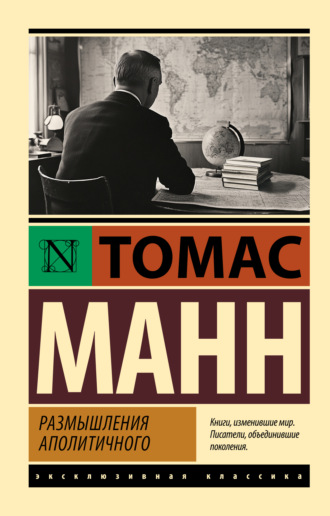
Полная версия
Размышления аполитичного
Стало быть, теперь и «наша участь такова», то есть участь «в пылу сражений и в кризисные времена воплощать идеи». Какой вздор! Политическое воплощение идей не может быть, никогда не будет миссией, задачей, «участью» Германии. Политизация духа, как его понимает литератор цивилизации, наталкивается здесь на глубочайший, инстинктивнейший, неукротимейший протест, ибо убеждение, что при этом околеют и политика, и дух, что философия как образ мышления и основа общества и государства таит опасность и для политики, и для духа, здесь природно, сущностно, главная составная часть народного этоса. Опросите людей знающих, сведущих в душах народных, они раскроют вам глаза на сдержанность немецкой демократии. Убедят, что причина её не в презрении к духу, а в благоговении перед ним, порождающем скептическое отношение к любым программам действий по его политическому «воплощению». Немецкая демократия не настоящая, поскольку она не политика и не революция. Её политизация, нацеленная на стирание, нивелирование противоположности между Германией и Западом в этом отношении, – безумие. Такой слом не произвести ни институтами, ни реформами выборного права и т. п., этого не отрицают и его сторонники; тут требуется изменение духовной структуры, полное преобразование народного характера – правда, именно этого так желает немецкий sapadnik, а потому так в это верит. Он грезит и заблуждается. Экономическое равновесие ради высвобождения индивидуальных творческих сил, в лучшем случае как государственно-техническое, педагогическое средство выявления политических задатков – вот что такое немецкая «демократия», пока она таковой остаётся, то есть более «немецкой», чем «демократией»; никогда её сутью не будет «политизированный дух», т. е. политическое воплощение «идей» и инсценировка фонтанирующих духом скандалов между саблями и опахалами, с одной стороны, и «справедливостью» – с другой… Разве я не прав?
И всё же: какая торжествующая убеждённость слышится в процитированных словах манифеста, уже не воинственная, а перешедшая в излучающее блаженство добродушие! Разве можно отмахнуться от такого победительного субъективного сознания, просто пожав плечами? И разве сам я не говорил, что его надежды, вера, торжество имеют некоторую иллюзию права? Разве духовно-политическое вторжение Запада потерпело такой же крах, как и военное? Это априори маловероятно, так как сила военного сопротивления Германии – признаем же то, что знаем! – отнюдь не равняется силе сопротивления её национального этоса. Духовно-политическое вторжение не потерпело крах и не могло этого сделать, ибо столкнулось не просто с этической слабостью, а прямо-таки с отзывчивостью: ему был проложен путь, и не вчера. Национальный этос Германии по ясности, отчётливости не сравнить с этосом других народов, ему недостаёт «самоуверенности» – во всех смыслах этого слова. Он не имеет чётких очертаний, у него такие же «плохие границы», как и у самой Германии. Но самая большая его слабость – неготовность к слову. Он не умеет говорить, а когда его всё же пытаются облечь в слова, те звучат убого и негативно: не немецкое, мол, дело «воплощать идеи». Политический же этос цивилизации с его прекраснодушно-риторической литературностью обладает прямо-таки неотразимым задором и запалом наступающих революционных армий. В осаждённых городах у него есть восторженные поклонники, друзья, союзники, предатели из великодушия, отворяющие ему врата. Скоро пятьдесят лет, как Достоевский, имевший глаза, чтобы видеть, почти недоверчиво спросил: «Неужели правда, что и в Германии уже силён космополитический радикализм?» Такой род вопрошания вплотную подходит к изумлённой констатации, да и само понятие космополитического, вернее, интернационального радикализма противоречит уверениям, что представление о будущем сплочении национальных демократий в духовно единую общеевропейскую или мировую есть, дескать, «фантазм» наших нынешних врагов. То, что Достоевский называет «космополитическим радикализмом», есть духовное направление, имеющее целью демократическое цивилизованное общество «человечества», la république sociale, démocratique et universelle, empire of human civilisation. Фантазм врагов? Так или иначе, те, кому он мерещится, непременно враги Германии, ибо какие сомнения, что при сплочении национальных демократий в европейскую и мировую от немецкого естества не останется и следа; мировая демократия, империя цивилизации, «общество человечества» может носить более романский или более англосаксонский характер, но немецкий дух в нём испарится, исчезнет, будет вытравлен, его просто не будет. Рихард Вагнер как-то сказал, что цивилизация рассеивается от музыки, как туман от солнца. Но то, что в один прекрасный день от цивилизации, демократии, как туман от солнца, в свою очередь рассеется музыка, ему и во сне привидеться не могло…
Данной книге – может; путано, тяжело, нечётко, но именно это составляет содержание её страхов. «Finis musicae» – где-то тут промелькнут эти слова, они лишь сновидческий символ демократии. Прогресс от музыки к демократии – именно о нём речь там, где говорится о «прогрессе». Если же наша книга утверждает и пытается показать, что Германия в самом деле стремительно и неудержимо движется в направлении к этому прогрессу, так это пока лишь риторическое средство обороны. Ибо она очевидным образом борется с ним, оказывая консервативное сопротивление. Весь её консерватизм на самом деле лишь отповедь, вся её печаль, полулицемерное отчаяние, слёзы, пролитые на груди романтизма, «сочувствие смерти» – тоже. Книга отвергает прогресс вообще, чтобы отвергнуть по крайней мере этот; она неразборчива в аргументах и даже вступает в откровенно сомнительные альянсы; атакует «добродетель», забрасывает цитатами «веру», вызывающе высказывается о «человечности» – и всё только для того, чтобы составить оппозицию этому прогрессу: движению Германии от музыки к политике.
К чему такие усилия? К чему небезопасная, компрометирующая каторга, галера в виде этой книги, которой никто от меня не требовал, не ждал, за которую я не получу ни полслова благодарности, уважения? Так не хлопочут, о чём хлопотать нет потребности, до чего тебе нет дела, поскольку ты не имеешь о предмете ни малейшего представления, не несёшь в самом себе, в крови. Я сказал, что у Германии есть враги в городских стенах, то есть союзники и пособники мировой демократии. А может, это повторяется и в малом, может, и в моём собственном консервативном нутре притаились элементы, подталкивающие Германию к «прогрессу»? Вдруг моя суть, мои – насколько о них позволено говорить – труды далеко не полностью совпадают с моей мыслью и взглядами? Может, предназначением части моего естества было и остаётся движение Германии к тому, что на этих страницах не в самом точном смысле слова именуется «демократией» (и с равным избирательным правом связано лишь поверхностно)? В таком случае что это за часть? Литературная? Ведь литература – повторим ещё раз то, что знаем! – литература в основе своей неотделима от демократии и цивилизации, ещё точнее: это одно и то же. Но тогда я консервативно сражаюсь с «прогрессом» Германии, и одновременно писательство понуждает меня ему способствовать?..
Всё, что я тут наговорил и наспрашивал, как музыкальная увертюра, вбирает в себя темы дальнейших размышлений. Я также дал им определение: хлопотный продукт противоречивости, картина внутриличностного раздвоения и противоборства. И уже это превращает книгу, которая вовсе не книга и не художественное произведение, во что-то почти другое – почти в поэзию.
Протест
В своей болезненно-лёгкой, жутковато-гениальной манере, немного напоминающей неряшливый лепет некоторых религиозных персонажей его романов, Достоевский в 1877 году ведёт речь о германском мировом вопросе, о «Германии, стране протестующей». Всю историю существования Германии, говорит он, задача её состояла в протестантстве: «Не та единственно формула этого протестантства, которая определилась при Лютере, а всегдашнее её протестантство, всегдашний протест её – против римского мира, начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом против всего, что от Древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и ко всему, что составляет это наследство».
Далее он в общих чертах излагает историю римской идеи – от Древнего Рима с его мыслью о всемирном единении людей и верой в практическое её выполнение в форме всемирной монархии. Однако эта формула, говорит Достоевский, пала, – формула, но не идея, ибо идея есть идея европейского человечества, из неё составилась его цивилизация, для неё одной оно и живёт. Мысль о всемирной римской монархии заменилась мыслью единения во Христе; при этом произошло раздвоение нового идеала на восточный, который Достоевский определяет как идеал вполне духовного единения людей, и западноевропейский, римско-католический, папский, в каковом облике идея, хоть и не утратив своего христианского, духовного начала, сохранила древнеримские, политически-имперские традиции. С тех пор, говорит далее Достоевский, идея всемирного единения шла вперёд и беспрерывно изменялась. С развитием этой попытки, однако, самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе. Отвергнув наконец христианство духовно, наследники древнеримского мира отвергли и папство; это произошло в ходе Французской революции, которая была не чем иным (в сущности, не более), как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но воплощение идеи – мы всё ещё следим за ходом мысли Достоевского – оказалось крайне неудовлетворительным. Правда, в той части человеческого общества, которая выиграла для себя с 1789 года политическое главенство, то есть в буржуазии, царило полное довольство: она восторжествовала и объявила, что далее идти и не надо. Но зато все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, – все они бросились к униженным и обойдённым, кому новая, революционная формула всечеловеческого единения не дала ничего или дала очень мало: социализм провозгласил своё новое слово.
А Германия? А немцы? «Характернейшая, – говорит Достоевский, – существеннейшая черта этого великого, гордого и особого народа, с самой первой минуты его появления в историческом мире, состояла в том, что он никогда не хотел соединиться, в призвании своём и в началах своих, с крайне-западным европейским миром, то есть со всеми преемниками древнеримского призвания. Он протестовал против этого мира все две тысячи лет, и хоть и не представил (и никогда не представлял ещё) своего слова, своего строго формулированного идеала взамен [разрушенной им] древнеримской идеи, но, кажется (это очень сильное место, сразу понимаешь, куда попал – к первому психологу в мировой литературе! – Т. М.), кажется, – говорит Достоевский, – всегда был убеждён внутри себя, что в состоянии представить это новое слово и повести за собою человечество. Он бился с римским миром ещё во времена Арминия, затем во времена римского христианства он более чем кто-нибудь бился за верховную власть с новым Римом. Наконец, протестовал самым сильным и могучим образом, выводя новую формулу протеста уже из самых духовных, стихийных основ германского мира. Глас Божий заговорил через него и провозгласил свободу духа. Разрыв был страшный и мировой, формула протеста нашлась и восполнилась, – хотя всё ещё отрицательная, хотя всё ещё новое и положительное слово сказано ещё не было…»
После этого деяния, так приблизительно продолжает Достоевский, германский дух на время как бы замер. Западный же мир под влиянием открытия Америки, новой науки и новых нача́л «искал переродиться в новую истину», в новый фазис, и первой попыткой этого перевоплощения стала революция. Какое смущение для германского духа! Он, указывает Достоевский, вообще-то разобрался в ней так же мало, как римский дух – в Реформации, он даже на время потерял было свою самость и веру в себя. «Он ничего не мог сказать против новых идей крайне-западного европейского мира. Лютерово протестантство уже отжило своё время давно, идея же свободного духа, свободного исследования давно уже принята была всемирной наукой. Огромный организм Германии почувствовал более чем кто-нибудь, что он не имеет, так сказать, плоти и формы для своего выражения. Вот тогда-то в нём родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый стройный организм, ввиду новых грядущих фазисов его вечной борьбы с крайне-западным миром Европы…»
* * *Всякий, кто предаётся духовному созерцанию мощных потрясений, сокрушительных катастроф, рискует подпасть под подозрение в тщеславии, подстёгивающем его опробовать остроту ума на материале землетрясения. В огромных, страшных обстоятельствах дух довольно быстро может показаться легкомыслием. И всё же без духа не понять ничего, даже самых мелких, не говоря уже о крупных исторических феноменах. Все они двойственны. Если вычесть из Французской революции «философию», останется голодный бунт. Останется переворот в имущественных отношениях. Но кто же осмелится отрицать, что подобные манипуляции с Французской революцией крайне несправедливы? С потрясениями наших дней дело обстоит не иначе, и решительно невозможно согласиться с ожесточёнными пуристами, которые (из понятного, правда, страха опуститься до уровня фельетона) твердят, будто единственная реальность этой войны – то, что является нашему взору, а именно беспримерные бедствия, и было бы непочтительно выковыривать из неё какой-то смысл, искажать и приукрашивать кошмарную реальность, пытаясь внести, втолковать в неё дух. Требование подобной абстиненции негуманно, хоть и порождено гуманистической болью, вызванной упадком братства. Гуманистическое не всегда тождественно гуманному.
Воззрения Достоевского на европейскую историю, или, скорее, на своеобычно строптивую роль в ней Германии, оттого что блистательны, не перестают быть истинными. Мне кажется, я вижу в его толкованиях вольности, односторонности, даже ошибки. Когда он заявляет, например, что развитие римской идеи единения привело к утрате революцией существенной части христианских основ, мне представляется, что он путает христианство с церковью, как перепутала их и сама революция, поскольку никакой культ разума, никакая ненависть к клиру, разнузданное глумление над догмами и преданиями позитивных религий в целом и «отродьем блудницы» в частности не помешали тому, что в основании революции, нёсшей в себе руссоистский дух, сохранилась добрая часть христианства, христианской всемирности и отзывчивости. Недаром мадам Ролан в своём письме к папе говорит о «тех евангельских основах, что дышат самой чистой демократией, самой нежной любовью к человеку, самым совершенным равенством». Несложно также заметить, что любой руссоизм, радикальный демократизм, революционное эпигонство до сих пор, чуть что, принимаются морализировать в христианском духе, даже сугубо приглашают христианство в свидетели. И наконец, что-то ведь должен означать тот факт, что Германию этой войны противник, лагерь «цивилизации» мог упрекнуть в язычестве и тайном поклонении Одину. Мне думается, что-то это всё-таки означает, ведь и у нас бытует присловье, что единственные, дескать, христиане Германии – это евреи. В отношении немецкого духа к римскому миру, как мне кажется, из двух крупных, символических немецких событий и коллизий Достоевский видит только одну, вторую пропуская, пожалуй, и умышленно; видит коллизию «Лютер в Риме», но не видит другой, для иного немца ещё более дорогой и важной, – «Гёте в Риме», каковым намёком в виде формулы здесь придётся ограничиться.
Аперсю Достоевского широко и односторонне, но глубоко и истинно, если к тому же не забывать, что истинные мысли в разные времена истинны в разной степени. Достоевский записывал свои размышления под впечатлением личности Бисмарка, через несколько лет после Франко-прусской войны, и тогда они были истинны в высокой степени. В межвоенный период интенсивность истины была утрачена; мы их читали, но они не особо нас затрагивали, мы их толком даже не чувствовали и не понимали. Сегодня, чтобы наполниться их пониманием, созерцанием их истинности, нам и читать-то не нужно. Ибо это мысль войны, военной правды, и в военное время мысль о «стране протестующей» вспыхнула во всей своей мощной силе правды, озарив каждого; с первой же секунды на этот счёт воцарилось полное и всеобщее единодушие: Германия тут согласилась с врагами, и не только с внешними, но и с так называемыми внутренними, с теми, кто протестует против германского протеста, с доверчивой любовью обратив взор на европейский Запад; к ним мы ещё вернёмся. Повторяю, все – и друзья, и враги – придерживаются одного мнения, хоть и разных мировоззрений, поскольку это всё-таки не одно и то же. Сказав, например, в своей военной книге, что в одной моей статье (возможно, отдельные читатели её помнят – «Мысли в войну», ноябрь 1914 года) я уподобился бешеному быку, который, пригнув голову, несётся на шпагу матадора, что все обвинения противников я перетолковал в почётное для Германии звание и сам вручил врагам Германии оружие, одним словом, неосторожно с ними согласился, Ромен Роллан прекрасно продемонстрировал разницу между «мнением» и «мировоззрением», на которой и зиждется всякая духовная вражда. Ибо, где вообще нет общности мыслей, вражды быть не может, там царит равнодушная отстранённость. Только где думают одинаково, но воспринимают по-разному, – там вражда, там растёт ненависть. В конечном счёте, любезный господин Роллан, речь идёт о европейском братском раздоре.
Так вот, относительно того, что духовные корни этой войны, которая совершенно справедливо называется «германской», лежат во врождённом, историческом «протестантстве» Германии, что война эта, по сути, очередной виток (некоторые полагают, самый мощный, последний) извечной немецкой борьбы с духом Запада, а также борьбы римского мира со своенравной Германией, думается, с первой же секунды царило полнейшее единодушие. Я буду стоять на своём: в этой войне любой немецкий «патриотизм», особенно тот, что дал о себе знать совсем неожиданно или не совсем ожидаемо, в сущности был и остаётся инстинктивной, врождённой, часто лишь задним числом осознаваемой солидарностью именно с тем самым протестантством; взор немцев в этой войне по-прежнему обращён на Запад, несмотря на большую физическую опасность, которая грозила и всё ещё грозит с Востока. Восточная опасность была огромна, и те пять армейских корпусов, конечно, следовало отозвать с Западного фронта, так что французы добились-таки своей grande victoire sur la Marne; любой из нас, если бы его спросили, признал бы правильность такого решения, так как положение дел в Восточной Пруссии было, разумеется, нетерпимым. Это, однако, не мешает тому, что опасно неуклюжая Россия в нынешней войне – лишь инструмент Запада, что с духовной точки зрения она важна лишь постольку, поскольку по-западному либерализована, лишь как член Антанты, в которую, насколько это возможно, вписалась духовно (а это вполне возможно, как показывает проведённая русским министром иностранных дел господином Сазоновым увлекательная беседа с одним английским романистом о христианско-человеческом смирении грешника и непереносимом «бескомпромиссном морализме» пруссачества, прекрасная, блестящая беседа, над которой в совершенно неуместном тоне пыталась потешаться наша пресса), как член Антанты, повторяю, которая, включая Америку, составляет единство Западного мира, наследников Рима, «цивилизации» против Германии, протестующей с небывалой ещё мощью.
Нелитературная страна
От Достоевского потребовалось немалое самообладание, чтобы назвать немцев «великим, гордым и особым народом», поскольку, как нам известно, от любви к Германии он был довольно далёк, не потому что питал какую-то великую симпатию к крайнему Западу, – просто Германия в его глазах, несмотря на своё протестантство, всё-таки была частью «ветреной Европы», которую он в глубине души презирал. Так вот, в его манере говорить о Германии нужно отметить немалое самообладание и справедливую умеренность – показатель широкого, свободного исторического взгляда. Ведь вместо «гордый и особый» он с таким же успехом мог сказать «упрямый, косный, злобный», и это было бы ещё мягко по сравнению с тем, чем во время войны дарила нас великая благовоспитанность римского Запада. Формулировки Достоевского, касающиеся германского естества, исконной германской особости, Вечной Немецкости, в самом деле полностью раскрывают, объясняют немецкое одиночество между Востоком и Западом, мировое неприличие Германии, неприязнь, ненависть, которые ей приходится нести и от которых приходится обороняться, – с изумлением и болью от ненависти непонятного ей мира, поскольку она толком не разбирается даже в себе и не особо продвинулась в душеведении, – раскрывают, объясняют и невероятную, неколебимую отвагу Германии в отношениях с плотно обступившим её миром, с римским Западом, который сегодня почти везде – на Востоке, на Юге, даже на Севере и за океаном, где стоит новый Капитолий, ту слепую героическую отвагу, что, замахнувшись, по-богатырски рубит во все стороны… Они объясняют и положительный смысл упрёка в «варварстве», с негодованием отмахиваться от которого всё-таки нелогично, так как столь искушённые в плетении словес наследники Рима в самом деле не могли найти лучшего, более простого, меткого, мощного по агитационному воздействию слова для того, что испокон веков инстинктивно протестует против их мира. Да, Германия не собиралась объединять свою волю и слово с римской цивилизацией, однако куда хуже, что она противопоставила последней лишь неудобную, упорную, своенравную, «особую» волю, ибо слова у неё не нашлось, в отличие от цивилизации она оказалась бессловесна, не словолюбива и не словодоверчива, сопротивляясь молча, невербализованно; и конечно же, не столько само сопротивление, сколько его бессловесность и невербализованность были сочтены цивилизацией «варварством», породив ненависть. Слово, формулировка воли, как всё, что имеет дело с формой, примиряет, покоряет; слово в конце концов может примирить с любой волей, особенно когда оно красиво, размашисто, зазывно, когда обладает ясной программой. Дабы вызвать сочувствие, без слова не обойтись. Какой толк от богатырской храбрости без размашистого слова? Какой толк от упорной убеждённости, что ты «в состоянии сказать своё слово и с его помощью повести за собою человечество», если в решающий момент ты не сможешь или не захочешь его произнести (ведь в конечном счёте это одно и то же: хочешь – значит можешь; любишь слово – значит умеешь говорить, и наоборот)? Без слова не повести за собою человечество. Без вербализованного идеала, который защищает богатырская храбрость, последняя есть варварство. Только слово привносит в жизнь человека достоинство. Бессловесность недостойна человека, негуманистична. Не только гуманизм, но и гуманистичность вообще, достоинство, уважение и самоуважение человека, по прирождённому и всегдашнему убеждению римской цивилизации, неразрывно связаны с литературой. Не с музыкой, по крайней мере, с ней не обязательно. Напротив, отношения гуманистичности с музыкой намного легче, чем с литературой, настолько, что музыкальный настрой представляется литературной добродетельности по меньшей мере ненадёжным, подозрительным. И не с художественным вымыслом – тут всё слишком похоже на музыку, слово и дух играют в поэзии слишком безответственную, лукавую, окольную, а потому тоже ненадёжную роль. Именно с литературой, с вербализованным духом. Цивилизация и литература – одно и то же.
Римский мир литературен, это отмежёвывает его от германского, точнее, немецкого мира, который, каким бы ни был в прочих отношениях, решительно нелитературен. Литературная гуманистичность, наследие Рима, классический дух, классический разум, размашистое слово с прилагающимся к нему размашистым жестом, красивая, воодушевляющая, достойная человека фраза, прославляющая человеческие красоту и достоинство, академическое искусство риторики во славу рода человеческого – вот что на римском Западе делает жизнь равновеликой её названию, вот что делает человека человеком. Это дух, развернувшийся в революцию, её дух, её «классическая модель», в якобинце намертво застывшая в схоластически-литературную формулу, в смертоносную доктрину, в тиранический менторский педантизм. Лучше всего им владеют адвокат и литератор, идеологи «третьего сословия» и его эмансипации, идеологи Просвещения, разума, прогресса, «философии» в их борьбе с seigneurs, с авторитетом, традицией, историей, «властью», королевством и церковью – идеологи духа, который они почитают обязательным, единственным и ослепительно истинным, духом как таковым, духом в себе, на деле подразумевая, понимая лишь политический дух буржуазной революции. То, что «духовное», трактуемое в политически-цивилизационном смысле, приложимо только к буржуазии, хоть и не изобретено ею (ибо во Франции дух и просвещённость не буржуазного, а дворянско-сеньориального происхождения, буржуа лишь узурпировал их), исторический факт, оспаривать его совершенно бессмысленно. Носитель этого духа – буржуа с хорошо подвешенным языком, литературный адвокат третьего, повторяю, сословия, его духовных и, не забудем, материальных интересов. Победоносный поход такого духа, его экспансию, объясняемую невероятно взрывчатой агитационной энергией, можно определить как процесс обуржуазивания и одновременно олитературивания мира. То, что мы называем «цивилизацией», то, что само себя так называет, и есть этот победоносный поход, экспансия ополитизованного и олитературенного в буржуазном смысле духа, колонизация им обитаемой части земного шара. Империализм цивилизации – крайняя степень римской мысли о единении, против которой – впервые столь страстно – «протестует» Германия, против которой ей пришлось вступить в небывало страшное сражение. Согласие и единение сообществ, вошедших в империю буржуазного духа, именуется сегодня Антантой (французским словом, какая дешёвка!), и это действительно Entente cordiale, единение, полное самого сердечного, великолепного согласия в духовном и существенном, невзирая на некую разницу в темпераментах, на властно-политические расхождения, – согласия против протестующей Германии, вступившей в борьбу с окончательным воплощением и бесповоротным упрочением этой империи. Битва в Тевтобургском лесу, война с римским папой, Виттенберг, 1813-й, 1870-й годы – лишь детские игры по сравнению со страшной, смертельно опасной и в самом великолепном смысле безрассудной борьбой против мировой Entente цивилизации, которую с воистину германской покорностью судьбе, или, выражаясь несколько активнее, покорностью своей всегдашней, природной миссии, взвалила на себя Германия.