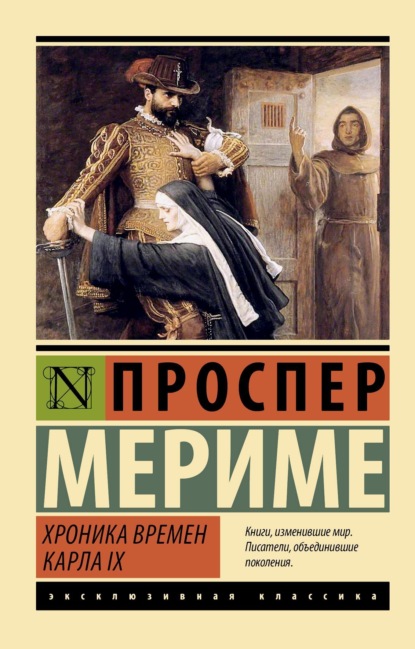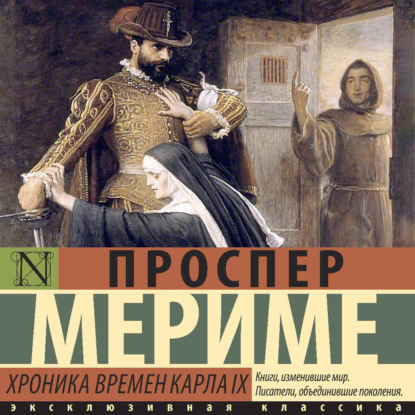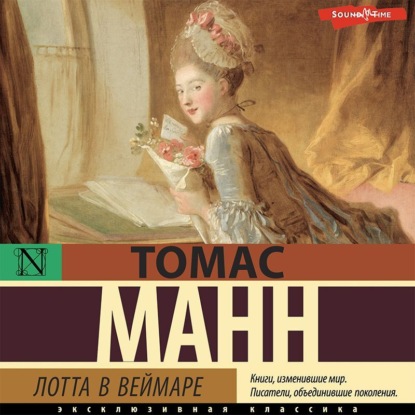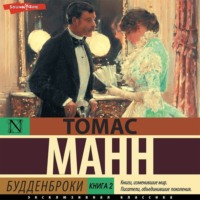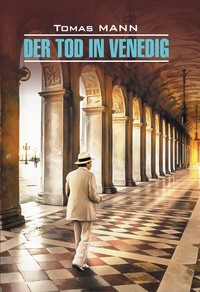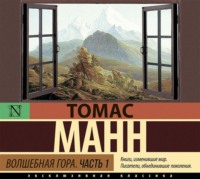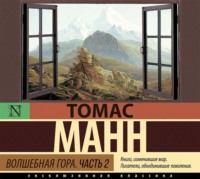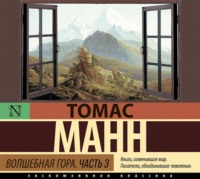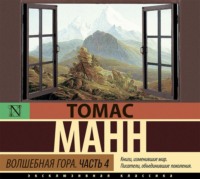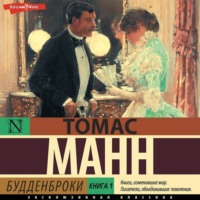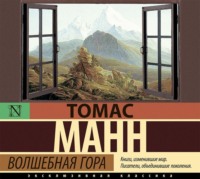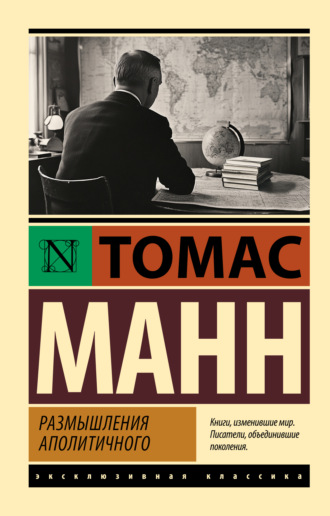
Полная версия
Размышления аполитичного
Позволят ли мне в связи с этим сказать несколько слов и о попытке написать водевиль в форме романа, о «Королевском высочестве», несмотря на крайне индивидуалистическое название, явившемся вместе с тем попыткой обрести «счастье» и, пусть не безоговорочно, примириться с «человечностью»? О моём втором романе, в художественном отношении столь разительно – и, по всем немецким понятиям, отнюдь не выгодно – отличающемся от своего предшественника, что едва ли можно приписать его авторство сочинителю «Будденброков». Тут вдруг книга, которая вовсе не «вышла», не «выросла», книга, очень далёкая от всего буйно- и дикорастущего, весьма сделанная, опирающаяся на меры и пропорции, понятная, прозрачная, обузданная мыслью – одной идеей, интеллектуальной формулой, которая отражается, напоминает о себе везде, по возможности заполняет книгу жизнью и при помощи сотен подробностей пытается создать иллюзию жизни, так и не достигая, однако, первозданной, тёплой жизненной полноты. Не жизнь – художественная игра. С формальной точки зрения не готика – Возрождение. Не немецкое – французское. Но внутренне это тем не менее очень немецкая книга – по роду (если и не по форме) духовности и этики, по пониманию одиночества и долга… Меня не удивило, что французской критике, в той мере, в какой ей любопытно что-то немецкое, «Королевское высочество», его цели, проза пришлись куда более по вкусу, чем немецкой, которая как абсолютно, так и относительно сочла его слишком лёгким в смысле требований, предъявляемых в Германии к строгости, тяжести книги, слишком лёгким даже для автора. Заключённый здесь, пусть и не на строгих условиях, пакт с «человеческим счастьем» она, пропустив мимо ушей то новое, что было заявлено в намерениях автора, сочла бесхребетностью и, смерив «действие» слишком строгим и деловым взглядом, отнесла его к разряду семейного чтива. Что ж, я весьма далёк от того, чтобы ломать копья по поводу поэтических достоинств истории о маленьком принце, коего, по всем правилам самого торжественного газетного стиля, женили и превратили в народного благодетеля, хотя и сегодня могу себе представить, что старик Анатоль Франс не без удовольствия ознакомился бы с этим «семейным чтивом». Правда, если на артистические достоинства немецкого толка не купились, то поэтические (в немецком же смысле) оценили, хоть и не слишком высоко. Однако духовные достоинства романа, если он таковыми обладает, целиком и полностью заключаются в том, что он стал симптомом времени, показателем эволюции Германии, и умные люди, не поленившиеся приложить свой ум к такой курьёзной штуковине, это заметили. «Поймут ли, – говорилось в критическом разборе одного австрийца (Германа Бара, ни больше ни меньше), – поймут ли немцы нашего времени, что этот роман есть знак?» И в конце австриец называет мой роман предвестником новой демократии (приблизительно так). Он не прав? Однако разве маленького одинокого эстета в «Королевском высочестве» не подвели к экономике и «деятельной», как сказали бы сегодня, «человечности»? А при помощи чего? Так любви же! Но ведь это в высшей степени в духе литератора цивилизации. И столь высокой степенью прогрессивности я бы гордился больше, чем горжусь, кабы «любовь» не стала интеллектуальной модой, оппозиционной литературно-политической программой и я не считал это крайним бесстыдством. Нельзя также отрицать, что, несмотря на всю демократическую поучительность, книга представляет собой настоящую оргию индивидуализма, noblesse которого беспрестанно принимает новые формы; что при всей прогрессивности в ней нет недостатка в «противонаправленной охранительной воле»; что помянутый поворот к демократии, к общности и человечности совершается весьма неохотно, вообще-то с юмором, ironice, а всерьёз рассказчик, как и слушатель (что есть следствие), воспринимает аристократических монстров – невозможного колли и столь же невозможного доктора Юбербайна. Правда, Клаус Генрих обретает «счастье», а романтический индивидуалист Рауль Юбербайн самым идеологическим и жалким образом погибает. Однако никто не вправе считать меня настолько низким, настолько политичным, чтобы «счастье» для меня было аргументом, а гибель опровержением. То была бы не нравственность, а что-то другое – добродетельность, я ещё скажу в этих записках, что думаю о добродетельности. Наоборот, сочинители историй очень любят выказывать личные симпатии одним персонажам, губя их, другим же пылкое пренебрежение, их осчастливливая… Но как бы то ни было, политически-антииндивидуалистическая тенденция (очень не немецкая, а может, как раз приуготовляющаяся стать таковой) в романе была, и даже если предстала довольно двусмысленной и необязательной, вызвав у литератора цивилизации некоторое недоверие к своей полной искренности, ещё раз – она там была, и её увидели, не проигнорировали; её увидели бы, даже если бы она была менее осязаема, чуть сильнее поражена болезнетворным вирусом иронии; существует такой способ писать, такая западная манера духа и стиля, которая говорит яснее любой басенной дидактики; ирония и esprit – главные силы литературной цивилизации; и даже мудрейший старик Европы, парижанин Анатоль Франс, оставаясь идолом и всецарём литераторов цивилизации, любит иногда в рассуждения о цивилизации подпустить иронии… Короче говоря, у литератора цивилизации было право – вне зависимости, воспользовался он им или нет, – надеяться на меня и мои скромные силы, и настал час, когда вроде бы ничто больше не мешало ему полностью на меня рассчитывать.
В одном журнале (это был «Мерц» – название, полное предчувствия политической весны) появилась статья, штудия, посвященная «литератору» и разъяснявшая немцам суть и происхождение этого в высшей степени актуального духовного типа; за всю жизнь литератору в Германии не было сказано ничего более лестного, чем в той статье «Марта». Я начал с того, что назвал его «брамином» и в духе Вед заверил, что он получил при рождении больше ума и любви к добродетели, чем целый мир. Ум его, утверждал я, – это знание всего человеческого в сочетании с изрядным авантюризмом и мастерством на словесном поприще. А любовь к добродетели – чистоплотность наблюдателя, решительная бескомпромиссность, отвращение к уступчивости и продажности, порой насмешливое, а порой и торжественное прокурорское и судейское провозглашение идеала, свободы, справедливости, разума, добра и человеческого достоинства. Нет ничего, говорил я, более характерного для литературных способностей, нежели двойственное и всё же в основе своей цельное воздействие публицистов-филантропов эпохи Просвещения, которые в своих криминалистически-политических опусах судили общество судом человечности, воспитывали современников в духе отвращения к дикостям юриспруденции, к пыткам и смертной казни, пролагали дорогу более мягким законам и одновременно, что так для них типично, делали себе имя руководствами по языку и стилю, а также трактатами об искусстве художественного слова. Филантропия и писательское искусство как страсти, господствующие в одной душе, – это что-нибудь да значит, не случайно они сошлись. Красиво писать уже почти значит красиво думать, а отсюда, мол, недалеко и до красивых поступков. Необходимо признать, что все нравственные устои рода человеческого от духа литературы, и уже в древности воспитатели народов считали, добрые слова порождают добрые дела. Вот ведь проповедь! Прямо что твой Вудро Вильсон, этот высокопоставленный благодетель рода человеческого, который, как явствует из достоверных источников, придерживается довольно высокого мнения о стиле своих нот. Была ли то лишь психология или симпатия, солидарность? Я пошёл ещё дальше. Наивно и простодушно я отделил литератора от искусства, отделил во имя духа, нравственности и анализа. Его тяга к познанию и судейству, писал я, отдаляет его от классического художника, жизнерадостного, безобидного существа, которое встречает своего строгого брата не без смешанного чувства протеста и благочестивой робости (хотя предпочитает обходить его стороной). Я списал «художника» точь-в-точь со своего Альдобрандино из «Фьоренцы», представив его маэстро удовольствий при дворах сильных мира сего, ветреным сотрапезником за столом богача-супостата, и предположил, что если этому симпатяге и не хватает какой-либо похвальной черты характера, так только чего-то вроде пристойности, за которую просто-напросто отвечают не природа и «темперамент», а знание и анализ. Литератор же пристоен до святости, до абсурда, ибо абсурдное, с духовной точки зрения, почтенно… И далее в том же духе. Правда, записи мои говорят мне, что в то время я мог думать и с точностью до наоборот. «Литератор, – читаю в одной из них, – ошибается, веруя, что только дух соделывает пристойность. Истина скорее в обратном. Пристойность только там, где духа нет». Ну да неважно, в счёт идёт опубликованное. И, говоря по-гамлетовски, оно, несомненно, внесло улыбку в сердце литератора цивилизации. Пусть я застрял на духовно-нравственном, пусть не дорос до политического, но политические последствия того, что я там наковырял, были ясны как день: политические последствия «филантропии и писательского искусства» – это радикальная республика адвокатов и литераторов, как её лелеет в уме и сердце литератор цивилизации… Ещё раз: я попал в точку. Активисты и люди «Цели» выражали мне своё одобрение. Умы по-своему не менее передовые причислили идеи моей статьи о литераторе к тому, чтó «новый дух новейшей литературы имеет сообщить духу литературы постарше, начинающейся примерно с Геббеля». Какие сомнения, боже мой, я попал, успел! Какой прогресс по сравнению с «Будденброками», прогресс в прогрессивном направлении. Наконец, что может быть «интеллектуальнее» пародии? И очутившись до войны в той точке, откуда оказалось возможным под видом мемуаров авантюриста пародировать немецкий роман просвещения, воспитания, великую немецкую автобиографию, ты внёс свою лепту в интеллектуалистское разложение немецкости…
Бюргерство
Пусть в мире всё не слава богу,Но знаем мы домой дорогу,Где всяк доволен: рыцарь служит,Крестьянин и в нужде не тужит.От бюргера уклад сей дивный,От бюргера порядок мирный.Гёте«Мейстерзингеры» – противоположность цивилизации, немецкое против французского.
НицшеТак неужели же теперь, с началом войны, мне всё-таки суждено было предать литературу? Публичными высказываниями, в которых пробивался отчасти иронично-лукавый, а отчасти безвкусно-простодушный национализм и патриотизм, прегорько разочаровать литератора цивилизации и столь безнадёжно скомпрометировать себя литературно, как не удалось бы и самой провальной повести? Как же это случилось? Предыдущие страницы предельно затруднили бы мне ответ на этот вопрос, если бы я почти не ответил на него уже там. Ибо, пытаясь объяснить, почему и в какой степени я европеец и западный литератор, я, если не ошибаюсь, вместе с тем и намекнул на истоки своего «патриотизма». Но, дабы несколько расширить ответ на важнейший вопрос «Как это случилось?», хотел бы теперь поговорить о бюргерстве, о бюргерском и о художественном, о бюргерском художничестве, смутно ощущая, что моя неприличная позиция в этой войне каким-то образом связана с ним, и будучи почти уверен, что благодаря такому исследованию кой-какие волнения улягутся, а это отвечает и нелично-общим интересам.
Существует прекрасная, глубокая книга молодого венгерского эссеиста Георга фон Лукача под названием «Душа и формы», а в ней статья о Теодоре Шторме, исследующая также соотношение «бюргерства и l’art pour l’art», которая, когда я несколько лет назад прочёл её, сразу же показалась мне самым замечательным из сказанного на эту парадоксальную тему и цитировать её, сдаётся мне, я имею особое право, поскольку автор, не исключено, писал не без мысли обо мне, а в одном месте мысль эта нашла и явное выражение. На понимание, к которому мы подтолкнули своим существованием, у нас, несомненно, имеется особое право, и, усваивая его, мы оказываемся в положении, так сказать, отца, с улыбкой выслушивающего наставления учёного сына. Так вот, прежде всего Лукач проводит различие между чужой, агрессивной, аскетически-оргиастической, масочной буржуазностью, чьим самым знаменитым представителем является Флобер и чья суть состоит в мертвящем отрицании жизни в пользу творчества, и истинно бюргерским художничеством Шторма, Келлера, Мёрике, которое до конца материализует парадоксальность своего эпитета, лишь научившись сочетать опирающийся на бюргерское ремесло бюргерский образ жизни с жестокими борениями тяжкого художественного труда, и чья суть заключается в «хватке мастерового». «Бюргерское ремесло как форма жизни, – пишет Лукач, – в первую очередь означает примат этики, когда в жизни господствует то, что регулярно, систематически повторяется, снова и снова возвращается в виде долга, то, что нужно делать, невзирая на желание или нежелание. Другими словами, торжество порядка над настроением, длительного над мимолётным, размеренного труда над питающейся яркими чувствами гениальностью». По мере развития авторской мысли выясняется, что, в отличие от монашеского эстетизма Флобера, буржуазный образ жизни которого был нигилистической маской, эта этически-ремесленная мастеровитость и олицетворяет для Лукача тип художника-бюргера в его германском изводе; автор даёт понять, что эстетизм в сочетании с бюргерством здесь цельная, легитимная форма жизни, причём немецкая; более того, данная смесь артистичества и бюргерства и порождает собственно немецкий вариант европейского эстетства, немецкое l’art pour l’art.
Блестяще! Тонко и верно. Однако позволят ли мне не только высоко оценить этот пассаж, но и узнать в нём себя? Даже если я ещё раз напомню, что речь в данном случае вовсе не о значимости, но о сути, – именно того, что эссеист, судя по всему, считает критерием немецкого бюргерского l’art pour l’art, а именно бюргерского ремесла как собственно жизненной формы и жизненного порядка, у меня нет. Его, однако, не было и у Конрада Фердинанда Мейера, которого всё-таки можно и нужно зачислить в этот немецкий цех (и который в 1870 году признал себя немцем, встал на сторону Германии!), не было по самой простой – медицинской – причине. Действительно ли это необходимое условие? Понятно ведь, дух любит замещать реальность символом. Можно жить по-солдатски, будучи напрочь не годным для жизни солдата. Человек духа живёт иносказанием. Тот примат в жизни этического, о котором говорит Лукач, разве не равносилен перевесу этического над эстетическим? И разве не перевешивает этика, когда важнее творчества становится сама жизнь, даже и без бюргерского ремесла? Художничество приобретает бюргерскую суть при переносе на занятия искусством этических черт, характерных для бюргерской формы жизни: порядок, последовательность, размеренность, «усердие» (не как усидчивость, а как верность ремеслу). Много лет назад один умный венский еврей сказал мне: «Знаете, в чём достоинство и обаяние ваших вещей? Расставаясь с ними, вы словно говорите: “Лучше мне не сделать”». Сомнительный комплимент, но очень яркий, потому и запомнился. Когда-то я воображал, что жертвую ради «искусства» жизнью, а моё бюргерство – нигилистическая маска, ставил искусство, «произведение» выше жизни (правда, с искренней иронией в обе стороны) и заявлял, будто, «дабы полностью быть творцом», нельзя жить, а нужно умереть. Романтическое заблуждение, юношеский аллюр. На самом деле «искусство» – лишь средство этически исполнить мою жизнь. Мои (sit venia verbo) «произведения» – не результат, не смысл, не цель аскетически-оргиастического отрицания жизни, а этическая форма её выражения; о том свидетельствуют хотя бы автобиографические наклонности, имеющие этическое происхождение, однако не исключающие и весьма решительной эстетической воли к вещественности, дистанцированности, объективации, то есть воли, которая опять же есть лишь воля к верности ремеслу и в числе прочего порождает тот стилистический дилетантизм, что даёт слово предмету и может привести к поразительным публичным недоразумениям, как, например, случилось со «Смертью в Венеции», будто «иератическая атмосфера», «стиль мастера» этой повести – смехотворные личные амбиции, нечто такое, чем я намеревался окружить и выразить себя, между тем как на деле то были подгонка, даже пародия… Значит, важно мне не «произведение», а моя жизнь. Не жизнь – средство стяжания эстетического идеала совершенства, а труд – этический символ жизни. Цель – не какое-то объективное совершенство, а субъективное сознание, что «лучше мне не сделать». Если эта внутренняя сущность моих трудов способна оказать на восприимчивых людей вроде венского доброжелателя объективно эстетическое воздействие, тогда их субъективный смысл вполне этичен, тогда наш брат – не самовлюблённый кривляка, но эстет, и не в богемном, а в очень бюргерском понимании.
* * *«Как же это случилось?» Вероятно, отчасти и по данной сущностной причине. Вероятно, поскольку в силу принадлежности к бюргерско-этическому художничеству (немецкому) я чувствую себя немцем; поскольку наш брат не имеет ничего общего ни с флоберовским анахоретством, ни с нестерпимо выспренними красивостями Д’Аннунцио; поскольку я, родом из древней немецкой бюргерской среды, несмотря на всю нынешнюю сомнительность и европействующие потребности, по-своему связан с представителями немецко-ремесленного художественного мастерства, из которых Мейер и Шторм мне ближе всех. К этому мастерству меня тянет и социально, и по-человечески. Но моя связь со Штормом – родство по племени, и даже больше. Если, как уже говорилось, «Тонио Крёгер» – это «Иммензее», эволюционировавшее в сторону современно-противоречивого, синтез интеллектуализма и настроения, Ницше и Шторма, то в «Будденброках», как пишет Лукач, благодаря запоздалому осознанию (не имеющему ничего общего с местом в иерархии) стала возможной монументализация настроения упадка, пронизывающего бюргерский мир Шторма.
Этика, бюргерство, упадок – они вместе, одно. Но разве не здесь же музыка? Хорошо помню слова, в каких, согласно устному преданию, Стефан Георге сформулировал своё неприятие моих «Будденброков». «Нет, – сказал он, – это для меня пустое. Это ещё музыка и упадок». Ещё! Позднее, даже припозднившееся бюргерство превратило меня в аналитика упадка; как себя и своё я нашёл у Шопенгауэра и Вагнера пессимизм моралистов (на пару с музыкой) и «этический воздух», который, как я тут хвастался, вдохнул у этих европейских немцев; именно пессимизм и воздух с самого начала притягивали и вели меня к ним. Не «красота». Мне никогда не было дела до «красоты». Она казалась мне чем-то пригодным для итальянцев и макаронников духа, чем-то не немецким по сути, и прежде всего – не делом, не вкусом художественного немецкого бюргерства, где этическое преобладает над эстетическим, точнее, имеет место смешение, отождествление этих понятий, отдающее дань уважения, любви, заботы – некрасивому. Ибо этика есть некрасивость, болезнь и упадок, и я всегда ощущал себя не «эстетом» в буквальном смысле слова, а моралистом.
Потому и немецкое, потому и бюргерское. Эстетизм в точном смысле слова, то есть красивость – самое не немецкое дело на свете, да и самое не бюргерское; из школы Шопенгауэра-Вагнера не выходят эстетами, там дышат этически-пессимистическим, немецко-бюргерским воздухом, ибо немецкость и бюргерство – одно; и если «дух» вообще бюргерского происхождения, то немецкий дух – бюргерский, только по-особому, немецкое воспитание – бюргерское, немецкое бюргерство – гуманно, из чего следует, что в отличие от западного оно не политическое, по крайней мере не являлось таковым до вчерашнего дня и станет таковым лишь на путях своей дегуманизации…
Утверждать, что, прикасаясь к Шопенгауэру и Вагнеру, погружаешься в бюргерскую атмосферу, что они дают бюргерское воспитание, на первый взгляд безрассудно: поди объедини понятия бюргерства и гениальности. Что может быть менее бюргерским, нежели их напряжённый, трагический, бурно-мучительный жизненный путь, завершающийся сиянием мировой славы! И тем не менее они истинные дети своего бюргерского века, их человечность, духовность насквозь пронизаны бюргерством. Посмотреть на Шопенгауэра – его ганзейско-купеческое происхождение, оседлую жизнь во Франкфурте, по-кантовски педантичный, неизменный, строгий распорядок дня, мудрую заботу о здоровье на базе хорошего знания психологии («рассудительный ищет не удовольствия, а свободы от страдания»), капиталистическую дотошность (он записывал каждый пфенниг и умным хозяйствованием за жизнь удвоил своё небольшое состояние), размеренность, упорство, экономность, методичность в работе (для печати он писал исключительно два первых часа утром и признавался Гёте, что перенёс из практического в теоретически-умственное постоянство и честность, и составляющие сущность его успехов и достижений) – всё говорит о бюргерстве его человеческой составляющей; точно так же свидетельством бюргерской духовности служило его решительное отвращение к романтическому Средневековью, продувным попам и рыцарству; он считал своим долгом отстаивать классическую гуманистичность. К слову сказать, это разительнейшее противоречие между намерениями и природой, это интеллектуальное самоотрицание имеет прямое отношение к оппозиции, которую наш философ составил самому себе и которую можно назвать подготовительной ступенью, подготовительным классом к «самопалачеству» Ницше, ибо где найдёшь большего романтика и меньшего классика, чем Шопенгауэр! В Вагнере же – и как в человеке, и как в художнике – заметен не просто бюргерский, а прямо-таки буржуазный, парвенюобразный налёт: вкус к великолепию, «шелкам», к пышности и богатству, к бюргерской роскоши, в первую очередь характерный, конечно, для частной жизни, однако глубоко проникший и в духовно-художественную. Не уверен, мне ли принадлежит наблюдение, что искусство Вагнера и «букет Маккарта» (тот, с павлиньими перьями) одного по времени и эстетике происхождения. Но Вагнер, хоть и несколько буржуазный, в высоком, немецком смысле был ещё и бюргер, и вся эта самоподача, все эти маскарадные представления немецкого «маэстро» имели полное внутреннее, естественное оправдание: нельзя за раскалёнными потоками вулканической лавы, за демонизмом и гениальностью не видеть в его изделиях старонемецкий, художественно-ремесленный элемент – смиренно-терпеливый, кротко-мастеровитый, размеренно-трудолюбивый… «По плодам их узнаете их». Европейский интеллектуализм Вагнера вновь всплывёт у Рихарда Штрауса, а немецко-бюргерская составляющая – у чудесного Энгельберта Хумпердинка с его постоянством, усердием и ночным колпаком ремесленника.
Бюргерское художничество: материализованный парадокс и всё же парадокс, в любом случае двойственность и раздвоенность, несмотря на легитимность этой духовной формы жизни именно в Германии. Говоря о решающем влиянии, которое имело на меня художничество Вагнера, я умалчивал, до последнего оттягивал кое-что сомнительное – не столько бюргерство самого Вагнера, сколько его отношения с бюргером, воздействие на бюргера. Однако именно в этой точке влияние Вагнера может стать своего рода порчей, а возможно, в моём случае и стало; я имею в виду то, что Ницше называет «двойной оптикой», параллельно и одновременно артистической и бюргерской – инстинкт, ибо в одно и то же время удовлетворять рафинированные и относительно простодушные потребности, завоёвывать малое стадо, а в придачу к нему массы – это, конечно же, инстинкт, не расчёт, нечто вполне объективное, не субъективное, инстинкт, по моему мнению, связанный с завоевательским духом Вагнера, его мировым зудом, «греховностью» в аскетическом понимании слова, с тем, что Будда зовёт «влечением», с томлением, с чувственно-сверхчувственной потребностью в любви. Бывает художничество, где всего этого (или чего-то одного) нет и в помине, – целомудренное, строгое, холодное, гордое, даже надменное, несущее в душе и духе лишь насмешку и презрение к «миру», не тронутое и тенью ни демагогии, ни неосознанной снисходительностью, великодушием, мирской потребностью во влиянии, единении и любви. Это не про Вагнера. У него есть место, резюмирующее его целиком во всех смыслах; я имею в виду музыкальную фразу на слова «Но даже тогда я – мир!» из второго акта «Тристана» с полным томления ударением на «мире». Никто не помешает мне видеть в жадности Вагнера, в его эротическом отношении к миру основу и источник того, что Ницше назвал двойной оптикой, источник вытекающего из потребности дара увлекать, восхищать не только тончайших ценителей, это само собой, – но и широкие слои простых людей; я говорю «вытекающего из потребности», поскольку убеждён: любой художник, без исключений, делает только то, что он есть, что не противоречит его эстетическим суждениям и потребностям. Художничества нечестного, добивающегося, просчитывающего такое воздействие, над которым оно само смеётся, которого оно выше и которое сперва не воздействовало на него самого, такого художничества не бывает. Из чего следует, что объективное воздействие художника, в том числе и Вагнера, на бюргера в самом широком понимании слова, всегда говорит о его сущности. Вагнер-художник был преисполнен томления, или, используя более холодное слово, тщеславия. А желания юности, желания подлинные, возникающие по естественному праву, если они не ложное, противоестественное самовнушение, с возрастом удовлетворяются в избытке; и следствием этой аристократически-демократической, артистически-бюргерской оптики является успех, всегда двойной – успех у артистов и у бюргеров, ибо ни чисто богемный, застольный успех, ни чистый успех у публики не вправе носить это имя. Да не будет сочтено самолюбованием, если я добавлю, что и у меня имеется песенка, маленькая песенка про «успех». Для меня это такой же жизненный опыт, как и любой другой; и я понимаю, что стяжавшего успех он характеризует весьма двусмысленно. Если говорить просто, успех означает следующее: и этот туда же, покорять дураков… Но я также понимаю, что, будучи следствием той самой двойной оптики, которой, как скверне и греху, научаешься у Вагнера, «успех» – ненадёжное, не самое уютное пристанище, он чреват смертельной опасностью и местью Эвменид, человек такого успеха в перспективе должен быть готов к распаду обеих составляющих – и бюргерства, и радикализма; ведь у меня началось с того, что для литераторов я уже стал или уже почти перестал быть бельмом в глазу. Некто, этернист из этернистов, недавно назвал меня «жизнерадостной натурой»… Вот это уже конец! Нет, всё-таки ещё не совсем конец. Всё-таки пока ещё чистое, свободное выражение моего естества, такое, как эссе о Фридрихе, понуждает литературный ригоризм волей-неволей соглашаться с благосклонным суждением «бюргеров». Журнал европейцев, «Ди вайсен блеттер», счёл вещь сильной с точки зрения мастерства, хотя направленность её, разумеется, не одобрил, могло ли быть иначе? Старая песня Тонио Крёгера: «Я стою меж двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне приходится туговато». Но, может, именно это и значит быть немцем? Разве немецкое естество не середина, среднее, посредничающее, разве немец не средний человек с размахом? И если быть бюргером – это уже по-немецки, то, кто знает, может, ещё более по-немецки – быть чем-то средним между бюргером и художником, патриотом и европейцем, протестником и западником, консерватором и нигилистом, и писать очень немецкие статьи, антилитературная направленность которых непременно вызовет отторжение у любой души с французским акцентом, но которые, к сожалению, именно западниками, европейцами и литераторами непременно будут сочтены «сильными с точки зрения мастерства»?..