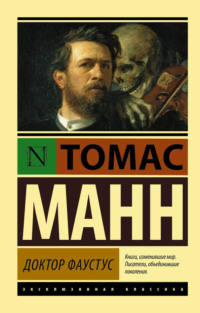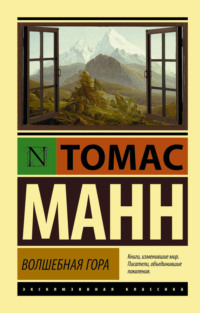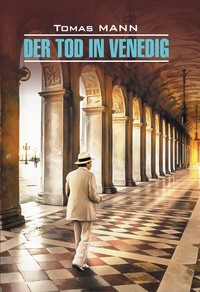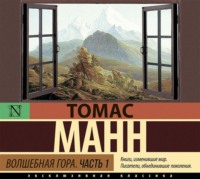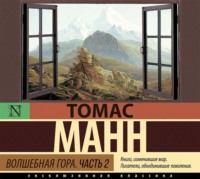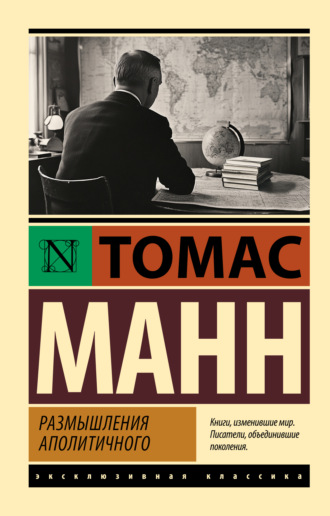
Полная версия
Размышления аполитичного
«Честным, но мрачным» называет Ницше век девятнадцатый в противоположность восемнадцатому, который он, примерно как и Карлейль, считает женоподобным, лживым. Тот век в своей гуманной публичности был, по его мнению, одержимдухом, поставленным на службу желательности, чего девятнадцатый не знает. Этот – зверинее, уродливее, даже вульгарнее и именно поэтому «лучше», покорнее и честнее по отношению к действительности. Правда, продолжает Ницше, девятнадцатый век слабоволен, печально- и мрачно-похотлив, фаталистичен. Он не робел, не благоговел ни перед «разумом», ни перед «сердцем» и устами Шопенгауэра даже нравственность свёл к инстинкту – состраданию. Научный, бесстрастный в своих желаниях, он-де высвободился из-под господства идеалов и повсюду искал теорий, пригодных для оправдания фаталистической покорности фактическому. Восемнадцатый век стремился забыть известное о природе человека, дабы приспособить его к своей утопии. Поверхностный, мягкий, гуманный, исполненный грёз о «человеке», он посредством искусства пропагандировал реформы социального и политического характера. Гегель со своим фаталистическим образом мышления, с верой в сильный разум победителя, с оправданием настоящего «государства» (вместо «человечества» и т. д.) – решительный успех в борьбе с чувствительностью. И Ницше говорит об антиреволюционности Гёте, о его «воле к обожествлению Вселенной и жизни, дабы в их созерцании и постижении обрести покой и блаженство». Его анализ, и повсюду проникнутый симпатией, становится тут в высшей степени позитивным; характеризуя природу Гёте как «почти» радостный и доверчивый фатализм, «который не бунтует, не ослабевает, но пытается создать из себя целостность, уверовав, что лишь с нею придёт искупление, добро и оправдание», этот анализ в самом деле описывает религиозность всего века.
Анализ, данный Ницше истекшему столетию, этой могучей, хоть и не вполне «великодушной», в духовном смысле не вполне галантной эпохе, никогда не представлялся столь великолепно точным, как сквозь призму сегодняшнего момента. Недавно в одной публикации мне встретилось, что Шопенгауэр был, оказывается, «социальным альтруистом», поскольку высшим выражением его нравственности явилось сострадание; я пометил это место жирным вопросительным знаком. Философия воли Шопенгауэра (никогда не склонная забывать то, что известно о природе человека) как раз не имеланикакой воли, поставленной на службу желательности, не питала никакого социального и политического интереса. Его сострадание было средством искупления, а вовсе не исправления в каком-то духовно-политическом, оппонирующем действительности смысле. В этом Шопенгауэр был христианином. Попробовали бы сказать ему про социально-реформаторские задачи искусства – ему, для кого эстетическое состояние было блаженным господством чистого созерцания, остановкой Иксионова колеса, избавлением от воли, свободой в смысле искупления и ни в каком ином! Тут жёсткий эстетизм Флобера, его безграничные сомнения с nihil в итоге, с издевательским отчаянием «Hein, le progrès, quelle blague!» Тут проступает бюргерски-некрасивый лик Ибсена, сходный выражением с шопенгауэровским. Ложь как условие жизни, носитель «нравственных требований» как комическая фигура, Яльмар Экдаль как человек без прикрас, его нескладно-реалистичная жена как праведница, циник как резонёр: вот она, аскеза честности – шершавый девятнадцатый век. И сколько же от его брутального и честного пессимизма, от особого этоса, строгого, мужского, «бесстрастного в желаниях», перешло в «реальную политику» и антиидеологию Бисмарка!
Я вижу, что эта разнообразно варьирующаяся тенденция, главное настроение девятнадцатого века, его подлинная, не витийствующая, не сентиментальная, отторгающая культ изящных чувств покорность перед действительностью и есть то решающее, чем он меня одарил; именно этот дар ограничивает, сковывает моё естество в отношении части новейших стремлений, не принимающих мой мир, поскольку в нём-де нет этоса. В романе двадцатипятилетнего автора, возникшем на рубеже веков, не было никакого «духа, поставленного на службу желательности», никакой социальной «воли», никакого пафоса, велеречивости, сентиментальности, скорее пессимизм, фатализм и улыбка, и в своей меланхоличной покорности он и впрямь стал штудиейупадка. Одной невзрачной цитаты будет довольно для обозначения – да простится мне это слово – духовно-исторического места книги. Под конец рассказываются горькие, уродливые школьные истории. «Те из двадцати пяти молодых людей, – говорится там, – что отличались устойчивой конституцией и были достаточно сильны и ловки для жизни, какова она есть, и сейчас отнеслись к положению вещей просто, не почувствовав себя им оскорблёнными, сочтя все это самоочевидным и обычным. Но нашлась и пара глаз, в мрачной задумчивости смотревших в одну точку»… Их обладатель – маленький Иоганн, утóнченный вырождением и всего-навсего музыкально одарённый последыш бюргерского клана. «Маленький Иоганн впился взглядом в широкую спину сидевшего перед ним однокашника, и его золотисто-карие, затенённые синевой глаза были полны отвращения, внутреннего протеста и страха». Так вот, строптивость, чувствительно-нравственный бунт против «жизни, какова она есть», против данности, действительности, «власти», эта строптивость как признак упадка, биологической недостаточности, сам дух (и искусство!), понятый и поданный как такой признак, как продукт вырождения, – это и есть девятнадцатый век, его взгляд на соотношение духа и жизни, правда, опять же, с особым, крайним оттенком, ставшим возможным лишь после того, как указанная печально-искренняя тенденция достигла своей кульминации у Ницше.
Ницше, дав наиболее беспощадную характеристику эпохе, в известном смысле и стал такой кульминацией; самоотрицание духа в пользу жизни, «сильной» и прежде всего «красивой» жизни – это, несомненно, крайнее, последнее высвобождение из-под «господства идеалов», уже не фаталистичная, но восторженная, эротически-хмельная покорность «власти», отнюдь не мужского, а, как бы это сказать, сентименталически-эстетского свойства, и, кроме того, куда в большей степени золотая жила для художника, чем философия Шопенгауэра! В духовно-поэтическом отношении опыт Ницше порождает две родственные возможности. Одна есть тот эстетизм порочности и Ренессанса, истерический культ власти, красоты и жизни, который одно время так любила в себе известного сорта поэзия. Другая зовётсяиронией, и это уже про меня. В моём случае опыт самоотрицания духа в пользу жизни стал иронией – нравственной повадкой, описать, определить которую я иначе не могу: ирония есть самоотрицание, самопредательство духа в пользу жизни; причем, как и в ренессансном эстетизме, лишь с другим, менее ярким и более лукавым эмоциональным оттенком, под «жизнью» тут понимается обаяние, счастье, сила, привлекательность, симпатичная нормальность бездуховности, безмозглости. Только вот ирония – этос отнюдь не страдающий. Самоотрицание духа никогда не сможет быть совсем всерьёз, совсем уж до конца. Ирония – хоть исподтишка – вербует, хоть не питая надежды – пытается склонить на сторону духа. Это стихия не животная, а интеллектуальная, не угрюмая, а искромётная. И всё же она слабовольна и фаталистична, во всяком случае, далека от того, чтобы по-настоящему, деятельно встать на службу желательности и идеалам. Но прежде всего она этос крайне личный, не социальный, как и «сострадание» Шопенгауэра; ирония – не исправительное в духовно-политическом смысле средство, она не патетична, поскольку не верит в возможность склонить жизнь на сторону духа; в этом и состоит разновидность (повторяю – разновидность) ментальности девятнадцатого века.
Однако даже от того, кто не разглядел этого лет десять-пятнадцать назад, сегодня уже не может укрыться, что молодой век, двадцатый, яснее ясного обнаруживает намерение пойти по стопам именно восемнадцатого, а не непосредственного своего предшественника. Двадцатый век знать не хочет характер, устремления, главное настроение века девятнадцатого, проклинает его род правдивости, слабоволие и покорность, печальное безверие. Двадцатый векверит, по крайней мере учит, что нужно верить, и тщится забыть всё, что «известно о природе человека», дабы приспособить его к своей утопии. Он грезит о «человеке» вполне во вкусе dix-huitième; он не пессимистичен, не скептичен, не циничен и – последнее даже менее всего – не ироничен. Двадцатый век явно имеет в виду дух, «поставленный на службу желательности», дух социальной гуманистичности. Разум и сердце: они снова в самых верхних строках лексикона времени; первый как средство достижения «счастья», второе как «любовь», «демократия». «Покорности действительному» – ни следа. Вместо этого активизм, волюнтаризм, мелиоризм, политицизм, экспрессионизм, одним словом – господство идеалов. А дело искусства – пропагандировать реформы социального и политического характера. Если оно сопротивляется, на него тотчас навешивается ярлык: нелицеприятный (эстетизм), полемичный (прихлебательство). Новая раздражительность вовсе не следствие войны, хотя под воздействием войны она, несомненно, резко усилилась. Ни звука больше о гегелевском «государстве» – на повестке дня снова «человечество», ни звука о шопенгауэровском отрицании воли – дух и есть воля, коей предстоит воздвигнуть рай. Ни звука о гётевском этосе знания, воспитания – кругом сплошное общество! Политика, политика! Что же до «прогресса», по поводу которого фаустовская парочка у Флобера пришла к столь язвительному выводу, то для желающего «иметь вес» прогресс – догма, а вовсе не blague… Всё вместе – «Новый пафос», который сочетает в себе чувствительность и жёсткость и, прокламируя «решительную любовь к человечеству», не «человечен» в пессимистически-юмористическом смысле. Нетерпимый, максималистичный, полный французской риторической ярости, он сыплет оскорблениями, оставляя всю нравственность за собой, хотя некоторые – в конечном счёте имея на то своего рода право – возомнили, будто и до провозглашения господства добродетели жили не совсем беспутно, не просто ради удовольствия, и могут поддаться соблазну ответить, как Гёте ответил на упрёк патриотизма: «Каждый делает, что может, в зависимости от того, чем одарил его Господь. <…> Могу сказать, что в делах, для коих предназначила меня природа, я не давал себе покоя ни днём ни ночью, ни разу не позволил себе передышки, а вечно стремился вперёд, искал, трудился, сколько хватало умения и сил. Если каждый сможет сказать о себе то же, дела наши не так уж и плохи».
Что касается меня, то в последующих записях я старался прояснить для себя, в какой степени сам связан с новым, в какой степени и во мне есть нечто от его «решительности», отказа от «непристойного психологизма» ушедшей эпохи, от её рыхлого, не укладывающегося ни в какую форму tout comprendre, словом, от воли, которую можно, конечно, называть антинатуралистической, антиимпрессионистической, антирелятивистской, но которая как в художественном, так и в нравственном всё же была волей, а не одной лишь «покорностью». Это выявилось во мне довольно отчётливо – не из потребности примкнуть, а просто потому, что, дабы уловить голос времени, пришлось всего-навсего прислушаться к голосу внутреннему. Почему же тем не менее мне было суждено рассориться с новым, почувствовать себя им отторгнутым, отвергнутым, оскорблённым и в самом деле подвергнуться поношениям и оскорблениям, тем более нестерпимым и ядовитым, что их отличали самая яркая литературная талантливость, самое бойкое письмо, самая искусная страсть, какими только это новое располагало? Потому что оно выступило против меня – лично против меня – в форме, неизбежно возмутившей во мне всё самое глубокое и корневое, самое лично-неличное, самое непроизвольное, неотчуждаемое и инстинктивное –национальный базисный элемент моей природной и благоприобретённой сути, оно выступило против меня в политическойформе…
Как ни анализируй «Новый пафос», без слова «политика» не обойтись. В его оптимистически-мелиорационной природе заложено, что он всегда лишь в двух шагах от политики, примерно (и не только примерно) в том смысле, в каком не дальше от неё отстоят масонство и иллюминатство романского замеса, хотя не соблюдается даже эта дистанция. Однако тот, кому вздумается спросить, какой же политике привержен «Новый пафос», распишется в своём заблуждении: можно подумать, существуют две или больше «политик»; можно подумать, политический настрой не сводится к единственному – демократическому. Если в последующих рассуждениях тождественность понятий «политика» и «демократия» доказывается или принимается как нечто само собой разумеющееся, так на то имеется необычайно ясно осознанное право. Нельзя быть политиком «демократическим» или, скажем, «консервативным». Можно быть политиком либо им не быть. Политик и есть демократ. Политический духовный настрой и есть демократический; вера в политику и есть вера в демократию, в contrat social. Вот уже более полутора веков всё, что в духовном смысле понимается под политикой, восходит к Жан-ЖакуРуссо: будучи отцом самого́ политического духа, политической человечности, он и есть отец демократии.
Итак, «Новый пафос» выступил против меня в облике демократии, в облике политического просвещения и филантропии счастья. Для меня он был равнозначен политизации любого этоса; его агрессивность и доктринёрская нетерпимость состояли в отрицании и поношении любого неполитического этоса – это я испытал на собственной шкуре. «Человечество» как гуманистический интернационализм, «разум» и «добродетель» как радикальная республика, дух как нечто среднее между якобинским клубом и «Великим Востоком», искусство как социальный роман и злобно-томная риторика на службе общественной «желательности» – вот вам чистая политическая культура «Нового пафоса», увиденного мною вблизи. Конечно, особая, предельно романно-романская его форма. Но так уж распорядилась судьба, что я соприкоснулся с ним именно в такой форме, а потом, как уже говорил, «Новый пафос» чуть что, в любую минуту готов её принять: «Деятельный Дух», то есть дух, избравший «решительную» деятельность на поприще просвещенческого освобождения, исправления, облагодетельствования мира, недолго остаётся политикой в широком, переносном значении, тут же становясь ею в более узком, собственном смысле слова. Какой политикой? – простодушно спросим ещё раз. Ответ очевиден –враждебной Германии. Политический дух, антинемецкий по сути, как политика с логической необходимостью враждебен Германии.
Если я далее утверждаю, что демократия, сама политика – яд для немецкого естества и ему чужды, если сомневаюсь в призвании Германии к политике или его отрицаю, то не из смехотворного (как субъективно, так и объективно) намерения отравить волю моего народа к реальности или пошатнуть веру в правомочность его мировых притязаний. Заявляю: я глубоко убеждён, что немецкий народ никогда не сможет полюбить политическую демократию, по той простой причине, что не может любить самоё политику; что пресловутое «патерналистское государство» есть и будет сообразной, подходящей и вообще-то желаемой самим народом формой его государственного устройства. Сегодня для подобных утверждений требуется известное мужество. Тем не менее они не только не содержат ни малейшей недооценки немецкого народа (как в духовном, так и в моральном смысле) – ровным счётом наоборот, но и ничуть не посягают на его волю к господству и пространственной обширности (которая не столько воля, сколько судьба и мировая необходимость), на её правомерность и перспективы. Бывают народы в высшей степени «политические», которые просто не выходят из состояния политического волнения и возбуждения и тем не менее, по причине острого дефицита способности к государству и власти, ничего не добились и не добьются. Назову поляков и ирландцев. С другой стороны, единственной наградой организаторских и государствообразующих сил принципиально аполитичного – немецкого – народа становится история. Посмотреть, до чего довели Францию её политики, так получаешь, на мой взгляд, доказательство, что иногда с «политикой» ничего не выходит, а это, в свою очередь, является неким доказательством, что без политики в конце концов вполне может что-нибудь выйти. Значит, если наш брат говорит, что политический дух чужд Германии и здесь невозможен, то недоразумений возникнуть не должно. Однако самые мои глубины, мой национальный инстинкт ожесточился на вопли про «политику» в том значении слова, которое приличествует ему в духовной сфере; именно «политизация духа», жульническое перетолкование понятия «дух» в улучшательское Просвещение, революционную филантропию действует на меня как яд и опермент; и уверен: мои отвращение и протест – не что-то несущественно личное, они объясняются не временем; тут моими устами говорит само национальное естество. Дух – этоне политика, и, если ты немец, тебе не нужно быть ужасным девятнадцатым веком, чтобы насмерть стоять на этом «не». Различие между духом и политикой включает в себя и различие между культурой и цивилизацией, душой и обществом, свободой и избирательным правом, искусством и литературой; и немецкое – это культура, душа, свобода и искусство, а не цивилизация, не общество, не избирательное право и не литература. Различие между духом и политикой, чтобы дать ещё один пример, – это различие между космополитическим и интернациональным. Первое относится к культурной сфере, оно немецкое; второе – из сферы цивилизационной, демократической и… какое-то совсем другое. Демократический буржуа, в какие бы национальные одежды ни рядился, интернационален; бюргер – и это тоже тема данной книги – космополитичен, посколькуон немец, больше немец, чем монархи и «народ»; именно этот человек географической, социальной и душевной «середины» был и остаётся носителем немецкой духовности, человечности и антиполитики…
В наследии Ницше обнаружилось полное невероятной интуиции определение «Мейстерзингеров». Оно гласит: «”Мейстерзингеры” –противоположность цивилизации, немецкое против французского». Запись бесценна. В ослепительной вспышке гениального постижения здесь вмиг предстаёт противоположность, над которой бьётся вся эта книга, противоположность, которую из трусости часто отрицали, оспаривали и которая тем не менее есть бессмертно истинная противоположность между музыкой и политикой, между немецкостью и цивилизацией. Для немецкости эта противоположность остаётся фактом умонастроения, чем-то душевным, не проникшим в разум и потому неагрессивным. В цивилизации же она стала политической ненавистью. Могло ли быть иначе? Цивилизация – насквозь политика, и потому её ненависть лишь политическая, не может тут же не превратиться в политическую. Политический дух как демократическое Просвещение и «человеческая цивилизация» – антинемецкий не только психологически, он неминуемо враждебен всему немецкому и политически, где бы ни царил. Это определило и позицию его внутринемецкого приверженца и пророка, призраком скитающегося по страницам этой книги под именем литератора цивилизации. Историческая наука объяснит, какую роль в духовной подготовке и фактическом развязывании мировой войны, войны «цивилизации» против Германии сыграло интернациональное иллюминатство, мировая масонская ложа (исключая, разумеется, ничего не подозревающих немцев). Лично у меня в этом отношении и прежде появления каких-либо данных сложилось ясное и непоколебимое убеждение. Сегодня уже нет необходимости утверждать, а тем более доказывать, что французская ложа, к примеру, политична до полного тождества с радикальной партией, которая, собственно, и стала во Франции рассадником и питательной средой духовной ненависти к Германии и немецкому естеству. Ненависть к Германии подпитывает даже не nouveau esprit молодой Франции; тот тоже сегодня воюет с нами, но для него мы враг, которого он уважает. Врагом Германии в самом духовном, самом инстинктивном, ядовитом, смертоносном смысле стал «пацифист», «праведник», «республиканец», ритор-буржуа и fils de la Révolution, этот прирождённый активист трёх точек; именно с его словом и волей немецкий представитель политического духа, манипулирующий «Новым пафосом» в духе «человеческой цивилизации», в 14-м году, недолго думая, объединил своё слово и волю, именно на его отвратительном арго заговорил, как, собственно, говорил всегда. Повторяю: он был единомыслен не с пристойной, по-рыцарски уважительной враждебностью по ту сторону границы, не с nouveau esprit, который в духовно-нравственном по большому счёту симпатизирует Германии, а с политическим, ядовитым врагом, основателем и акционером «d’un journal, qui répand les lumières». Последний и был его героем, его победы желал наш литератор, его вторжения в Германию жаждал, иначе и быть не могло. Триумф одного «мировоззренческого», по слову Макса Шелера, милитаризма над другим имел бы немного смысла; молиться полагалось о победе пацифистски-буржуазного «утилитарного» милитаризма (с чёрными армиями) над «мировоззренческим»; и тут-то, если не раньше, наши взгляды – взгляды политического неопатетика и мои – разошлись; противоположность между нами под натиском времени обострилась, поскольку благодаря какой-то несвободе моей сути я возжелал победы Германии.
Чтобы объяснить, извинить это желание в немецкой среде, приходится прилагать все мыслимые старания. В стране кантианской эстетики прежде всего полагается напирать на то, что победа Германии нам «безразлична». Я не брутальный юнкер, не индустриальный магнат, не обременённый капиталами социал-империалист. Для меня немецкое господство в торговой сфере не вопрос жизни и смерти, я даже испытываю оппозиционные сомнения в немецком призвании к большой политике и империи. Для меня тоже речь идёт о духе, о «внутренней политике». Я душой болею за свою страну, не потому что Германия политическая конкурентка Англии в борьбе за власть, а потому что она духовная её соперница; что же до немецкого поборника «человеческой цивилизации», то меня довольно быстро встревожила, внушила страх, ненависть и чувство протеста не столько его политическая враждебность немецкому, сколько душевная антинемецкость, тем более что и для него «внутренняя» политика довольно быстро опять обошла «внешнюю», враждебность немецкому отступила, точнее, отслоилась перед лицом антинемецкости, обнажив её ядро. Его враждебности скоро не на что стало надеяться: военное вторжение войск цивилизации в Германию успехом не увенчалось. Но он по некой иллюзии права продолжал возлагать надежды на вторжение духовное – вероятно, самое мощное и масштабное политическое западное вторжение из всех, что когда-либо становились немецкой судьбой. Он надеется на душевное обращение немцев в политику и демократию (которое стало бы настоящим преображением и структурной деформацией); нет, не надеется… оно видится ему, и по некой, повторяю, иллюзии права, торжествующей несомненностью, причём настолько, что уже сегодня, не усматривая никакого для себя в том бесчестья, он считает возможным объединять себя и Германию в местоимение первого лица множественного числа, проговаривая то, чего не говорил никогда в жизни: «Мы, немцы». «Мы, немцы, – сказано в одном литературном манифесте цивилизации, появившемся в конце 1917 – начале 1918 года, – наконец-то доросли до демократии, нам предстоят великие дела. Ни один народ не сможет взять власть в свои руки, не поняв, что такое человек, и не научившись при помощи взвешенно организованных учреждений управляться с жизнью. В народах, которые сами руководят собой, борьба общественных сил у всех на виду, люди воспитывают друг друга, действуя открыто, информируя ближних. Стоит лишь нам зашевелиться изнутри, тотчас падут преграды вовне, европейские расстояния сократятся, и мы увидим в соседних народах братьев, идущих тем же путём. Пока мы коснели в бездвижном государстве, те казались нам подлежащими уничтожению врагами, как раз потому что не коснели. Разве, говорили мы, перемены не признак конца? Разве не гибельно воплощать идеи в пылу сражений и в кризисные времена? Однако теперь и наша участь такова…»
Каким невыразимо мучительным протестом переворачивает мне нутро эта недоброжелательная мягкость, вся эта красиво стилизованная гадость! Разве не смешно? Разве каждая фраза, каждое слово тут не фальшь, не перевод с другого языка, не заблуждение в самой своей основе, не чудовищный самообман? Разве не перепутаны тут желания, инстинкты, потребности духовно натурализовавшегося во Франции романсье и немецкая реальность? «Теперь и наша участь такова!» Высокое, блистательное, но до мозга костей романизированное литераторство, позабывшее, что хорошо бы иметь хоть какие-то точки соприкосновения с особым этосом своего народа, и даже признание существования такого национального этоса заклеймившее животным национализмом, противопоставив ему свой гуманистически-демократический, цивилизованный, «социальный» интернационализм. У этого литераторства есть мечта: поскольку Германия думает, как бы расширить фундамент для избрания политического руководства, и называет это «демократизацией», да будет и «у нас» так же восхитительно-увлекательно, как во Франции! Угодив в сети безумия и путаницы, литераторство подбрасывает своей стране и народу жребий, который таковым никогда не станет, не сможет стать – разве не так? Пропускаю слова, что Германия «доросла до демократии», то есть до такого государственного и общественного устройства, до которого давным-давно «доросли» Парагвай и Португалия. Не стану также задерживаться на парламентской тираде о «народах, которые сами руководят собой». Важно, что немецкий человек, пусть он хоть объестся «демократией»,никогда, ни за что не будет «управляться» с жизнью при помощи «взвешенно организованных учреждений» бульварного моралиста. Никогда не будет под «жизнью» понимать общество, никогда не поставит социальную проблему выше нравственного, внутреннего опыта. Мы не общественный народ, не Клондайк для праздношатающихся психологов. Предмет нашей мысли и поэзии – «я» и мир, а не роль, которую «я», по его собственному мнению, играет в обществе, не математически-рационализованный мир общества, являющийся предметом французского романа и театра – или являвшийся таковым до позавчера. Подразумевать под «шевелением», да ещё «изнутри», лишь действие политическое, социал-критическое и полагать, что «германцу пристало ужасное это движенье продолжать и не ведать – сюда иль туда повернуться», – это я и называю отчуждением, вполне пригодным для изысканно-причудливого плодоношения в сфере космополитического искусства, однако непереносимым с того момента, как оно осмеливается в ипостаси политического пророчества исправлять, водить на помочах нравственную жизнь нации. Ибо тут уже путаница и выверты доходят до точки, где оказывается, что мы совершенно напрасно в охваченных внутренним шевелением соседних народах (милых, прекрасных!) увидели врагов. Не измывательство ли? Это мы-то увидели врагов? Мы как раз толком их не разглядели! В своей добродушной аполитичной человечности мы продолжали грезить, что возможны «понимание», дружба, мир, добрососедство, мы и помыслить не могли, мы лишь с началом войны с ужасом и содроганием поняли, как они нас (а вовсе не мы их!) всё это время ненавидели, и не столько из-за экономической мощи, а политически, и куда ядовитее. Мы и думать не думали, что под покровом мирных международных сношений в безбрежном мире своё проклятое дело делала неистребимая смертельная ненависть политической демократии, масонско-республиканского ритора-буржуа образца 1789 года к нам, к нашему государственному устройству, духовному милитаризму, к духу порядка, авторитета и долга…