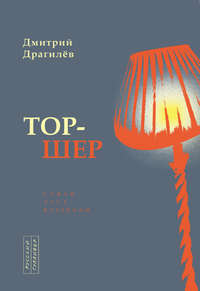Полная версия
Некоронованные
Когда-то в школьные времена меня спросили, какое закордонное наречие желаю я изучать. Сильно призадумался. Начнем с того, что мало-мальским немецким мог уже похвастать. И что, опять? Ахтунг, ахтунг, шнэллер, натюрлих, айн момент, дойче зольдатэн, дойче официрэн? Да ни в жисть. Пусть Рябчиков в немецкий углубляется. А мне пора было грызть дополнительные языки. Раз уж выдался один из редких случаев возможности «самому» выбрать предмет. Тем временем учитель биологии и немецкого Исаак Давыдович (у него наш Рябой в самом деле занимался и даже частным образом уроки брал) на опытной станции поставил будку с загадочной надписью «Рваный Шпасс». Объяснения странным словам не было, спросить никто не решался. С тех пор Давыдыча так и величали в народе. Шпасс казался псом. Пес, псун. А ведь «шпасс» – что-то вроде радости. Хотя в переводе «радость» суть «фройде». Почти как фамилия главного психоаналитика. Однако «шпасс» за все отвечает, остро необходим на все варианты и опции жизни. Его нужно иметь, он должен быть. «Шпасс мусс ман хабен, шпасс мусс зайн». Совершенно непереводимое слово. Расплывчатое. Шутка – тоже «шпасс». Но есть и другое слово – «шерц». Остро́та. Кайфом не назовешь. Словари уточняют: забава, потеха, удовольствие, развлечение, веселье. А рваный шпасс – это что? Прерванный коитус?
Выходец из Биробиджана Исаак Давыдович еще и на идише балакать умел. Наречии, которое, надо полагать, было подлинным мамелошн турецкоподданного Бендера. Папаши того гражданина, который стал мужем мадам Грицацуевой. Ясный перец – Остап маскировался. Что до Давыдыча, то именно ему принадлежит изречение: «Без драпировки вытанцовывается лишь исключительно редкое дело». Постепенно постиг я смысл этих слов. Тут как с рваным шпассом, даже проще. Да, мы украшаем и делим пространство, утепляем, камуфлируем и укутываем. Чаще всего – собственное отношение к действительности. Главное, чтобы складок побольше. Для такой стратегии даже научный термин придумали: тегименология, наука о покровах. Маска тоже в этом перечне. Наконец, мы притворяемся. Как объяснить, например, учительницу русского языка и литературы? Она теряла мои тетради с тщательно написанными сочинениями. Вызывала мать в школу. В дневник ставила колы по поведению. Тройки по предмету. Училка имела свой шпасс. Ведь что такое кол? Тоже тройка: слово из трех букв, которое произносишь, увидев в школьном журнале – кассилевском кондуите – цифры на раз-два-три. Скудный ассортимент цифр.
Рябчикову, кстати, приходилось не лучше, поскольку мы оба играть в слова любили. Да и нынче не против. «Вот что, Дутцев, хватит дуться, нам давно пора uns duzen[15]». «Ксантипическая реакция жены». «Der SS-Barbar wurde beerdigt in der BRD»[16]. В последнем предложении почти все гласные сочетаются. Единственные согласные буквы, которые реально выпадают, – это SS. А две русские литеры «с», повернутые друг к другу, образуют «о» посередке. Точнее – всего одну букву вместо возможных трех. Или ноль. Едва ли не круг энсо – символ первоначального лица, буддистского просветления, полной луны. «Или жест матушки-канцлерши. Она обычно так складывала пальцы на животе, – гадко потешается Кудкудах. – Разломанный бублик с дыркой от бублика. Трансформированный СОС в кириллице, одна „c“ глядит на другую».
Ох уж это мне дурацкое выражение «послать на три буквы». Что плохого в слове из трех букв? Даже корабли с ним теперь рифмуются, разные там дредноуты. И, кажется, один из президентов Украины высказывался на тему. Значит, все уже было. И текст этот тоже уже был. Но в пору описываемых здесь разговоров с Рябчиковым, Кислицыным, Панталыкиным, с Ребеккой и Непостижимкой мы жили еще по старому календарю. Так или иначе, есть много разных и хороших трехбуквенных слов. Не начальных трех из слова «сволочь». А естественных, надежных, населявших русский словарь задолго до легализации перехода к ордынскому сраму, тем более современным аббревиатурам. Муж, мяч, меч, душ, туш, лук, луг, сук, лес, бор, дуб (со златой цепью, разумеется), зуб, вол, дол, лоб, кот (один олигофрен в моем классе исписывал этим словом тетрадные страницы), рот, мяу. Сом, сон, сад, дар, дом, сыр, мир, май, мел как способ первого ненацирленного соло продолжительных учеников. Наконец, просто «три». Или Нуц, мастер Нуц, тут дело в нем. Хотя нет, Нууц, все-таки четыре… А Б-г? А дыр бул щыл? Футуризм, поэзия. А сим-сим? Телефонные арабские сказки. А ФИО, ЗИМ, ГУМ, ЦУМ, ГПУ, ЦРУ, США, ФРГ, КГБ, ДНД, ДОТ? Турандот. Dot.com. Дот можно взорвать. Лом. Против лома нет приема. Ни против Лома, ни против ломки, ни против капитана Врунгеля, ни против ЦРУ, ни против ВСУ, ни против США, ни против СМИ, ни против исламских террористов… Ни против хама – читай: Жуя, ни против БАБ, то бишь жен.
Вот Ребекка (Рябой – Ребекка, как-то они перекликаются) не переваривала, когда я в плохом, нет, просто в рабочем настроении звоню ей и что-то из своего дня рассказываю. Она, дескать, не мой дневник. Не исповедальня. Фройляйн (запрещенное ныне слово, гендерно некорректное) оставляет право считаться слабой и несчастной только за собой. А ты, дружок, будь постоянно энергичным и неумолимо остроумным. Неутомимо веселым скакуном. Скаутом. Как в те времена, когда мы только познакомились и тебе важно было завоевать меня… Я же – роза, несмотря на все суфражистское равноправие. А в тебе так или иначе течет русская кровь. «Ви роза!» – пел мсье Трике. «Рус ви или не рус?» – может спросить любой посланец Запада. Конечно, рус. А это обязывает, если ви – рус. Вирус. Не трус. Счет можно выкатить по полной. Однажды подарила мне моя немка кружку с надписью «Allways kiss me. Goodnight». Много позже – опять кружку, но уже с известным, хорошо раскрашенным поцелуем Брежнева и Хонеккера. Для преодоления гомофобии, дескать. Ну что ж, выпьем, милая! Я пока не разбил твой фаянсовый подарок. Поднимем повыше за гендерный конформизм. Непостижимку позовем, может, присоединится. Ведь ни одна из вас моей жилеткой быть не желает.
«И что ты собираешься делать? Комбинация из трех букв – это не только душ, но и век». Настойчивый голос Рябого дал понять, что разговор с его обладателем все еще не закончен. Видимо, какие-то мысли я проговаривал вслух, надеясь распрощаться на автопилоте…
«Наш век предпочитает кал, – зачем-то подумал я. – Например, в некоторых модных романах. Будоражат бизнес-сроки, лезь в овражек с головой, подсобит дефект сороки дефекации любой. Эффект „Сорокин“ подсобит. Кал, кал. Рябчиков уже пытался расшифровать. Толкований целый ворох. К – красный кумач вытеснила купля-продажа. А – альтруизм заменила алчность. Л – любознательность – ловкачи, лавочники, лихие люди… Лигархи».
– Итак, я повторяю свой вопрос: что ты собираешься делать?
– Похоже, диспут вступает в новую фазу, – прошипел я, пожалев, что не смог соблюсти нейтральный тон. – Сэр Кудкудах цитирует таксиста из «Неспящих в Сиэтле», который вез мальчика Иону к Эмпайр-стейт-билдинг. Что я собираюсь делать вообще, делать завтра, делать с кружкой или бывшей подружкой? Завтра поеду к ветеринару.
– Не поможет.
– От совиного гриппа? Догадываюсь. Напрасно полабские славяне сову в невесты определяли. Но спасибо, что напомнил, – выскочило у меня. – И за доверие. Делаю одолжение соседке, она у нас дама с собачкой.
– Что за раса?
– А тебе зачем? Легче отравить?
– Чтобы я понял ее внешность.
– Чью?
– Соседки твоей. Морды городских псин особенным образом напоминают тех, кто повязан с ними. Передают утрированную сущность своих доблестных владельцев. Вот в чем драма.
Ох уж этот мне Рябчиков, что ему ни скажи, всегда у него ответ заготовлен. На любую тему не прочь калякать.
– А может быть, не драма, а программа? Я бы сказал – драпировка. Драповое пальтецо… С намеком на след от поцелуя. На воротнике. И лепет… Нет, лепестки от цветка в петлице… И повод драпать куда глаза глядят. Лишь бы найти данный цветок. И автора поцелуя.
– Без понятия, но боюсь, что придется кивнуть, – очумело заключил Рябой, не ожидав от меня такого потока.
– Э-э? – Из моего горла донеслась протяжная гласная, как случается с немцами, не понимающими, в чем дело.
– При чем тут «э»? – Рябчикову гласная не понравилась. – Просто я должен ответить утвердительно на твой сермяжный вопрос.
– Конкретизируйте, пожалуйста.
– Примем как данность.
В этом месте наш разговор снова стал распадаться на бессвязные «переводы стрелок», «перемены пластинок» и закончился незаметно для нас самих.
ВНУТРЕННЯЯ ГЕЛЬВЕТИЯВ урочный час острых метаний я решил внять советам Рябого, вспомнив про город, который он мне настоятельно рекомендовал. Посетил швейцарский Цюрих. Успел до вспышки вируса. Там удалось побывать в одном интересном доме. Мы сидели на тахте с местной девушкой, пробовали разные коньяки и сыры. Квартал был окрашен в палевые тона и казался очень уютным. Хотя ни паленой водки на столе, ни панельных зданий в округе. Или я их попросту не заметил. Вы спросите: при чем здесь панельные здания? Дело в том, что вечерние окна именно таких домов вызывают у меня ощущение доброты и причастности к миру. Почему-то. Это что-то старое, из фильмов и песен. Или, может быть, окна, лишенные наличников и сандриков, без какого-либо декора и даже крестовин, не бифориумы древние, но близнецы Баухауза действуют как настроечная сетка? Тест-таблица для визуальной регистрации, оценки сигналов от ламп, горящих в глубинах квартир. Нет, скорее – для проверки внутренних ощущений. Когда горят лампы, а не хаты.
Я не выкладывал эти мысли в блогах и на форумах, не кидался с ними опрометью ни в фейсбук, ни в ЖЖ. Блог – тоже город, только в сети. Хотя скорее огород. Я решил написать Рябчикову письмо. Представил себе, как он спустится со своей лестничной площадки, поздоровается с соседом, откроет почтовый ящик, обнаружив в нем швейцарский конверт:
«Ну что тебе сказать, дорогой Рябчиков, про Сахалин, Сахару и Республику Саха? Лишний раз убеждаюсь, что в большинстве случаев от системы координат и обстоятельств места проживания суть нашей суетной жизни не меняется. Везде одни и те же растры и раструбы. Астры и костры. Лишь бы мирное время. Добрался я, кстати, нормально и по желаемому адресу. Однако не без приключений: пересадка все-таки произошла (по техническим причинам). Как ты догадываешься, к подобным фокусам отношусь без восторга, поскольку сразу же вспоминаю свои давние зимние поездки на родину: число пересадок из автобуса в автобус, навязанных приснопамятной компанией „Клюфт“ за один рейс, доходило до обидно-абсурдного максимума. Единственное, что грело меня тогда, – конечный пункт и девушка у окна. Ведь ближе к стеклу всегда оказывалась какая-нибудь девушка. Не обращавшая на меня ни малейшего внимания. Молодая особа, озабоченная сумочками и мобильником – Джобс в ту пору лишь вынашивал идею айфона.
Что ж она там такое химичила? Строчила эсэмэски? Казалось, бесцельно смотрела на аппарат и временами щелкала по кнопочкам накрашенным ноготком. Тип городской бездельницы. Впрочем, зря я так сурово. Она попросту новый ридикюль купила и теперь осуществляла инвентаризацию барахла: содержимое вытряхнула, перекладывала вещи. Заодно заглядывала в гаджет. Потом подправляла марафет, дабы лишний разок подкраситься-подштукатуриться. Убедиться, что хороша. Остается открытым вечный вопрос: зачем все женщины так любят сумочки и почему женская сумочка постоянно забита всякой всячиной? Меньше чем за полчаса до прибытия девушка успевала достать какую-то снедь, начинала что-то усиленно грызть. Количество извилин в голове прямо пропорционально длине каблука или в пункте назначения ее не покормят? Или помада у нее несмываемая? А вдруг, если неуклюже перефразировать (парафразировать) Бродского, чем каблук длиннее и тоньше – тем толще мысль и короче извилина?
Я ловил себя на том, что бесшумно – внутренне – по-сексистски хамил ей. Вот живете вы по-прежнему здесь (молодца! Мне не удалось), предполагаете себя искушенными до невозможности (ведь все теперь разрешено, обо всем написано или пишется), проинформированными, врубаетесь во все события. Ой ли? Ухом, рылом? Правило „здули“ знаете? А третий закон Апсуна? И не надо. А принцип БРИ? Нет, не брэ – мужского исподнего или „дезабилья“ древних народов. И не амбре. И не мягкого французского сыра. Шифр. Всего три буквы. Как три карты. Итак, БРИ – „Боевая раскраска индейца“ – на Западе практикуется только проститутками и трансвеститами. Ась, что вы говорите? Ну да, разумеется, в западных правилах вы избирательны. Понимаю, что рефлекс „прихорашиваться“ весьма нужный, особенно после шестидесяти. Шутка. Но после шестьдесят восьмого года сохранился не везде. Да и перебарщивать зачем, если естественная красота так и просится на языки и полотна?
Пока я об этом думал, один из пассажиров складывал руки на затылке. Комбинация его пальцев напоминала закусывание губы. Даже не дулю. В окне появлялась отдельно стоящая большая и красивая церковь. Псевдоготика эпохи эклектики. Последний форпост католицизма на „восточной дороге“? Короткая остановка. Автобус покидали двое парней. Вокруг костела никаких жилых зданий, тем более интересных построек. Лишь вдалеке маленькие домишки, рассыпанные на приличном расстоянии друг от друга. Врозь. Наконец возникали лес, речка. Не в пример стодорянским лесам. А до речки пейзаж почти не менялся.
Нынче пейзаж другой. Мы пересекли недоброй памяти Боденское озеро и въехали в Констанц в виде этакой метаболы – бус на паромчике. Oppidum Lindenhof, то бишь Цюрих, обрадовал хорошей погодой (не в пример хмарному Констанцу). Ты не поверишь, Рябой, но обязан угадать, ЧТО мне в первую очередь бросилось в объятия, попалось на глаза. (Не считая вокзала, напоминающего о Вл. Ильиче и отчасти Вяч. Михалыче: экспресс с наркоминделом заплыл в 40-м г. в берлинский дебаркадер на Асканишерплац, спроектированный в свое время в похожем стиле.) Подсказываю. Мемориальная доска! Спросишь, чья, кому? Джойсу? Отнюдь. Поэтической чете из Латвии – Райнису и Аспазии, его супруге. Пожалуй, Плейшнера не зря водили за нос в Прибалтике. Сходство со штирлицевской Ригой имеется, хотя в целом этот город другой. А оперный театр странным образом напоминает львовский.
Побывал я на одном „аперо“, хотя антипасти в качестве фингерфуда меня напрягли. Негигиенично, опасно. Особенно в наше тревожно-рубежное время. Пофотографировал в буколически-пасторальных окрестностях моего пристанища, а также в вечернем нутре этого города, приятного во всех отношениях, кроме цен. Выделенный мне в распоряжение экскурсовод халтурила, причем настолько по-ученически, что об этом лучше умолчать. Как говорят прожженные музыкальные критики: если народ не вызывает на бис и не хвалит услышанное, значит, артистам нужно искать другую работу. Хотя, наверное, можно сделать поправку на церемонных гельветов, а также определенную флегматичность, которую местные жители подозревают в самих себе. Ведь взрывов здесь не бывает. Разве что кто-то по неосторожности забудет банку сгущенки в кипящей воде кастрюли…
Что до коров и цапель, полюбовался я и на них. На праздно шатающихся буренок и прочую ерундень. Принял парад, когда они друг за дружкой отправлялись в стойло. Недоставало только пастуха-дирижера Кости Потехина. Шоколада отведал, бесплатную экскурсоводшу на четырнадцать франков выгулял (лирическая часть получилась бессмысленно-бенгальской, этот легкий дежурный флирт не был нужен ни ей, ни мне). Что еще? Витражи тов., нет, мсье Шагала в их красно-сине-зелено-желто-синей палитре созерцал (ни сотрудница кирхи, ни сопровождавшая меня особа не смогли мне объяснить выбор цветовой последовательности). В троллейбусах снова поездил. Есть там такие. Даже бывший перевалочный остров (полуостров?) наркодилеров и их клиентуры транзитно пересек. Last but not least (как в песне) испортилась погода. Ветер, холод и дождь. Местами снег. Думал открыть банковский счет, но преодолел искушение. Да и кто бы открыл его мне, г-ну Перекатипольскому. Очень скоро вернусь. Тем более что меня ждут. Кто ждет? Взрыв внимания. Или хотя бы новые вести. Ведь вышеперечисленная органика хороша, и огромная душераздирающая полынья посреди города допустима, но…»
Досочинив это письмо, я понял, что вру и ерошусь. Храбрюсь, хорохорюсь. Ершусь, в конце концов. Никто сабжа не ждет. Или ждут не те. Не те, в ком я видел свет и обещание. И Рябчиков мне не помощник. Ребекка упорхнула. Непостижимая особа призывает бороться с демонами. Переспрашиваю: с демонами или доминами? С демонами, говорит. Уточняю: с какими? Отвечает односложно. Дескать, сам знать должен. Мол, мое стремление навязываться – одно из демонических проявлений. Да уж, насильно мил не будешь. Дело далеко зашло. Если она не хочет думать обо мне, если само упоминание моего имени выводит Дженнифер из себя… Говорит, не давал ей информации, которую она искала. Деньгами снабжал, а информацию попридерживал. Сознательно закрылся, блокировал каналы. Оправдывался незнанием, веником прикидывался. Тем самым выбивал пьедестал из-под собственных ног. У нас же обмен – от меня информация, от нее энергетика. В итоге получаю патогенную энергию. Разрушительную. Или вообще никакую. Что мне барышне ответить (о себе не говорю)? Я сошлюсь на сильный ветер и, пожалуй, закурю[17]. Да, глаза слезятся. Склера течет. Но пенять на ветер – все равно что на вирус. Сказать, что не закрывался? Пояснила бы сперва, как это – «закрыться». Я же не клуб. Говорил, что несведущ, только когда испытывал неловкость и растерянность. Или не сообразив, какая информация требуется. Не верит. А ведь инфа от меня шла, ёлы-зелёлы! Однако, оказывается, только запутывая сложноподчиненными предложениями, растеканием по древу. Недостижимка полагает, что, ведя беседы, я говорил ни о чем, воровал время. Преследуя хитрые и хищные цели манипуляции. Если посвящал ее во что бы то ни было, то руководствуясь методами каббалистическими, будто общаясь с врагом. Дабы отвратить, посеять раздражение и неприязнь. В итоге любой материал принимался в штыки. Как ненужный input. А если задуматься на тему проявленной заботы? Тоже мимо. Ведь, оказывается, тайная корысть в заботе той. Всего лишь пытался привязать к себе, держать в поле зрения, с видами на дальнейший шантаж. Я вспомнил вопрос Рябчикова, заемный, из фильма: «И что ты собираешься делать?» Хочется схватиться за голову, крикнуть: «Какой ужас, рятуйте, помогите, люди добрые!» Я ведь всей душой, по любви, без мошенничества, без вредного умысла. Где искать ответы, у каких типировщиков и эзотериков, ортодоксов и харизматов, крестознавцев и родноверов? Неужели так плох? Да, ты плох, говорит, пляши от этой печки, человек изначально плох! Мысль христианская. Но христиан порицает и отрицает, тыча для острастки даже в версии американских конспирологов (ею, впрочем, не чествуемых). Не отсылает разве что к забытым идеям Зузенко А.М., моряка и литератора.
Дженнифер беспокоится, что все по-старому между нами. Якобы ничто к лучшему не меняется. Круче гор могут быть только горы, ловчее гордыни и вампиризма – расставание. Хочется крикнуть: позвольте, какой вампиризм, какая гордыня? Когда даже адреналин не нужен. Вместе с адреналином вырабатывается чувство вины. И желчь. Свербит вопрос: в чем же я все-таки провинился? Предъявите мне счет за эгоцентризм, за лень. Упрекните в занудстве. Ах, если бы лишь в этом и заключалась вся трудность! Ведь знает прекрасно, что я был счастлив пуститься ради нее на любые авантюры, просторы, возможные и невозможные, лишь бы в масть. Я ездил по ее просьбе в пресловутый стодорянский лес, где неожиданно пропала ее кузина. Родственница в итоге нашлась, можно было и не ехать. Поскольку искали не только мы, но параллельно с нами – по всем законам жанра. При помощи радаров, фотороботов, фонарей и собак. Увы, Непостижимка не верила полицейским, волновалась, не могла ждать. «Сокрушаться бессмысленно, нужно действовать», – сказал я тогда себе. Любишь, чувак? Так будь любезен и готов отправиться в самую стремную волость, в дрянную даль и погоду, забив на остальные дела.
Едва ли забуду, как она по ночам навещала меня в редакции, подгадав под мое дежурство. Устроилась в том же здании уборщицей, мыла кондитерскую. Приходила уставшая, просила воды и кофе. Медленно поднимала глаза, медленно прикасалась к губам. Потом что-то изменилось, исчезло. Знать бы, как и что именно. Она перестала меня слышать – таким макаром объяснялся ею печальный факт пропажи тяги, без экскурсов в тонкости. Я предпочел смириться, просил руки. Но Алина сжалиться не желает. Успела даже сходить налево: «Я предала. Зачем такая тебе? Не можешь признать, что бывает хорошо без твоего участия?»
Славные вопросики, славная участь, славное море для бегства. Вот только где омулевая бочка и баргузин? Чего же скромный соискатель в этой, мать ее, эксцентрике недотумкал? Ни гранит не перегрызть, ни Алину измором не взять. По́шло повторять дигитальный язык, но что-то пошло не так. Недостижимка не пускает в свою жизнь, не приручается, лишь позволяет присесть на краешек, чуть-чуть заглянуть за кайму. Не до и почти. Одна снежинка еще не жинка. Замечаю синие цвета и фиолетовые, и металлический, и даже стеклянный. Хотя что такое стеклянный цвет? Бывает цвет бутылочного стекла. Черные птицы – дочери мельника – клюют из алюминиевых мисок, не останавливаясь перед препонами. Смысловой законченностью не пахнет. Я уповал на дримтимность и легитимность, а получилась полная нихренастика.
Какие будут предложения, друзья мои? Отправиться домой – самая простая опция. И, наверное, наилучшая. Но как правильно прийти домой? И где он, этот дом? На поверку дом – чаще всего – в транспорте. В новых икарусных маршрутах детства, в омнибусах междугородних, в мнящихся и немнущихся парусах над Боденским озером, в трамвае, который опаздывает, отменен по причине ремонта трассы или в котором засыпаешь в ночи, после встречи с товарищем. Презреть ночной транспорт! Дополнительный вариант – полазить по городу. Опять же в нагрузку. В Берлине птицы поют уже с трех. Не бойтесь подслушать этих птиц. Потренируйте слух, определив, что за ноты и пассажи бытуют в птичьем народе. Планов на то, что горячо любимые двуногие пригласят на огонек, чур, не строить. Плюньте на планы. И давайте не придираться к пернатым, они не разбудят бывших партнерш. Позволим минутам, проведенным нами вне стен квартиры, простираться до первых деток, которых отправят в школу к восьми. В стираных костюмчиках. Не знаю, когда начиналось утро для Вертинского, в котором часу он возвращался из кабаков. Не почудились ли дети Александру Николаевичу, когда он шел сонным бульваром? Судя по песне «Желтый ангел», думаю, что почудились. Какие милые у нас? Каникулы? Карантины? По хуучин-зальтаевскому календарю. Не пугайтесь, не торопитесь прочь. Дядя не кусается и не маньячит. Погуляем, дойдем, например, до Литературного дома на птичьей улице. Здесь мало друзей из Сирии. Но в прошлом выступали и Сирин (Набоков), и Блох (не Блок), и Нуссимбаум, этот добровольный гибрид, зачарованный перебежчик из иудаизма в мусульманство. Сам дом принадлежал господину Хильдебрандту, штурману-лоцману немецкой полярной экспедиции. Поначалу не знавшему, как вернуться в родные города и леса. Штурманом был достигнут высокий, семьдесят четвертый градус северной широты и шестой долготы западной. Западня оказалась долгой. Двупиковые скалы навевали тупиковые решения. Зато пространство безвирусное. Нам до 74-го градуса далеко, остаться бы при тридцати шести и шести. Однако мы можем махнуть в какой-нибудь близлежащий гроппиусовский Дессау и совершить там пеший переход к Корнгаузу, ресторану на берегу Эльбы. Однажды я зачем-то учинил это, стартовав у мраморного бюста Вильгельма Мюллера и уже в сумерках упершись в праздничный спуск к реке, темной аллеей к брезжащим вдали террасам. Шел и думал: чтобы сделать хорошую скульптуру из мрамора, по нему очень долго и сильно бьют.
Вопрос лишь в том, кто выбился в Пигмалионы.
Лиса и какаду
И всякий наперебой тужился высказать, вытрясти наружу ее томящий смысл.
Борис Житков– У тебя их было так много, неужели не мог остановиться ни на одной? – прозвучал робкий вопрос. Ответ хрипел, как старая пластинка: «Они не любят, когда неожиданно останавливаешься».
– То есть?
– Ты дурак, да? Ах, пофиг. Все равно фастфуд. Переходящий в фэйд-аут.
– Фастфуд?
– Как ни крути и как ни старайся… – Хрипота на мгновение замолчала. – Вот и здесь, взгляни. Почти еда. Если смешать немецкий с английским. Дешево и сердито, быстро, иногда вкусно, иногда нет, иногда из кувшина, иногда размазано по тарелке, но создает иллюзию насыщения. Червячка заморить можно.
Этот разговор Ким Кислицын, сорокадвухлетний сотрудник одной берлинской фирмы, человек чудаковатый и брезгливый, совсем не похожий на клерка, услышал в четверг в новом бистро, открывшемся неподалеку от места службы. Только что накрапывал дождь и стал неожиданной веселой отсылкой к известному присловью: диалог как реализация несбыточного обещания. «Русский язык, знакомая речь, – подумал Ким. – Но ведь русская речь уже давно никого не удивляет в этом городе. И вообще, что может быть особенного во встрече двух вахлаков? Чья жизнь, как сказал поэт, полна варначества. Увидеться они всегда могут». Собеседников Ким рассмотреть не успел, а исходя из тона разговора решил, что его внимания парочка не заслуживает.