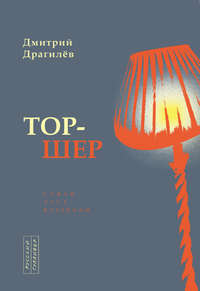Полная версия
Некоронованные
Фирму, в которой работал Кислицын, русские и организовали. Находилась она по адресу, не поддававшемуся переводу, если не считать номера дома. Разве что переводу в другое здание. Для русского уха название улицы звучало как «Аспидная» и «Исподняя» одновременно. Клиентам из России приходилось ломать язык, рассматривая табличку возле автоматических решетчатых ворот, преграждавших доступ во двор. «Не пытайтесь прочесть, тем более понять начертанное здесь», – упражнялся в красноречии Кислицын, когда ему поручалось встречать важных гостей и сопровождать их в экскурсиях по городу. Обычно перед этими воротами, как и сейчас за окном общепита, копошились чайки, воробьи и голуби в поисках корма, потрескивая, шумели сороки. Кислицын бросил взгляд на ломтики хлеба на столе. «Люблю отрезать хлеб, держа на весу буханку» – фраза, гордо сказанная Осоцким, главным хипстером из числа сослуживцев, на какой-то тусне. Ким тогда изрядно выпил, но удивился и самой фразе, и странной привычке: «Опасно же!» Ответ Осоцкого был неожиданным: «Во-первых, насмотрелся в старых производственных фильмах. Вообразите. Во-вторых, когда делишься краюхой, прислонив ситный к груди или животу, есть в этом что-то коренное».
Ким снова взглянул на ломтики и ловко спрятал один из них себе в карман. Причуд у Кислицына было достаточно. Окружающие прозревали в нем черты аутиста. Приглядевшись, допускали, что это обман зрения, что перед ними аутист несостоявшийся. Однако посторонних настораживало периодическое «присутствие отсутствия», пугал и непредсказуемый разброс мыслей. Не понимали, как расценить и расшифровать этот внутренний ритм. Люди, знавшие Кима ближе, свыклись, не ища подвоха и, как говорится, сборочной документации. Кислицын часто погружался в себя, редко выныривал. Следить за нитью разговора, тем более не терять ее стоило ему видимых усилий.
А между тем беседа за соседним столиком приняла особенно жаркий характер, видимо, кто-то из собеседников оказался слишком запальчив. До Кислицына донеслось:
– Был дурацкий день рождения. – Это сообщил хрипевший и сразу же сделал паузу, слегка поперхнувшись пивом. Чуть погодя дополнил свой месседж: – Да, совершенно волшебный день рождения был, безобразный до высших мер. Начали, понимаешь, друг друга пихать, пинать, щипать. Скандалили. Несмотря на закуски, торт «Наполеон» и одноименный коньяк. Но раньше это как-то снималось сексом. Я бросил ей рюмку, бутерброд с горбушей. Переступил. Я не стал встречать с ней Новый год. – Хрипевший опять поперхнулся.
Любопытство наконец взяло верх над брезгливостью, и Кислицын обернулся. За столом у окна сидели два неопрятных субъекта. Хрипел обрюзгший, щедровитый мужик в потертом двубортном пиджаке, показавшемся Кислицыну громоздким. Экипировка другого – вислоусого, с двух-трехдневной щетиной – описанию не поддавалась.
– Ты же говорил про день рождения? – спросил вислоусый.
Щедровитый поморщился, дополнив гримасу характерным жестом всезнайки, которому задали глупый вопрос.
– Неважно. Зачем вообще праздновать дни рождения? Пусть этим занимаются дети. Точнее – пущай родители устраивают для своих деток, пока чадам самим нечего праздновать. Кроме плохой успеваемости.
«Алтернуз, – подумал Кислицын, – старый нос». Это словечко Ким слышал не раз от знакомых евреев.
– И кто она? – Вислоусому требовались пояснения.
– Жена одного моего однокурсника. Бегал за ней. В итоге венчались.
– Кто? – Вислоусый не мог успокоиться.
– Они, конечно, – со значением произнес щедровитый, помолчал и веско добавил: – А у меня появилась новая баба. И пошел я с ней в театр. Опаздывали, но успели. После спектакля говорю: «Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы нам пройтись по центру города?» Телка соглашается. Заглянули в модный отельчик. Заказали коктейли Джеймса Бонда. И затеял я фотосессию. Натюрморт с бокалом. В ту же ночь в пять утра выставляю в фейсбук наши фото.
– И что дальше?
– Жена однокурсника вернулась из ревности, мы помирились и стали жить у нее.
– Круть!
– Круть? Ты главного не понимаешь. Все достижения народного хозяйства похерены с той, которая не нужна!
Щедровитый пропел на мотив из «Веселых ребят»: «А я колечком покалечен» – и стал массировать свой висок. Мысленно сосредоточился и его собеседник, то ли не желая длить дискуссию, то ли не найдя нужных слов для ее продолжения. Оба уставились в мобильные телефоны. Продолжался лишь звон посуды и мартовский птичий гвалт за окном.
«Суждения, интересные чрезвычайно», – отметил для себя Кислицын. Он вспомнил о своей экс, в очередной раз споткнувшись на эмоции крамольно дешевой: после того как благоверная – «кукла с пуговичными глазами» – ушла, жить стало чуть-чуть спокойнее. Хотя злопыхатели утверждали, что, по сути, он сам, Ким, был выброшен прочь, навроде плюшевого медведя, которому оторвали уши. Ведь принцесса не просто ушла, но ушла к другому. Ушлая очень. А что выгадала? С новым хахалем не осталась, в итоге все равно одна. Точь-в-точь супруга приятеля – пианиста Игоря Панталыкина. «Раньше прохлаждалась, трудясь только на кухне, терлась по камбузу, детей не рожала. Теперь стала подрабатывать бебиситершей, нянечкой. Так мне пишут из России», – иной раз скрежетал Игорь. «С носом она сидит, а не с детьми», – комментировал еще один дружбан – Павел Дутцев, журналист и музыкальный критик. Панталыкин только зубоскалил и подмигивал: «Зато не унывает. Каждый вечер на форуме дает советы для женщин, как научиться самостоятельности». «Она не живет с ним больше, но благодаря этому адюльтеру освободилась от меня, разорвала круг», – мрачно рефлексировал Кислицын, перебирая в уме собственные подробности, предшествовавшие разрыву.
В женский день Ким послал бывшей открытку по мессенджеру. В числе отправлений прочим адресатам. «Общим потоком». Открытка была черно-белой. Ответ пришел быстро:
«Сколько яда в тебе. Открытка совсем черная. Дерьмо ты!» «КК – du, Kakadu, какаду», – непроизвольно перевел Кислицын на язык немецких младенцев. В очередной раз отметив, что с инициалами ему не повезло.
В свое время Ким не догадался сделать дубликаты ключей от четырех замков, врезанных в дверное трио, что вело к старому жилищу. Хотя он по-прежнему числился ответственным квартиросъемщиком. Впрочем, ему хватило бы и двух железных «сезамов-кунжутов», отпиравших парадный подъезд и вход со двора на лестничную. Способов пробраться к почтовому ящику было не слишком много, но в очередной раз поджидать соседей или тревожить их звонком в домофон совсем не хотелось.
Под вечер, когда все приличные букеты исчезли, Ким все же решился купить цветы. Дабы воспользоваться собственным методом из почти легендарных времен ухаживаний и мелкого гусарства. На сей раз подфартило, на глаза попались почти удобоваримые розы. Может быть, и не самые эффективные, но вполне подходящие для создания эффекта ассамбляжа на металлической коробке, в которую даже конверты формата С4 помещались с трудом: письмоносцы оставляли такую почту снаружи. Действия, дававшие возможность приступить к процедуре декорирования ящика, уже и так имитировавшего что-то вроде плетеной корзинки, Ким совершил без долгих размышлений. Расхрабрившись и одновременно пугаясь собственной отваги, возникшей от категорического нежелания ломать голову в поисках нового сим-сима, он молниеносно справился с задачей. Хотя еще час назад миссия казалась муторной и едва выполнимой. Дверь в подъезд поддалась плечу, дверь на лестничную открыл бывший сосед. След от света в квартире, пробивавшийся через глазок (на окна Ким не смотрел), подвúг Кислицына на еще один подвиг. Он поскребся. Тишина. Постучал. Никто не ответил. Прислушался. Никаких шагов, звуков и шевелений.
«Нет так нет», – размышлял Ким. Довольный тем, что ему удалось осуществить хотя бы программу-минимум, по дороге от бывшего жилища к нынешнему он почему-то стал думать о борще, решив сварить его на ночь глядя. Рецепт Кислицын когда-то подсмотрел у супруги. Так запоминались любимые стихи, их не требовалось заучивать наизусть.
Уже у самого дома Ким внезапно услышал странное тявканье. Удивляли и звук, и час, слишком поздний для выгула собак, помноженный на тот факт, что у окрестных жильцов четвероногие питомцы не водились. Посмотрев по сторонам, Кислицын увидал лису, стоявшую в двух прыжках от него. Ким тихо поздоровался на родном наречии: «Привет, Патрикеевна!» Кума по-русски не понимала, умолкла. Она выждала полминуты и почапала за угол.
Этой историей встречи с лесными жительницами не ограничились. Следующая произошла пару деньков спустя благодаря ночной болтовне по смартфону. В темное время суток, как правило в первом часу, старинный друг Павла Дутцева с веселыми именем и фамилией Радий Рябчиков и тучей прозвищ, среди которых выделялись два – Кудкудах и Рябой, имел необъяснимую привычку звонить Киму. Проделывал Рябчиков данный маневр безмятежно, под тем или иным незатейливым предлогом, но чаще всего ссылаясь на розыски Павла, дескать, тот мог в гостях у Кислицына задержаться. Скайпа, который Радий облюбовал, у Кима не было, как не было и скоростного интернета. Однако Кудкудах, вооруженный до зубов современными средствами связи, упорно, с повторами, пробивался через все возможные мессенджеры на мобильник. Рябчиковские звонки вызывали в Кислицыне цепную реакцию особого свойства. Обычно он их игнорировал. Потом сбрасывал. Наконец, чертыхаясь и все же повинуясь условному этикету (а вдруг что стряслось?), выходил из дома и «заступал на караульный пост» у входа в кафе – в квартире прием был плохой, делавший общение по мессенджеру почти бесполезным, а здесь доступ к китайскому кудеснику Вай Фаю наличествовал даже ночью.
Летом такая милосердная щепетильность удавалась легко, в марте нужно было что-то набрасывать на плечи. Рябчиков, бывший учитель химии и ОБЖ (недаром Радий!), обладавший неоспоримой способностью заворожить слушателя, радовался «свободным ушам» и никогда не заканчивал разговор сразу. Так и с Кимом его треп длился и длился… Одна тема могла с легкостью сменять другую. И сменяла бы до зари. На сей раз Кислицын успел насчитать пять лис, пробежавших мимо него за то время, пока Рябой что-то заливисто врал в трубку. Сознание задержалось на двух цитатах, которыми Радий козырнул: гетевском утверждении, дескать, «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan»[18], и ницшевском возражении «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinab»[19]. Плюс пара беспомощных тирад про политику. Мол, голоса и манера говорить у Путина и Медведева совпадают. Как совпадают они у Шредера и Штайнмайера. И, наконец, еще одна пышная фраза, воспроизвести которую было трудно. Что-то вроде «Gemeinwohlökonomie orientiert sich nicht auf Profit und Wachstum, sondern auf Nachhaltigkeit und Solidarität»[20].
Глядя на мартовскую улицу под болтовню Кудкудаха, Ким думал о своем. «Проняло меня. Борщ ночью затеял. Суп зимний».
«Nachhaltigkeit und Solidarität», – шуршало из трубки.
«Нет, все-таки зима – это гнет. Гнет она свое, какой бы ни была мягкой».
«…Кеit und …tät». – Трубка не останавливалась.
«Минимум три месяца „осадного положения“. Но если снег выпал – считай, повезло.
Подарок. Снег компенсирует сезонную темноту».
«Nachhaltigkeit». – Трубка исходила слюной.
«А так – вечный ноябрь. Вот среднерусская полоса – другое дело. Пусть не морской курорт, по крайней мере снег есть, когда он нужен. Или везде теперь лажа с климатом?» – молча думал Кислицын.
Вежливое молчание Кима, способного разве что иногда поддакнуть, раньше или позже рождало в Рябчикове неловкость, тревогу и мысль о необходимости распрощаться. Рябой любил солировать, обожал он и долгие филиппики, но монументально-тотальным монологом удовлетвориться не мог. Монолог смущал Радия, пассивность собеседника самым лучшим образом сворачивала разговор, превращала молоко в творог. В результате Кудкудах брал под козырек, чтобы не подавиться собственными козырями.
Возвращаясь с крылечка кафе, Кислицын опять увидел лису. Рыжая семенила через улицу с другой стороны, по диагонали, причем в направлении встречном, Кима с ней разделяла лишь маленькая строительная площадка, появившаяся недавно вдоль бордюра.
«Теперь нам, зверюга, не миновать друг друга», – сам себе сказал он. И впрямь, едва Кислицын обогнул заборчик, как из-под заграждения вылезла Патрикеевна. Обнаружив Кима, зверюга не убежала, но слегка замешкалась. Память Кислицына отрезонировала стихами, застрявшими в голове еще в первых классах школы: «Деревенский старожил сад колхозный сторожил… А кругом леса (какие, гевельские?), леса, видит дед, бежит лиса». С соседом по парте они потом и сами сочиняли нечто подобное. На непонятных уроках физики или других, если было особенно скучно. «Ехал чукча на мопеде продавать своих медведей, позже ехал на дрезине продавать моржей в корзине… А может, он лис? Слово из трех букв», – все больше впечатлялся Кислицын, вспомнив умничанье Дутцева на тему русского мата и ворчанье Панталыкина о родах немецких существительных да спорах вокруг гендерной корректности в словоупотреблении. «Именно лис у немцев – титульно-родовое обозначение этого зверя. Перепутал меня с маленьким принцем. А может, это дворник… А может, ты змей?» Последняя «догадка» возникла не из историй об оборотнях, но по мотивам рассказов Дутцева о школьном пранкерстве. Такой вопрос прозвучал на том конце провода, когда пятиклассник Павел позвонил куда-то, представившись червяком.
Как поманить кота – понятно. Как позвать цыпленка – тоже. Осведомленность по поводу клички четверолапого и зачастую мохнатого друга сильно улучшает ситуацию общения с собакой. Но на какой пароль реагируют лисы? Ким решил языком пощелкать. Очевидно, лисице понравился этот звук или в нем почудилось что-то знакомое. Она села на тротуаре в десяти метрах от Кима. Тот порылся в карманах куртки. В необъятных резервуарах верхней одежды что тридцать лет назад, что сейчас можно было обнаружить всякий мусор, от хрестоматийных гвоздей до сакраментальных калорий, остатки провизии, использовавшейся для прокорма крякв, вяхирей, лысок и прочей городской птицы. Но, как назло, пальцы не нащупали ничего съестного.
«Ни одной крошки», – констатировал Кислицын и стал привычно кромсать хлеб. Из оцепенения флешбэков его вывела молодая официантка, громко рассчитывавшаяся со щедровитым и вислоусым. Оба расплатились и ушли из бистро.
– Еще что-нибудь заказывать будете? – обратилась она к Киму на ломаном немецком.
– Для начала ответьте, говорите ли вы по-русски, – задиристо сморозил Ким, даже не посмотрев на девушку.
– И вы догадались, – вздохнула официантка.
– Именно потому, что в названии вашего заведения я не обнаружил ни одного намека.
– Намека на что? На кухню или на мой акцент? Кухня у нас интернациональная. А повара из столиц Эстонии и Узбекистана, – скороговоркой выпалила девушка тоже с легким вызовом, будто более экзотические места, чем Таллин и Ташкент, придумать трудно.
– А, ну да, как же, как же… Вы слышали их разговор? – путано и слегка рассеянно пробормотал Кислицын. Задора хватило ненадолго.
– Простите, чей?
– Да гостей этих, которых вы только что обслуживали.
– Так они не впервые у нас. Постоянно личную жизнь обсуждают. Бушуют. И попробуй пойми, что было на самом деле. Кто-то там у них все время уходит из ревности, кто-то возвращается к кому-то.
– Подозреваю, что жен и подруг они в Германию привозят на буксире. Но можно ли понять, не выслушав вторую сторону? Вид у них потрепанный.
– И потерянный. Говорят по-русски, а на наших совсем не похожи, больше на местных оборванцев, – пожала плечами кельнерша, протирая столик.
«И не стало ли бы это просто легковесным сопоставлением двух субъективных позиций. Фрагменты, фрагменты. Все вертится вокруг личных отношений. Всех треплет жизнь. Вот только новая не начинается ни благодаря новым стенам, ни с нового адреса», – подумал Кислицын и медленно поднял глаза на девушку, однако вслух произнес с интонацией церемонно-нейтральной, бесстрастной, будто едва проснувшись:
– Вы, наверное, привыкли к хипстерам. Кстати, знаете, на кого похожи вы? На лису, которую я часто вижу у подъезда моего дома.
– Так, может быть, я и есть та самая лиса, – быстро ввернула девушка без тени игривости и удалилась.
«И никакого намека на флирт. А ведь я ее где-то видел… Кто еще отличался такой соловой мастью?» Кислицын опять впал в задумчивость.
Дети актера Вернера Римана были рыжими, как эта официантка, Риман брал их с собой на репетиции. Обычно сорванцы крутились в театральном кафе. «Ну и где твои огнетушители?» – весело и грозно возглашала жена Бертольта Брехта, несокрушимая Хелена Вайгель, раскатистым и властным басом, придумав, как казалось, наиболее оригинальный эпитет. В это время на сцене нервничал сам творец «Трехгрошовой».
«Где Вайгель? Где же Вайгель? Мы начинаем репетировать», – повторял он узким голосом, чуть-чуть в нос, с тревожно-прихотливой нотой и повышенным «р», косясь на вооружившихся фотоаппаратами зрителей, допущенных на последний, генеральный прогон.
Студенты актерской школы отмалчивались в верхнем ярусе.
В паузе мэтр приветствовал галерку неизменным «И что вы увидели? Вы же были и вчера, и сегодня».
Студенты топтались с ноги на ногу, потупясь, сконфуженно смотрели куда-то вбок, вопрос казался опасным, да и никто не решался вступать в разговор с Брехтом.
«Если вам трудно рассказать, можете написать мне. Читать я умею», – резюмировал он, и это звучало вполне серьезно.
Круглая эмблема театра «Берлинский ансамбль» в то время вращалась против часовой стрелки. После ее водружения на крышу здания в качестве флюгера. Шутники это заметили и ехидно острили, что Бертольт гребет в обратном направлении. Техническую неувязку исправили скоро.
Про Брехта часто рассказывал, страстями по нему делился Кислицын-старший. Профессор-хирург. Уважаемый всеми Ки Бо, Борис Борисыч, в далекую докризисную эпоху объехавший полсвета. С короткими перерывами – во время отдыха от командировок – ставший отцом четырех детей, трех девочек, и много позже умудрившийся произвести на свет Кима: когда парень родился, Ки Бо стукнуло сорок. Рассказы случались и менторские. Например, об ответственности. Любил батя талдычить про обжиг горшков, всякий раз возвращаясь к истории о том, как мать обнаружила трудоголика в муже.
«Ты понимаешь, я окончил мединститут и поначалу ни о чем не задумывался. Поехал по распределению. Но быстро понял, что звать на помощь некого, не у кого даже спросить. Вишневского сюда не пригласят, в этой провинции есть только я и еще пара коллег. На всю округу мы одни, мы генерала Вишневского заменяем. И я верил своим рукам. Я сутками пропадал в ординаторской, это стало не работой, а жизнью. Вот только жить нам нужно вечно. Потому что в нас верят пациенты. Иногда. Не верят лишь жены. Твоя мама пришла разводиться… А потом был Восточный Берлин… Встречаю как-то в лифте пожилую соседку. Говорю: я ваш новый доктор. А где же прежний? Умер. Да что вы! Умер… отчего, почему… он же врач!»
В охотку делился отец воспоминаниями о полетах в Индонезию. Через Бомбей. Местные селяне, которых отправляли за покупками и обратно, впервые видели самолет, думали, это поезд такой. Когда он поднимался в воздух, начинали кричать. Для успокоения им давали то, чем они после еды обычно зубы чистили, какие-то ириски или ледяшки. Чуть-чуть пожевав, они их выплевывали прямо на пол. Но это еще чепуха по сравнению с путаницей в отправлении естественных потребностей. Унитаз принимали за раковину.
Точнее – наоборот.
Из дождевых лесов Индонезии Ки Бо привез какаду. В один безрассудный день мать решила отдать какаду в школьный красный уголок, где какой-то недоброй зимой он благополучно замерз. Сам Ким родился в ГДР, во время очередного периода работы отца в Восточном Берлине. Отец и потом сюда возвращался – в рамках длительных командировок. На рубеже девяностых именно это обстоятельство позволило Ки Бо каким-то образом остаться здесь, а молодому Кислицыну получить немецкое гражданство. Хотя Германия не Америка, она далеко не всегда признает своими тех, кто вылупился в местном скворечнике или вил временное гнездо.
«А вас как сюда занесло, судари? Какими судьбами», – подтрунивал Ки Бо над друзьями сына, хотя знал подробности. Панталыкину помогла учеба, Дутцеву достались предки из числа то ли остзейских баронов, то ли первых жителей Екатеринштадта – поволжско-алтайских крестьянских немцев. Павел не уставал твердить, что Германия – это наибольшие дань и даль, на которые можно было решиться. Дань корням, собственному происхождению. Даль, без подтекста, – чисто географическая. Игорь же болтал, что после официального развода с женой, оставшейся в России (в Германию он приехал один), не прочь очутиться в более экзотических странах. Да только бирюковатость бобыля и отсутствие авантюризма не позволяют. Бывшая супруга, губа не дура, обожала поездки. Дутцев всегда поддерживал брюзжание пианиста, скрепляя свой пафос интересными выкладками:
– Твоей красавице многие русские берлинки могут дать фору. Те, которые перед мужьями любовь разыгрывают. У них один отдых сменяется другим отдыхом. Происходит, например, отдых на Тенерифе от отдыха на социале. Сейчас Ия твоя отдыхает от тебя, от вашей совместной жизни. А страсть к перемене мест, даже самых насиженных, – вещь банальная, об этом еще классики сообщали. Весь фокус состоит как раз не в том, чтобы реализовывать манечку пилигрима. Умение быть дома – вот самое большое искусство.
– В смысле – не изменять? – кротко уточнял Кислицын. Слово «измена» ассоциировалось с болезнью. Произнося его, Ким чувствовал физический дискомфорт.
– Нет! – Павел добавлял сургуча. – Смысл в том, чтобы не шастать по разным странам, как это немцы делают. Сдается мне, девиз такой у тевтонов. Тайная доктрина. Им это всегда в жилу, даже больше, чем нашим. Как заладят: «Weiter, weiter»[21]. Почти аналог нашего «давай, давай». И звучит так же. Не замечали? Если быстро повторять и «er» по-берлински проглатывать, точнее, выпрямлять до «а» – «вай-та, вайта-вай»…
– Пардон, но мы тоже шастаем, еще как! – Ким не пикировался, но, не желая затевать спор, слушал вполуха.
– Ну, во-первых, мы здесь не вполне эмигранты. – Улучив момент, Дутцев легко запрыгивал на самого преданного конька. – Здесь уже когда-то славяне жили. Гевеллы. Гавеляне. Венды. Стодоряне. Теперь лужицкие сербы живут. Мы трое где познакомились? В Берлине? Ха. То-то же. В Дункельвальде, в Вердере…
– Больше нечего вспомнить? – В пламенную речь врезался вздох Панталыкина.
– Вспомнить всегда есть что. А вот вздыхать нечего! Вздыхают самые тяжелые люди, – перебивал Дутцев. Но сразу же умолкал, чувствуя, что начинает цитировать собственную подругу. Он как будто ждал рябчиковского нападения – тот знал наизусть все фразы Ребекк и Непостижимок.
«Кто по какой жизни вздыхает, – досадуя, думал Павел и начинал теребить в руке ничтожный предмет, чаще всего картонный, иногда задумчиво рисуя на нем что-то, будто готовясь к докладу или набрасывая статью. – Жизнь в девяностых будила, бурлила и почти всем дарила горящие путевки. Она их делала почти неизбежными. Для одних начинался экстаз польских и китайских рынков, у других появилась первая свежая опция побегать по горячим точкам с оружием табельным и не очень, у третьих побаллотироваться в Думу, четвертым удалось заняться практической финансовой геометрией, жонглировать партиями товара, отстреливаясь, сожрать конкурентов, стремительно разбогатеть или стремительно профукать все деньги. Уезжал разный народ. Кто куда. Дойчланд оказался одним из самых близких и самых противоречивых шансов, спорных версий цели. Векторов и факторов. Ведь кого ни возьми: хоть наших, имевших отношение к истории этой страны, хоть самих немцев – везде одно противоречие. Все возвращается, повторяется. Сначала ехали от бандитов, потом ехали как экспаты, теперь…»
Желающие догадаться, о чем думает Дутцев, в телепатических способностях не нуждались. Вполне хватало вращения в его обществе. Тема стала магистральной, излюбленной. Уже десятки раз Павел мусолил ее с друзьями и недругами, публиковал эссе, возвращался к больному вопросу снова и снова. Поразмышляв, Дутцев восклицал:
– Обычно мы помним о русских заслугах в деле победы над фашизмом, освобождения Европы, взятия рейхстага. Хотя в Берлине в это время самым наглым образом успешно работали, сотрудничая с нацистами, разные проходимцы.
– Это кто же? – оживлялся Игорь.
Дутцев отвечал словно по бумажке:
– Киношники Туржанский, Чет, Колин, Энгельман, певец Морфесси и прочая сволочь. Огласить весь список?
– Постой, ну разве можно так огульно! – Прозвучавшие имена Панталыкину были неизвестны и, кажется, безразличны. Но от скорости и безапелляционности Дутцева что-то внутри начинало кипеть.
Павел делал глубокомысленную паузу, потом принимался вслух философствовать:
– Странная страна. В конце концов, я а) не историк, b) не свидетель, с) не политик и d) не эзотерик и на наноуровне не знаю, что происходило вчера, поговорим про сегодня. Что мы имеем? Во Берлине-городе.