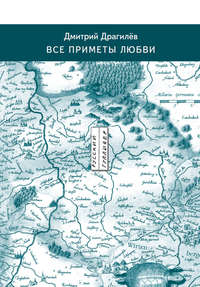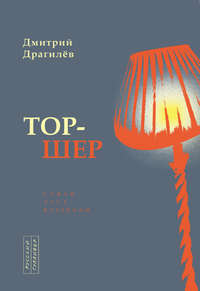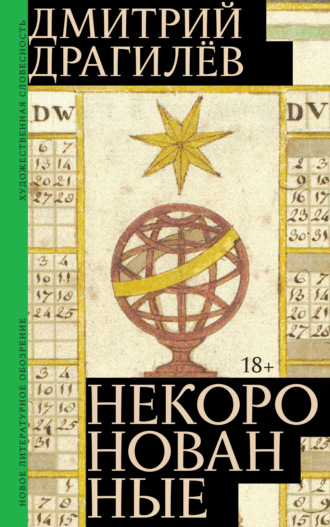
Полная версия
Некоронованные
– Василия Трофимовича можно?
– Это я.
– С Новым годом!
– Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
– Это Плесенский.
– Где Плесенский? Почему, какой?
– Тот самый, Петр Андреич!
– Ну, это вы врете!
– Не вру. (Молчание.)
– А чё у тебя такой голос?
Потом с кассеты, на которую шла запись, стирались слова Рябого, оставался только Василий Трофимович. Зная, что фамилия командира отряда совпадает с фамилией наиболее вредного нашего одноклассника, мы звонили другому соученику, нажав кнопку воспроизведения. Ошеломляющий результат получался!
– Алё.
– Это я.
– Кто?
– Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
– Офигел, да?
– Где Плесенский? Почему, какой?
– Какого х… ты звонишь? В морду дам!
– Ну, это вы врете!
– Ах ты падла…
– А чё у тебя такой голос?
И как тут не взорваться. Я его понимаю. И даже знаю, почему все это осталось в памяти. Так и девочка Лика в мозжечке Игоря Панталыкина уцелела. Хотя бы для его личной истории. Но только отчего в сусеках башки застревает разная чепуха, не связанная вообще ни с чем? Например, улица города Шверин, ведущая к вокзалу, или упоминание городка под названием Бризеланг, просьбы моей тогда будущей (ныне – бывшей) жены привезти ей из гавелянского леса огурцы и майонез, именно майонез и огурцы. «Они там на деревьях не растут», – возражал я. В Швейцарии жена побывала, в отличие от меня. Ездила и в Австрию. По объявлению. Крестьянские хозяйства в австрийских Альпах ищут себе летом помощников, которые могут бесплатно пожить у них. Заодно подсобить. И даже что-то подзаработать, хотя бы символически. Моя решилась на такой подвиг, вариант сельского туризма. Подумала, что все складывается как нельзя лучше: натуральные продукты, свежий воздух, вечером пешие переходы. В итоге ее там какой-то дед запряг и упахал по полной программе. Подъем в пять утра и все такое прочее. От зари дотемна. Иногда звонила мне оттуда, имитируя тирольский прононс.
Но на пранкеров высокого полета мы не тянули, конечно. Ни Рябчиков, ни я, ни жена моя. Мы ведь не дурачили президентов и йобелевских лауреатов. Хотя номером телефона одного писателя, который очень рвался в скандальные политики, однажды обзавелись. Разжились – я и Рубидий. И в школьные времена воспользовались. Звякнули ему. Пригрозили, что будет кормить рыб в заливе, если и впредь продолжит свою подрывную работу. Как будто чувствовали: стоит случиться взрыву – а запах из пороховой бочки все больше сочился по улицам, экранам и газетам, раньше охотно подставлявшим себя под водку, воблу и огурец, – жить нам, так или иначе, придется в другой стране.
– Плесенский твой наверняка давно стал каким-нибудь кантонским буржуем, – услышал я опять голос Рябого.
– Какой из них? Одноклассник или деэндешник?
– Думаю, оба. Вот и выезжай к ним, у них действительно полные закрома. И ближе, чем до Швеции. – Рябой замедлил темп речи, слегка повысив голос. – Выезжай завтра же, автобусом.
– Завтра не смогу. Меня на съемки пригласили.
– Что за съемки такие?
На секунду мне показалось, что Рябой, для которого любая беседа – несмотря на всю его собственную внешнюю эмоциональность, экспансивность, умение «заполнить собой пространство» – всего лишь ни к чему не обязывающий смол-ток, способен всерьез удивиться.
– Голливуд фильм снимает. Из жизни египтян времен Птолемея XVI.
– С Людовиком не путаешь?
– Не путаю. Емелю прислали.
– Мы с Емелей-Птолемелей. Я думаю, Птолемеев было меньше. Штук десять. И фильм должен называться «Птолемей на печи». – Рябой опять отвлекся и напевал уже что-то себе под нос. – Потому что ночь тиха, ночь тепла, спать ложиться пора. Как сформулировал артист Хенкин. А дети не помеха, как пишут в объявлениях рубрики знакомств.
Я отошел от компа.
– Эй, ты где? И кого нужно играть? Как всегда, статист?
– Примерно. – Мне подвернулось любимое выражение бывшей жены. – Вот послушай, что пишут: «Указание мужчинам: лицо чисто выбрито. У женщин маникюр». Гениальная фраза.
– Не гениальная, а генеральная, как будто могло быть наоборот. Усы сбривать будешь?
– Не дождетесь. Взрыва легче дождаться. И вируса.
– Какого?
– Не суть.
– Ну так что, по люлям? – нетерпеливо гудел Рябой.
– Тебе рано вставать?
– Нет, просто холодно и сыро.
Странным образом я задерживал Рябчикова, хотя мне уже давно надоели и этот разговор, и его нудный голос.
– Кстати, о сыре. Корешей и вонючий сыр в Германии называют иногда старыми шведами, – брякнул я без всякой надобности. – Хотя на сыре вроде бы швейцарцы специализируются. А то, что ты про точку замерзания изрек, я, честно говоря, думал, что богатырское спокойствие как раз для старых шведов характерно.
– Стереотипы. Давай вернемся к твоему кино.
– Я тебе все рассказал. Еще обещают в Люксембург пригласить.
– Опять фильм?
– Не суть.
– Да что ты заладил: не суть, не суть. Как барышня! – Напоследок Рябой решил выразить недовольство. – Между прочим, Люксембург… занят. Однако хороший бензин там дешевле.
– Что-то я тебя не понял. Кем занят? Не смог дозвониться?
– Не кем, а чем. – Рябой снова зевнул. – Народ там занят управлением. Управляют всем Бенилюксом. Но Швейцария лучше, несмотря на цены. Цены высокие у всех «швов». Шведы, правда, не любят русских. Со времен короля Карла. У них даже выражение есть: ты что, русский? Это если кто-то козлит. Или злит. Или мозолит.
Тут Рябчиков задумался и произнес неожиданно-распевно:
– А кто нас любит? Можно, правда, рвануть и в Грецию. Вместо Гельветии… да Гевеллии.
И добавил жестче:
– Ведь греки – это не нация, а идея. Идея справедливости. Человек, отрицающий данную идею, не может считаться греком. Ты слышал, что первым коммунистом был комедиограф Аристофан?
– Чего?
– Да, да, не удивляйся. У Аристофана бедность в споре с богатством говорит, что именно она – двигатель прогресса. Будь все богаты, человеки не пошевелили бы и пальцами. Не обойтись нам без комиссаров в огромном море компромиссов. Пойду спать.
«К счастью, Кудкудах не принял вонючий сыр за намек на свой счет», – подумал я, улыбнувшись короткому чмокающему звуку: это небесно-голубой значок с белым латинским «с» втянулся сам в себя.
И все-таки полезная штука скайп. Эмблема неуловимо похожа на предохранительную фольгу на горлышке тюбика зубной пасты, логотип берлинской городской электрички или эмблему ресайклинга. Где та туманная заря, наблюдая которую мы мечтали о видеотелефонах? И вот на тебе, радуйся. Я нащупал на столе расписание автобусов на Цюрих. Уже давно топчу просторы тевтонского языка, только в Гельветии еще не был. Пора в самом деле забросить рутинный и грохочущий бухучет: редактор, переводчик, аранжировщик, диджей – все они тоже своего рода бухгалтеры, счетоводы. Никакой расслабухи. На кого калымим, что приносит вся эта беличья круговерть? Денег нет, славы тоже, зато миллион разнообразных нагрузок при полной личной неспособности организовать собственную жизнь. Занимаюсь поденщиной, чаще всего музыкальной и журналистской параллельно. Иногда толмачом подхалтуриваю. Но бухгалтер я никудышный. Как говорит про меня Рябой, чувак не из тех, кто берет 170 евро за 17 голосов оркестра в минуту. Ну, не умею я с секундомером в руках считать, сколько тактов уходит из-под пальцев за 60 секунд, не получается делить партитуру на погонные метры. Или десять учеников, сидящих за электронными клавишами, обслуживать одновременно, как знатная ткачиха двадцать станков. Проще вычислить темп замены одного диска другим. И газетную нонпарель ставить в номер почти не глядя.
Хотя иногда интересные открытия бывают. Это когда в двери ломится буква «а». Так с удивлением обнаружил начало песни Дунаевского «Ой, цветет калина» в большом си-бемоль-мажорном септете полузабытого французского композитора XIX века Жоржа Онсло, а в конце первой части последней сонаты Шуберта – цитату из Adeste Fideles. Или констатировал, что побочная тема увертюры к «Шерлоку Холмсу» – не что иное, как сброшенная в минор третья часть одной из бетховенских фортепианных сонат, а, допустим, попевку из музыки к «Тому самому Мюнхгаузену» Рыбников у Андрея Эшпая в историко-революционной экранизации известной пьесы поймал и отнял. Потом Артемьев у Рыбникова выловил. Для дельтаплана. Блантер заимствовал «Катюшу» у Штрауса, а цыганский романс «Стаканчики граненые» сочинили еще в тех двадцатых. Хотя изобретение граненого стакана приписывают послепобедной игре ума и Вере Мухиной. Чудеса, да и только. Что касается стресса, его нужно сбивать как температуру. И желательно не водкой. Поэтому отпуск пришелся бы очень кстати. Осталось только перетерпеть дурацкие и, в сущности, никому не нужные съемки и…
В ТИТРАХ ГОЛЛИВУДАЯвиться на съемочную площадку требовалось в пять утра. Элементарная арифметика с поправкой на то, сколько времени займет дорога, подсказывала: желание спать можно утолить лишь частично. Я включил радио, объявляли прогноз, потом что-то об актуальной ситуации на главных трассах. У меня, как в старой утесовской песне – в каждой комнате по радиоприемнику. Живу один, телевизор не включаю, а так вроде бы разговаривает еще кто-то с тобой в квартире. Каждый транзистор ловит минимум по одной «своей» радиостанции, выдавая собственный эксклюзив и упорно не желая делиться: попытки найти тот же канал в репертуаре аппарата-собрата, стоящего за стеной, успеха почти не приносят.
Интересно, что мои берлинские друзья, большие любители радио, ничего не знали о существовании некоторых местных программ, найденных мной столь нетипичным экстенсивным методом. Так скромная коллекционерская причуда получила солидное оправдание. Однако слушатель я тоже не самый типичный и не самый внимательный. Помню, в Лондоне совершенно не понимал радиоведущих. Но тогда у меня с английским некоторые проблемы были. Сейчас в Германии порой не понимаю (при всем знании немецкого языка), поскольку творцы любимой передачи берут в штат иностранок с очень странным выговором.
Я и в этот раз не прислушивался, все еще переваривая разговор с Рябым. Спустя несколько минут мне стали чудиться дикие вещи. «Премьера симфонии композитора Рябчикова. Произведение исполняется на окарине». Я мотнул головой. Это было похоже на тихое помешательство в духе самой крутой шведки – не Гретки, а той, которая в одном лице и гувернантка, и горничная. Вот кому Йобелевскую премию присуждать надо. Ей самой и ее лучшему другу Карлсону! Как мастеру бесхитростных забав и взрывов. Титану баловства. А если смотреть правде в глаза, я уже несколько ночей потратил на всякую ерунду и завтра следовало отоспаться. Но ведь голливудский режиссер Греблипс снимает кино не каждое утро. Когда еще представится такой случай? Кстати, кто известнее, этот американец или автор какого-нибудь заливного бестселлера? И разве можно сравнить надежный авторитет Греблипса с нежным весом случайного лидера продаж на рынке поп-продукции?
Ощущение, которое подарил следующий день, трудно облечь в несколько фраз. Казалось, что со всего города явились люди без места и жалованья по случаю сезонных работ. В большом павильоне – не съемочном, а соседнем – угрюмый и монотонный народ (редкие красивые женщины где-то растворились) выстроился в очередь – кто за, а кто уже с листочком. Не фиговым, но розовым. Магентный лист надлежало заполнить, как заполняют рабочую карточку. За ширмой ждала пресловутая «костюмерная-примерочная», в действительности – общая раздевалка, зрелище унылое. Ну а потом…
Под крики и вопли ассистента режиссера оскароносный Греблипс появлялся незаметно, снимая мизансцену на смартфон, давая главному герою какое-то слабительное для глаз, капли особые, чтобы тот расплакался. Актер плакал, прислонившись к парапету. Ему плохо. У него неконтролируемая реакция. Течет склера. Аки Волга. Отсутствовал только волчий вой. Утешал сам постановщик. Ассистент ограничивался простыми и известными мне с чужих слов командами-предупреждениями: камера движется (по-нашему: мотор), экшн (то бишь начали). Статистов распределяли по седине, количеству растительности на лице, типу костюма. Костюмы, между прочим, с легким налетом несоответствия эпохе. Однако не о документальном же кино речь, а триллер все спишет. Фильм о высадке власовских парашютистов, абверовцев из Риги на берегах Печоры, в местах, куда ссылали кулаков. Главный герой – неведомый Егор Бидно. Задание – взрыв устроить. Лучше бы гребаный Греблипс снял кино про моего деда. О том, как дед, вернувшись с передовой, маленького сына своего по всему блокадному Ленинграду искал и чудом в приюте нашел, а потом по дороге жизни вывез. Или о том, как бабушка железную дорогу Астрахань – Гурьев строила. Как еще до войны была приглашена в Кремль в кабинет Орджоникидзе – вместе с другими передовиками оборонной промышленности. Костюмированная драма точно получилась бы. Но сюжеты про Империю зла и про то, как в ту пору шились дела, Греблипсу ближе. И ведь трудно возразить оскароносному.
На берлинской кинофабрике никто ничего специально не шьет, в самом крайнем случае штопает, перешивает. Обычно статистов наряжают во что придется. Что нашли – то нашли. Прямо по Жванецкому: кинулись, а танков старых нет. Зато швов не видно. Драпировка сплошная. При необходимости, так сказать «на выходе», поможет компьютер. Ну и за мелочами следят: разносят галстуки и носки-чулки, пришедших в собственных костюмах (есть и такие) пересаживают в задний ряд, хотя крупных планов мало и в кадре массовка все равно сольется в экстазе, превратившись в одну пульсирующую и размытую массу. Очкарикам приказано обходиться без диоптрий даже во время короткого перерыва. Кое-кому выдаются окуляры с простыми стеклами. Принцип раздачи, видимо, произволен. Почему-то сигареты вручают: постановочная группа убеждена, что в советских судах нещадно курили. На судах, наверное, курили, какие-нибудь капитаны-боцманы, а вот в судебных инстанциях и прямо во время слушаний по делу? Не уверен.
Я обратил внимание на бессловесного генерала – вылитый Жуков, внешнее сходство поразительно, покруче, чем у народного артиста Ульянова. Ряженый сидел в первом ряду среди других военных, и трудно было поверить, что это не сам творец Победы. Вот уж точно, интересная технология: сначала решается вопрос, как обывателю стать статистом, потом – как превратить статиста в Жукова. Но тут организаторы съемок не просчитали все до конца: по статусу ряженого, приходившемуся на воссоздаваемый год, ему полагались погоны маршала…
Вместо дальнейшего репортажа со съемочной площадки разрешите поразмышлять. В частности, о вопросе сходства, который меня давно волнует. Даже Рябчиков со мной согласился: все уже было на нашей планете. Наслаждаемся новыми экранизациями, повторами, переизданиями, перелицовками или, как их там называют ученые люди, подскажите… Ах да, каверами, ремиксами, ремейками, сиквелами, симулякрами и муляжами. Не мы ли считали, что живет простор повторами? Есть близнецы естественные, это когда общность по родству. Так внутренности Риги похожи на Берн, Берн, вероятно, похож на Черновцы, на Львов, улицы Львова (где-то в чем-то) напоминают Вену, Вена, возможно, Женеву, Вюрцбург – Прагу, Прага отчасти смахивает на … Вполне понятно и объяснимо. Архитектура, она всегда что-нибудь отражает. И могла бы быть германской даже в бывшей африканской колонии, если за дело брались немцы с консортами. (Надо как-нибудь съездить в Намибию, проверить.)
Но в чем загадка типажей, повторяющихся из края в край? Наши наконец-то догадались, на кого был похож артист Тихонов. На канадца Кристофера Пламмера. А пламенный Пламмер, кстати, однажды играл агента, внедренного в нацистские штабы. Ох, не просто все, друзья, ой как не просто! Представьте себе съемочную площадку, по которой взад-вперед разгуливают западные и русские киноактеры, до странного похожие друг на друга: самоубийца Александр Белявский и убийца Алек Болдуин, клоуны Владимир Ильин и Боб Хоскинс, героические Ли Марвин и Георгий Жженов, не менее героические Пламмер и Тихонов (офицеры фон Трапп и фон Штирлиц), вполне героические Харрисон Форд и Николай Волков (Индиана Джонс и муж радистки Кэт), Елена Коренева и Ширли Маклейн, Марина Влади и Ольга Остроумова, Борис Щербаков и Роберт Редфорд, Владислав Дворжецкий и Клаус Кински, Стив Маккуин и великий Высоцкий…
КРЕПКИЕ СПОРЫ И СПОРНЫЕ СКРЕПЫПровинции тоже похожи одна на другую. Я часто жил на периферии. Точнее – в областях и районах. Как они назывались – неважно. Милые, непринужденные места. Как я в них очутился и даже что-то организовал – никого, кроме меня, не касается. Что это было – не имеет принципиального значения, хотя сходство и здесь есть. Отнюдь не бизнес, просто упрочил хобби, проведя рационализацию досуга в идеальных целях. А поскольку хобби относилось к сфере публичной, в ту пору меня постоянно мучил вопрос: где же люди? Где те герои, которые ради нас или ради которых мы. Не о себе же мы так печемся, не для себя стараемся. Помните, это звенело рефреном в известном фильме: «Люди, люди, где вы, ау!» Доблестные и достойные. Всегда есть опасность заплутать в лабиринтах и напрасно потратить время в поисках.
«Ищу человека», – надсаживался философ. Сию тираду и вывеску, мантру, проверенное временем заклинание вслед за ним повторили многие. «Я ищу человека», – доверительно сообщала певица в песне. Мы тоже ищем. Жену, подругу. Город. Своего героя. Но, кажется, один уже здесь. Знакомьтесь: мой тесть. Когда и как у меня появился тесть, я теперь уже и не вспомню. То ли дело жены и невесты – приходят и уходят. Тетю тоже потерять можно, ее вредный сосед отравить способен. А тести остаются! Впрочем, человек он в высшей степени порядочный, неназойливый, деликатный, с красивым голосом (в певцы мог выбиться). Так вот, по поводу сходства. Тембр тестя смахивает на Богатикова (помните такого?), а лицом – вылитый Петлюра. Какой? Разумеется, тот самый, пресловутый Симон Васильевич. Хотя просматриваются в физиономии тестя и совсем иные черты. Что-то от Хиля. Или Марио Ланцы.
От похожих лиц перейдем к похожим ситуациям. Возьмем хотя бы Рябого. Вот он морочит мне голову, но почему эта морока вызывает во мне эффект дежавю? Кого Рубидий так напоминает своей болтовней? Я непроизвольно нащупал в памяти осколки слов, которыми стреляли в мою сторону разные люди. «Хороший парень ваш сын, но не боец», – с готовностью говорила моей матушке тучная приятельница, одна из несостоявшихся тещ. «У тебя сознание школьника, для которого все одинаково важно» – это уже слова Непостижимки. «Вечная проблема выбора, – отшучиваюсь я. – И самовлюбленности не хватает. Нахрапистости. А кругом великаны, как говорил актер Меркурьев, ам – и нет тебя».
Детство, Гдетство. (Вот так, с большой добавочной «Г», хотя было хорошим.) Где твое волшебство? В детстве я никогда не прыгал в компании. На улице, в час, когда весело. Не хотелось прыгать? Хотелось. Но боялся близких назиданий и дальнего окрика: прыгаете вы, дескать, молодой человек, не туда. И вообще негоже. Я, кстати, рассказал об этом Непостижимке. С надлежащей строгостью выслушав, она сделала свой короткий вывод, упрощая предельно: «А все потому, что не склонен ты, дорогой, к телячьим восторгам. И оправдываться горазд». Подлинные причины ее не интересовали. Увидев меня сейчас, наверняка бы добавила: «Восемь бутылок пива ты выпил совершенно напрасно! И раз уж речь зашла, объясни, пожалуйста, почему вид у тебя регулярно такой, будто спасаешься от преследователей. Словно гонятся за тобой или гонят, как зверя». – «Ваша честь, я возражаю, вопрос не оригинальный», – едва ли бы у меня возникло желание долго обсуждать собственную персону. Да и звучало нечто подобное в фильме Винсента Миннелли с участием актера и танцора Джина Келли, неунывающего американца в Париже. Втайне я бы предположил, что фройляйн почти права, но все равно не смог бы взять в толк, точнее – разобраться в природе двух феноменов. Феномена повтора и феномена моего перманентного скепсиса. Наверное, мало сказать: спешка – вечный элемент нашей жизни. Какой прок от простейших формул, общих мест? Мы все спешим, но не каждый выглядит загнанным. Что меня одолевает? Моя извечная способность к растерянности. Постоянное ожидание каких-нибудь неприятностей. Вот сосредоточусь на чем-то одном, а тем более расслаблюсь, уделю время самому себе, как тотчас все просплю. И с лихвой упущу благоприятные моменты. Как там было у Макса Раабе: der beste Moment wird gleich verpennt[11]? Хотя я их день-деньской упускаю. Незаметно для глаз, тем более – для сознания. В гонке по пересеченной. Нет чтобы взять ситуацию под уздцы, выпить не целый поднос пива в гордом, «штангу кельша» в геометрической, а капельку виски с влиятельными людьми, понравиться нужным, с успехом намозолить кому-то глаза, подключая все возможные связи, бахвалясь, что я именно тот, кто обеспечит расцвет проекту… Или вальяжно подойти к девушке, схватить ее ласково за локоток, еще лишенный следов от укусов, и, спокойно заглянув в самые очи, спросить: «А знаете, с какой скоростью хлопают ваши ресницы? А известен ли вам темп стрелки, бежащей и петляющей по вашей ноге?» И в ответ на дежурное «ничего не поняла» произнести с таинственным пафосом зубра: «Эта та доля секунды, которая составляет ее стотысячную наночасть. Но данного временного отрезка достаточно для того, чтобы втюриться в вас по уши». Короче говоря, вместо всего этого предпочитаю дичиться и считывать скорость со спидометра. В чужих машинах. Когда за рулем сидят другие, которые всё успевают.
Следы моих дискуссий (любых, и с кандидаткой в тещи, и с Непостижимкой, и с Рябым) как критические газетные статьи в тех углах, где от стены отодраны обои. Вот он, подлинный палимпсест, культурные слои. Но я докопался до главного: моя проблема заключается в необходимости постоянно что-то кому-то доказывать! По долгу службы, как правило. Наработанного реноме никогда не бывает много. Всегда найдется кто-нибудь, кто поставит его под сомнение. Да и на досуге или, скажем так, внеурочно, когда досугу самое время и место случиться: какое там – отдохнуть, привести в порядок чувства, мысли или хотя бы арендуемую квартиру! Ведь вновь продолжается бой.
Приходится убеждать, ублажать, штурмовать и завоевывать. Женщину, публику. И даже друзей. В центре баталий оказываются те же Непостижимка, Рябчиков, Панталыкин, с которым я в провинции познакомился. Я же мечтаю попасть в зону свободную от гонки и выпендрежа. От конкурса. От домогательств, по умолчанию толерируемых даже MeToo. Чувствительная или раззадоренная женщина, проникшись интересом ко мне, не подозревает, какими сомнениями и угрызениями томится ее визави. Это едва ли не страх перед возможным развитием событий, я имею в виду взрыв эмоций. Ведь, чего доброго, все всерьез. Тогда придется вылезти из футляра, из пескарства привычного, из дежурного наборчика, отчасти приятного, но условного и временного, конечно. Из пещеры, а может быть, даже из кожи, уютной только для меня одного. Ответить как будто нечем, ведь что я могу предложить – в соответствии с нынешними мерками и запросами? Вообще ничего. Ничего, кроме любви, по Армстронгу, не Нилу, но Луи – коль скоро мои эмоции возьмут верх. Или их контролируемый отблеск, на манер «Записки» Шульженко. С Непостижимкой я рискнул, поддался, почудилось что-то. Выложился по полной. В итоге все мимо, мое изшкурывонное мельтешение оказалось ненужным. У нее свои триггеры, травмы, она в девяностых взрослела, не знаю, кто и как над ней издевался в той, другой, прежней, в российской жизни. Говорит, что отец. Сравнивает меня с ним. Дескать, похожи. Только отец злой, а я добрый.
КАК ГОВОРИТ РЯБЧИКОВС некоторых пор по иностранным городам и весям толпами слоняются наши. Прошвыриваясь, если томит мошна, проветриваясь, если душно было. Но обычно в надежде счастья добиться, добраться до чего-нибудь. Поначалу радуешься всякому земляку. Никогда не зная, на кого наткнешься. В жизни многих из них отъезд – хороший повод для драпировки. А иногда вообще затем, чтобы сменить идентичность. Когда уезжали мы – на такой шаг нас толкали подрывники. Проводники политических интересов, запрещенных еще вчера, категорий скользких и зыбучих, вульгарные и лукавые поборники свободных состязаний, индивидуалистской морали. Дошлые полемисты, ловкие манипуляторы, певцы расчета и корысти, теории равных возможностей. Упиравшие на мобилизующий и одинаковый для всех инстинкт и рефлекс – желание жить красиво. Нас подталкивали причины, не связанные ни с эстетикой, ни с гастрономией. С новой софистикой и привычной гармонией разве что.
В те некрасовские дни – властелины, государственные кастеляны, канцеляристы, приказчики, остававшиеся на хозяйстве, – неожиданно решили выкрутить лампочку Ильича. Из погодинской пьесы. В подъемниках и лифтах к обещанному светлому будущему, лабиринтах подземных переходов и коридоров бетонных. Где на серых стенах под потолком угадывалось слабое зеленое мерцание запасного выхода. Знатоки ссылались на Нострадамуса, сообщали, что новый календарь Хуучина Зальтая входит в моду. Вроде второй, вообще – хрен знает какой по счету. И без разницы, в каких палестинах теперь терпеть, околачиваться, переучиваться, меняться, маскироваться, деклассироваться. Таким, как мы, безответственно прирученным, не дельцам изворотливым, что всегда готовы к рынку и бизнесу, приспосабливаться нужно было и там, и здесь. Хотя есть капитализм для пингвинов. Только не забывай ходить с презентации на презентацию, с тусовки на тусовку шастать – глядишь, уже и на ужин ничего готовить не надо, продукты покупать. А завтрак можно отдать врагу. Но лучше вообще не обрастать бытом, если становишься чужим в своем государстве. Вдруг объявившем, что руки оно умывает, прекращает существовать. Или, того хуже, – всегда являлось зарубежьем, хотя и ближним. Да только ты неблизок, незваный ты человек. Тогда впору уехать. Вальсируя, если получится. На раз-два-три. Или на все четыре. Например, в гости к только что задрапировавшемуся рейхстагу. Лишь бы оттуда не выперли, не попросили. Хотя как там было у Цветаевой? Пришла и смотрю – вокзал, раскладываться не стоит.