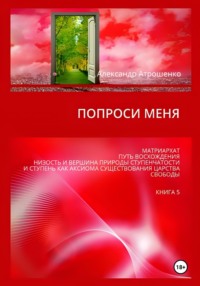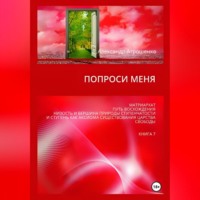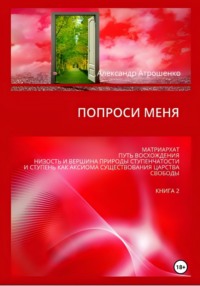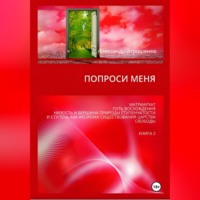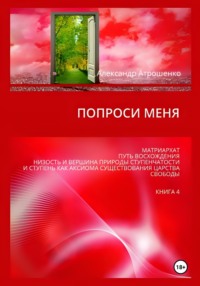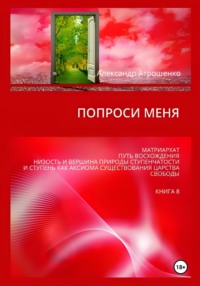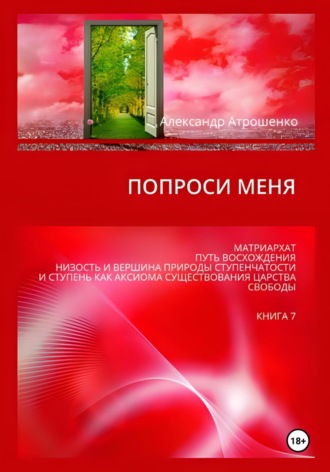
Полная версия
Попроси меня. Т. VII
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Геллер М.Я. История Российской империи. В 3-х томах. Т. 3. Москва, МИК, 1997, стр. 150.
2
ГА РФ, ф. 583, оп. 1, д. 7, л. 24 об.
3
ГА РФ, ф. 677, оп. 1, д. 944, л. 7 об.
4
ГА РФ, ф. 583, оп. 1, д. 4, л. 79.
5
ГА РФ, ф. 641, оп. 1, д. 115, л. 78-78 об.
6
ГА РФ, ф. 677, оп. 1, д. 299, с. 80.
7
Там же, д. 669, л. 40, 41 об.
8
К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. 1. Полутом 2. Выпуск 3. Предис. М.Н. Покровского. Москва, Петроград, Госиздат, 1923, стр. 1008.
9
Голос минувшаго. 1917. № 4. Москва. Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования. В.П. Обнинский. Последний самодержец. (Материалы для характеристики Николая II). Москва. 1917. С. 42.
10
Голос минавшаго. 1917. № 5-6. Москва. Черевин и Александр III. С. 99.
«К концу восьмидесятых годов врачи ему совершенно запретили пить и так напугали царицу всякими угрозами, что она внимательнейшим образом начала следить за нами (т.-е. за мужем и за Черевиным, как его другом и человеком прославленно пьяной репутации). Сам же государь запрещения врачей в грош не ставил, а обходиться без спиртного ему с непривычки, при его росте и дородстве, было тяжело. На средах императрица, словно надзирательница какая-нибудь, раз десять пройдет мимо его карточнаго стола, – видит, что около мужа нет никакого напитка, и спокойно, счастливая, уходит… А, между тем, к концу вечера – глядь – его величество уже опять изволить барахтаться на спинке, и лапками болтает, и визжит от удовольствия… Царица только в изумлении брови поднимает, потому что не понимает, откуда и когда это взялось? Она же все время следила! …
– А мы с ним, – лукаво улыбается Черевин, – мы с его величеством умудрились: сапоги с такими особыми голенищами заказывали, чтобы входила в них плоская фляжка коньяку, вместительностью в бутылку… Царица подле нас – мы сидим смирнехонько, играем, как паиньки. Отошла оно подальше, – мы переглядываемся, – раз, два, три! – вытащим фляжки, пососем, и опять, как ни в чем не бывало… Ужасно ему это забава нравилась… Конечно, не столько ему коньяк был нужен, сколько заманило это его: как, мол, вот, он царь, самодержец и прочее, а будто бы жены боится и должен от нея в выпивке скрываться, как какой-нибудь армейский обер-офицер… В роде игры… И называлось это у нас: "голь на выдумки хитра"… Раз, два, три! – Хитра гол, Черевин? – Хитра, ваше величество!.. Раз, два, три!.. и сосем…» (С. 99-100).
11
Богданович А.В. Три последних императора. Дневник А.В. Богдановича. Москва / Ленинград, изд. Л.Д. Френкель, 1924, стр. 151.
«Затем все эти слухи умолкли, характер его смягчился, но теперь, видно, снова наступила реакция, которую Ментеверде приветствует, так как наше общество так сгнило за последнее время, что его нужно круто взять в руки. Говорил, что у нашего царя есть задатки, что он будет Иоанном Грозным и это слава богу. От себя скажу, что не дай бог, так как теперь не те времена» (С. 151).
12
Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Прил. к «Иллюстрированной России». Paris, LEV, 1933, стр. 173-174.
Эмигрант, князь П. Ишеев пишет в «Воспоминаниях»: «Спокойный, закрытый рейд у Котки, усеянный небольшими островками, населенными флегматичными финнами, преимущественно рыбаками, был очень удобен для наших занятий.
С корабля была видна массивная, деревянная дача Александра III, куда Император приезжал на рыбную ловлю и откуда последовала историческая депеша Царя: "Когда русский Император удит, Европа может подождать".
Такого множества всякой рыбы, которая была в шкерах, я никогда больше, в своей жизни, нигде не видел. За бортом корабля, у рукава с отбросами, ее кишела целая масса. И каких пород мы здесь только не наблюдали? …
Вспоминается, как раз, будучи на одном из островов, мы наблюдали за финном, который сидел в лодке и, попыхивая трубкой, спокойно накручивал ногами конец от невода, подтягивая его к лодке. Вдруг показалась огромная рыба, которая затем с такой силой вскочила в лодку, что чуть не выбросила из нее финна. Но он не растерялся, моментально схватил большую деревянную колотушку, вскочил верхом на рыбу и стал наносить ей удары по голове. Оглушив таким образом это "чудовище", он выволок его на берег. Сбежалось все население этого островка, от мала до велика, выражая свою радость и предвкушая хороший заработок. Это был чудовищной величины лосось, редкость не только для нас, но очевидно и для самих финнов» (Ишеев П.П. Осколки прощлого. Воспоминания, 1889-1959. Нью-Йорк, 1959, стр. 36).
13
Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Прил. к «Иллюстрированной России». Paris, LEV, 1933, стр. 68-69.
14
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. Воспоминание. 1848-1896. Вступ. ст. А.Е. Преснякова, Ю.Г. Оксмана. Москва, Новости, 1991, стр. 215-216.
15
Витте С.Ю. Воспоминания. Детство. Царствование Александра II и Александра III. (1849-1894). Т. III. Ленинград, Госиздат, 1924, стр. 154, 334.
16
Чулков Г.И. Императоры. Психологические портреты. Москва – Ленинград, тип. Госиздата «Красный пролетарий», 1928, стр. 344.
17
Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Прил. к «Иллюстрированной России». Paris, LEV, 1933, стр. 61-62.
18
Исмаил-Заде Д.И. И.И. Воронцов-Дашков – администратор, реформатор. СПб, Нестор-История, 2008, стр. 23.
19
Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. Предис. М.П. Покровского. Москва, Новая Москва, 1926, стр. 318-319.
20
Дневник Д.А. Милютина. 1881-1882. Т. IV. Ред. и прим. П.А. Зайончковского. Москва, тип. журн. «Пограничник», 1950, стр. 51.
21
Чулков Г.И. Императоры. Психологические портреты. Москва – Ленинград, тип. Госиздата «Красный пролетарий», 1928, стр. 345.
22
Московский сборник. 1896. Изд. Н.П. Победоносцева. Москва. Великая ложь нашего времени. С. 31.
«Нам велят верить, что голос журналов и газет – или так называемая пресса, есть выражение общественнаго мнения… Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно их самых лживых учреждений нашего времени1. / …Ежедневный опыт показываете, что тот-же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке – и таланты пишут что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди – какой-нибудь бывший ростовщик, жид фактор, газетный разносчик, участник банды червонных валетов, разорившейся содержатель рулетки – могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников, и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественнаго мнения. Нельзя положиться и на здравый вкус публики. В массе читателей – большею частью праздных – господствуют, наряду с некоторыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты празднаго развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу разсчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякаго рода2» (С. 1 -57, 2 – 60-61).
23
К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. 1. Полутом 2. Выпуск 3. Предис. М.Н. Покровского. Москва, Петроград, Госиздат, 1923, стр. 1035.
24
Новый энциклопедический словарь. Т.1. Издат. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Под общ. ред. К.К. Арсеньева. СПб. 1911. С. 968.
25
Былое. Журнал посвященный истории освободительнаго движения. 1 марта 1881 года. По неизданным материалам. 1918. № 10-11 (4-5). Петроград. П. Щеголев. Событие 1 марта и Владимир Соловьев. С. 330-331.
Очевидец события Слонимский пишет: «Он нарисовал такой идеально-высокий образ Царя, какого не могло существовать в действительности, и затем прямо перешел к волновавшему всех процессу цареубийц. Он говорил медленно, отчеканивая отдельные слова и фразы, с короткими паузами, во время которых он стоял неподвижно, опустив свои удивительные глаза с длинными ресницами. "Царь может их простить", – сказал он с ударением на слове "может", и после недолгой остановки продолжал, возвысив голос: "Царь должен их простить". Особая напряженная тишина господствовала в зале, и никому не приходило в голову прерывать ее рукоплесканиями. Никаких возгласов не было; никто не поднимался перед эстрадой с угрожающими словами, никто не кричал: "Тебя перваго казнить, изменник! Тебя перваго вешать, злодей!" Это было бы совершенно немыслимо при общем тогдашнем настроении. Не было также криков: "Ты наш вождь! Ты нас веди!" Соловьеву была устроена овация только по окончании лекции, когда он сходил с кафедры и направлялся потом к выходу мимо взволнованной публики; и если к нему "протягивались десятки трепетных рук", преимущественно курсисток, то вовсе не для того, чтобы качать его "высоко" над головами толпы…» (Былое. Журнал посвященный истории освободительнаго движения. 1907. № 3. СПб. Л. Слонимский. Письма в редакцию. (Лекция В.С. Соловьева по поводу 1-го марта 1881 года). С. 306).
26
Сборник программ и программных статей партии «Народной Воли». Женева, изд. Г.А. Куклина, 1903, стр. 42.
«Вы знаете, Ваше Величество, что правительство покойнаго Императора нельзя обвинить в недостатке энергии. У нас вешали праваго и виновнаго, тюрьмы и отдаленныя губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так называемых "вожаков" переловлены, перевешаны: они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось, оно безостановочно росло и крепло… Это процесс народнаго организма, и виселицы, воздвигаемыя для наиболее энергичных выразителей этого процесса также безсильны спасти отживший порядок, как крестная смерть Спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующаго христианства1. / …Покровительством закона и правительства пользуется только хищник, эксплуататор; самые возмутительные грабежи остаются без наказания. Но зато какая страшная судьба ждет человека, искренно помышляющего об общей пользе. Вы знаете хорошо, Ваше Величество, что не одних социалистов ссылают и преследуют. Что же такое – правительство, охраняющее подобный "порядок"? Неужели это не шайка, неужели это не проявление полной узурпации2…» (Письмо Исполнительнаго Комитета к Александру III. С. 1 – 40,2 – 42).
27
К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. 1. Полутом 1. Выпуск 2. Предис. М.Н. Покровского. Москва, Петроград, Госиздат, 1923, стр. 47.
Победоносцев требовал раздавить гадину: «Если бы это могло случиться [пойти либеральным путем], верьте мне, государь, это будет принято за грех великий, и поколеблет сердца всех Ваших подданных. Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради Бога, Ваше величество, – да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности» (С. 48).
28
Былое. Журнал посвященный истории освободительнаго движения. 1 марта 1881 года. По неизданным материалам. 1918. № 10-11 (4-5). Петроград. Совет министров 8 марта 1881 года. Разсказ графа Лорис-Меликова В.А. Бильбасову, с введением барона Б.Э. Нельде. С. 191-192.
29
Чулков Г.И. Императоры. Психологические портреты. Москва – Ленинград, тип. Госиздата «Красный пролетарий», 1928, стр. 338.
30
Былое. 1918. № 10-11 (4-5). С. 190.
31
Чулков Г.И. Императоры. С. 340.
32
Там же, стр. 339.
33
Былое. 1918. № 10-11 (4-5). С. 190.
34
Чулков Г.И. Императоры. Психологические портреты. Москва – Ленинград, тип. Госиздата «Красный пролетарий», 1928, стр. 348.
35
ПСЗРИ. Собрание 3. Т. № 118. С. 54.
36
Там же, стр. 54.
37
Правительственный вестник. 1881. № 98. 6 мая. С. 1.
38
Романовы. Исторические портреты. 1762-1917. Екатерина II – Николай II. Под ред. А.Н. Сахарова. Москва, Армада, 1997, стр. 537-538.
39
Дневник А.С. Суворина. Редак., предис., прим. М. Кричевского. Москва / Петроград, изд. Л.Д. Френкель, 1923, стр. 166.
40
Маклаков В.А. Власть и общественность на закате старой России (воспоминания современника). В 4-х отделах. Отдел 1. Реакция. Париж, изд. журн. «Иллюстрированная Россия», 1936, стр. 15-16.
«Молодежь моего времени росла среди таких настроений и их отражала как в увеличенном зеркале. Среди нея тоже одни смеялись над увлечением шестидесятых годов, другие по ним тосковали. И поэтому, что сами их не видали, их идеализировали; шестидесятые годы стали для нашего поколения "легендой", какой весь XIX век пробыла Французская Революция. Идеи шестидесятых годов, свобода, законность и самоуправление – не были еще ни чем омрачены. Правительственный нажим одних ломит, а в других воспитывает заклятых врагов себе. Так было в 30 и 40-вых годах при Николае I. Те, кто тогда не были сломлены, в Самодержавии видели одно только зло, а в революционных переворотах – светлое и завидное время. То-же продолжалось и с нами; но в наше политическое настроение вошло два новых фактора. Мы знали, что недавняя эра либеральных реформ была открыта Самодержавием; поэтому такого безпощаднаго отрицания, как в 40-х годах, у нас к нему быть не могло. А во-вторых реакция 70-х и 80-х годов нам показала силу Самодержавия. Революция и конституция оказались мечтой, не реальностью. Никакого выхода из нашего упадочного времени мы не видели1…
Царствование Александра III оказалось роковым для России; оно направило Россию на путь, который подготовил позднейшую катастрофу. Мы это ясно видим теперь; тогда же по внешности это царствие казалось благополучным. Вырос престиж России, и Самодержавия, и самого Самодержца. Его личныя свойства мирили с ним даже тех, кто его политику осуждал. Он казался не блестящим, не эффектным, но скромным, простым и преданным слугой своей родины. Это впечатление свои плоды принесло. В последние голы его короткаго царствования все были уверены, что он самодержавный режим укрепил и надолго.
Его царствование считалось "реакцией" и общества и правительства. Мы сами об этом судить не могли, но старшие в том были единодушны. Одни с негодованием, другие с похвалой говорили, одни об упадке, другие об отрезвлении общества. И то и другое было2…
Монархические чувства в народе были глубоко заложены. Недаром личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но была предметом благоговения. Когда я студентом прочел "Былое и Думы", ненависть Герцена к Николаю оказалась для меня "откровением". Я до тех пор встречал восхищение Николаем. "Это был настоящий Государь", говорили про него. Восхищались его ростом, силой, осанкой, его "рыцарством", его голосом, который во время команды был слышен по всем углам Театральной Площади. "Он и в рубище бы казался царем", фраза, которую много раз в детстве я слышал. Добавляли: "ни у какого злодея на него не поднялась бы рука". В сравнении с ним Александр II, несмотря на все его заслуги перед Россией, терял личное обаяние; а о простецкой скромной фигуре Александра III говорили скорей с огорчением. Даже те анекдоты о Николае, которые мое поколение возмущали, как проявление самодурства, передавались среди обывателей с национальной "гордостью". Все это были пережитки старой эпохи. Следы рабства проходят не скоро. Они воскресли в Советской России; они лежат в основе мистическаго обожествления – Ленина и постыднаго холопства перед Сталиным.
Но при всей идеализации личности Николая, о порядках его времени вспоминали со страхом; никто к ним не хотел бы вернуться. От царствования его осталось в памяти ужас. Разсказы про времена Николая I с детства производили на меня впечатление того же кошмара, как разсказы про татарское иго. Это время покрывалось определением: тогда была "крепость". Несуществующее крепостное право в моем детском воображении превращалось в реальное представление о "крепости" с башнями, бойницами, гарнизонами и часовыми3…
…Можно видеть, что тогда не покушались мечтать о возвращении к дореформенной эпохе в России. После реформ 60-х годов с крепостниками произошло то-же, что и с большинством сторонников неграниченнаго Самодержавия после 1905 г. Они могли осуждать направление Государственной Думы, могли желать повернуть избирательный закон в свою пользу, использовать новыя учреждения в своих интересах – но вернутся к эпохе настоящего Самодержавия, уничтожить представительство они не только были не силах, но уже не хотели. В 80-х годах было то-же самое. Крепостники не только поняли, что ввести снова крепость нельзя, но они поняли пользу "новых порядков", и только стремились – что было их правом – извлечь из них для себя наибольшую выгоду. Поэтому настроение 80-х годов настоящей "реакцией" не было. В нем было другое, чему умное правительство могло бы только порадоваться. В обществе наступило отрезвление и успокоение; оно от этого стало гораздо способнее к реальной и полезной работе, чем в эпоху своего "Sturm und Drang". Поэтому глубокое преступление пред Россией совершили те, кто толкнул политику Александра к настоящей "реакции"4» (1 – 6, 2 -13, 3 – 15, 4 – 19).
41
Тютчева А.Ф. Воспоминания. По двухтомному изданию «При дворе двух императоров». Пер. Е.В. Герье. Вступ. ст. и прим. С.В. Бахрушина. Москва, 1928-1929. Москва, Захаров, 2002,стр. 344.
«Что за отвращение вся эта петербургская пресса – именно гнилая интеллигенция! Они вообразили, что теперь хороший случай ставить мне условия». (С. 344).
42
Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. 1. Белград, изд. Общества Распространения Русской Национальной и Патриотической Литературы, 1939, стр. 16.
43
Любош С.Б. Последние Романовы. Москва, Астрель; СПб, Полигон; 2010, стр. 171.
44
Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых: Симбирские страницы биографии В.И. Ленина. Москва, Политиздат, 1985, стр. 139.
45
Ульянова Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания, очерки, письма, статьи. Москва, Политиздат, 1988, стр. 106.
46
Плеханов Г.В. Сочинения. В 24-х томах. Т. 24. Под ред. Д. Рязанова. Москва – Ленинград, Госиздат, 1927, стр. 164.
47
Сборник законов о Российском дворянстве. Сост. Г.Э. Блосфельдт. СПб, Д.В. Чичинадзе, 1901, стр. 277-278.
48
Циркулярные указы Святейшаго Правительствующаго Синода, 1867-1900 гг. Собр. А. Завьялов. Издание 2. СПб, изд. И.Л. Тузова, 1901, стр. 191.
49
Сборник постановлений по Министерству Народнаго Просвещения. Т. 10. Царствование Александра III. 1885-1888. СПб, тип. Общественная Польза, 1894, стр. 881-882.
50
Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год М.Н. Катков. Изд. С.П. Катковой. Москва, тип. В.В. Чичерина, 1898. № 278. С. 511-512.
«Наступила, сказали мы, пора правительству возвратиться на свои места после долгаго отсутствия, возвратиться к своим обязанностям вернее и лучше чем когда-либо понятым. Это не есть только наше желание, – что значит наше желание? – этого ждет не дождется вся Россия. Кого, кроме воров, может испугать появление законного правительства во всеоружии своих обязанностей?…
Какая функция должна, по смыслу новаго закона, принадлежать правительству в жизни университета? Прежде всего надлежит ему собрать и взять в свои руки все что имеет значение власти, и тем водворить в университетах мир и свободу академической жизни. В утверждении и обезпечении законной свободы состоит весь долг правительства на всех местах в благоустроенном государстве. В университетах, по смыслу новаго закона, оно должно освободить профессора от товарищеской тирании, от гнета господствующей в коллегии партии, от интриг насилующих его совесть. Он должен положить конец неуместной в университетах игре партий, устраняя выборное начало и прекращая борьбу за власть в профессорских коллегиях. Оно имеет освободить учащихся от произвола преподавателей, обязывая студентов знать только то что признается необходимым для избираемых ими профессий, все сверх того предоставляя свободе их любознательности. Оно должно освободить науку от всякой чуждой ей примеси, ото всяких эгоистических интересов. Выбор профессоров, назначение университетских властей, возлагает новый устав на личную ответственность министра, ничего не предоставляя случаю. Он обязывает правительство требовать чтобы как учащие так и учащиеся исполняли свои обязанности соответственно прямому назначению университетов. Ставя профессора в независимое от коллегии положение и не стесняя его в преподавании, закон обязывает его иметь в виду неуклонно потребности слушателей и способствовать им в приобретении тех необходимых познаний в которых они должны отдать отчет на правительственных испытаниях. Отменяется монополия факультетов. Независимо от штатных профессоров правительство имеет открыть и облегчить посторонним ученым доступ к университетскому преподаванию, обеспечивая их независимость от коллегии, возбуждая плодотворное соревнование между преподавателями и предоставляя студентам свободный выбор руководителей в своих занятиях. Кто же, в самом деле, кроме воров будет пугаться правительства когда оно возвращается с такою мессиею? Будут ли правительственные органы на высоте своей задачи, будут ли они должным образом исполнять требование закона, – это другой вопрос, и это покажет нам будущее. Но таков смысл и таково направление реформы, против которой так бесновались наши либералы превратившиеся в консерваторов и реакционеров, говоря их выражением.
Теперь спрашивается, почему реформа не должна идти в том же направлении и по всем отраслям народной жизни где присутствие правительства не менее требуется? Почему правительство не должно повсюду исполнять ту же свою благотворную и исполнительную мисси? …» (№ 291. С. 530-531).
51
Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2-х томах. Т. 1. Москва, Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999, стр. 157-158.
52
ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 948. Л. 2, 2 об., 4 об. 5.(подчеркнуто в рукописи).
53
Волконский С.М. Мои воспоминания. В 2-х томах. Т. 2. Родина. Москва, Искусство, 1992, стр. 55.
«Такое отношение к важнейшим вопросам духовной жизни низводило их на степень чего-то служебно-зарегламентированного, в чем проявлению личности не было места и в чем открывался необъятный простор лицемерию. И вот, я не могу иначе назвать всю тогдашнюю систему, как школой лицемерия. Это было политическое ханжество, в предмет которого никто в душе своей не верил. Удивительно, как ложная постановка этих вопросов приводила прямо к какому-то искажению мысли» (С. 55).
54
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Москва, Мысль, 1970, стр. 129.
«Массовые крещения, неоднократно отмечаемые источниками на протяжении всего XIX в., носили, как правило, формальный характер. При этом основное внимание уделялась "на внешнюю сторону миссионерского деяния, т. е. на возможно большее количество крещений", а догматы и культы православия оставались непонятными для новой паствы… Все это порождало многочисленные случаи двоеверия, совращения в язычество и т. д. Посетивший в 1833 г. Березовский округ тобольский гражданский губернатор Муравьев доносил начальству, что крещение ханты и манси "ни в образе жизни, ни в образе мыслей… ни в чем не различаются от язычников и даже продолжают… тайно в лесах свое прежнее богослужение". Об основах веры они не имели "ни малейшего понятия"1…