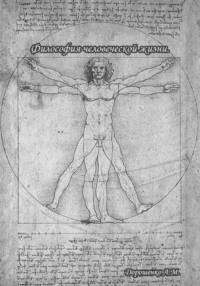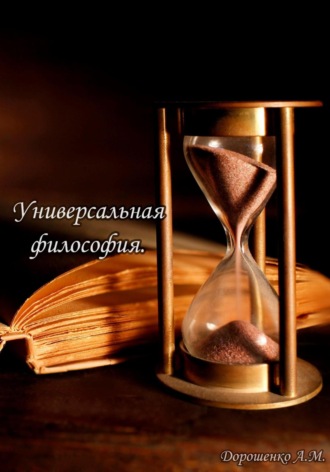
Полная версия
Универсальная философия
3.3. Наука и религия.
Говоря о науки и религии нам необходимо остановится на том, что представляют собой сама научность и сама религиозность. Мы в основном коснёмся того, что они есть такое в лоне самого нашего познания, хотя их можно рассмотреть и по отношению к самому человеку. Напомним, что человек как познающий есть некая редукция самого человека, т.к. в этом случае мы рассматриваем его только с некой одной, выделенной нами стороны, при этом наделяя её ещё и неким качеством, отражающим только некую нашу способность к познанию, а потому и говорим о человеке уже как о познающем. При таком рассмотрении сама религия, с необходимостью, попадает в лоно познания, становясь сама познаваемым. Мы понимаем, что идём и на редуцирование самой религии, но понимаем, что и наука является также некой нашей редукцией. Позднее мы рассмотрим научность и религиозность с точки зрения человека, его жизненного опыта, расширяя при этом рамки самой научности, а также и религиозности. А потому обратимся к пониманию научности и религиозности.
Если говорить об основаниях, положенных в основу научности и религиозности то, нам необходимо, используя их имена приоткрыть их сущность, суть, а также ещё и лежащие в них содержание. Так научность несёт в себе нашу способность передачи жизненного опыта, выраженную в научении, учении и передачи его потомкам, будущим поколениям. Само же представление о “научаемости” в различные временные эпохи жизни людей было также различно. Мы не станем изучать их представления об этом понятии, а обратимся к тому, что мы сейчас понимаем под научностью, считая её просто научением. Оказывается, что редукция науки привела к рождению науки, но понимаемой уже как некая сумма приобретённых знаний об окружающем нас мире, а также и самом человеке. Стоит сама научность на том, что визуализировано, является для нас объективным, существующим, видимым. Оказывается, что главным в современной научности является именно видимость, а потому уже некое визуальное представление самого познаваемого. Неважно откуда явилось это нами видимое, главное для неё именно она, видимость, основанная на зрительном восприятии и наличии у нас органов зрения. Все, что не является для нас видимым отторгается и отбрасывается ею, не изучается пока не предстанет в своей форме, не станет для нас видимым или же визуализированным. При таком понимании науки научение превращается, в основном, в различные способы передачи знаний. Ими являются, например, схемы, карты, плакаты, учебные пособия, книги, а также могут ещё и передаваться самими людьми – учителями или наставниками. Отсюда следует, что научность тесно связана с научением, но само это научение касается, в основном, передачи информации о том, что познавали и познали предыдущие поколения людей. Особенно явно и ярко такое научение в виде образования проявило себя в настоящее время. Как оказалось, что сам опыт приобретения той или иной информации нам не передают. А потому мы имеем дело уже с некой заформализованной, зашифрованной информацией, которой, в настоящее время, являются и выступают именно знания. Хотя в некоторые периоды развития человеческой цивилизации наука обращалась к тому, что для нас не существует, является невидимым нам, но с помощью чувств или разума переводила их в лоно существования, используя для этого опыт или эксперимент, а также ещё и различные знаковые и символичные формы и системы. Они также позволяют нам визуализировать, но не объективизировать, то, что выступает для нас не в виде объекта или в качестве сущего. Современная наука оперирует только знаниями, которые к тому так заформализованы, что передавать их становится уже все сложнее и сложнее, а порой и просто невозможно, в силу своей заматематизированности, формализованности и оторванности от самой реальности. Это связано ещё и с тем, что живой, жизненный опыт из них полностью выброшен и устранён, а отсюда и их неактуальность для живущих в настоящее время поколений.
Религиозность стоит на вере. Эта вера основана на существовании некого подобного нам существа, но более могущественного, что многое из существующего в природе наука порой не может объяснить и понять. Более того, с религиозностью связывают и то, что для нас является необычным, нестандартным, а по тому и просто не укладывающимся в нашу научность. Различие научности и религиозности состоит в том, что они обе кладут в лоно познания научение, но решают это не только различными способами, своего выражения, но ещё и своими устремлениями. Так религиозность устремляет к Богу, к познанию божественного, к соединению с ним с целью приобретения вечной жизни. Научность также решает такого типа проблемы, но не может найти в объективности этого вечного, божественного, а потому решает её путём приобретения об этом знаний и часто делает это путём опровержения. Но необходимо понимать, что научность есть познание ограниченности, а религиозность – стремится к этой неограниченности.
Стремление к научению наукой и религией становится совсем различными, если оно касается познания ещё и различных миров. Вследствие этого можно говорить о религиозном мире, и о мире науки. Оказывается, что эти миры можно положить как иерархические миры, в виде некой определенной их иерархии, а можно и как дуальные, противоположные миры. Эти миры связаны непосредственно с самим человеком, его восприятием окружающего, а отсюда у него и возникают такие различные о них представления. Научный мир для своего утверждения использует именно объективность, осуществляя это через материю, являющейся для нас видимой, а религиозный мир объективизирует через дух, который мы может только обнаруживать в себе, но который для нас невидим. Хотя, как показывает сама наша научность дух может объективизировать и через материальное. На это указывает, созданная нами вторая природа, как некая объективизация уже самого человеческого духа, а не божественного духа.
Если обратится к самому познанию и рассмотреть научность и религиозность в его лоне, то тогда мы, с необходимостью, обнаружим, что научность есть познание того, что нам удалось объективизировать и визуализировать, а религиозность – уже того, как мы осуществляем саму эту объективизацию и визуализацию.
И снова, если мы обратимся к способам объективизации, то тогда научность и религиозность являются всего лишь различными её сторонами или способами обращения в некую уже искусственную реальность. Отсюда раздельность мира познания стоит на различии способов и методов объективизации природного мира, включая сюда как саму природу, так и человека. Полагая в него человеческое, мы надеемся на то, что нам когда – нибудь удастся создать самим саму природную реальность. Более того, наши способности в своей тотальной положенности, несут в себе различные способы и методы объективизации того, что мы хотим и желаем познать.
Можно, вообще – то говоря, отождествить научность и религиозность. Тогда мы получим либо религиозную научность, либо научную религиозность. Оказывается, что это уже сделано и существует как в лоне самой религии, так и в лоне самой науки. Так научная религиозность несёт в себе научение религиозности или просто религии, а религиозная научность несёт в себе познание религии через науку, её познание научными способами и методами. То, что мы бессильны в познании религиозности не означает, что они не дают нам познание религии. Именно научность привела к рождению объективизации, которой, по настоящее время, в религии является и выступает в форме и виде божественного или просто Бога. С точки зрения смысла и сути научная религиозность и религиозная научность не отличаются друг от друга, а потому часто, а то и просто отождествляются, служа для познания веры в то, что наше познание истинно и правильно. Ведь мы же говорим о них в лоне самого нашего познания.
Если же говорить о них в лоне человека, то религиозность непосредственно связана с жизненным опытом человечества и самого конкретного человека, а отсюда и её непреходящее значение как для человечества, так и для каждой отдельной личности, человека. Наука же в силу своей формальности и излишней математизации, оторвалась от жизненного опыта, отбросила его, вследствие чего стала все более и более игровой, а потому и просто некой детской формой освоения природы. Но эта её детскость не есть её простота, а есть, скорее, её игривость, наигранность. Особенно явно её простота выступает в настоящее время, в которое создаются все новые и новые игрушки для людей, одной из которых, в настоящее время, является знаменитая система Интернет и различные компьютерные технологии. Вследствие этого люди стали более тосковать, сильнее тянуться к миру религии, чем к миру науки и философии, потому что социальный мир и мир второй природы очень сильно не соответствует их стремлениям, желаниям и ожиданиям будущего. Религия ближе, роднее человеку, чем наука и философия, а отсюда её такая притягательная сила, особенно в настоящее время, вовремя, когда научность теряет полностью свою актуальность, остановившись к тому же ещё и в своём собственном развитии. Оказывается, что способы и методы науки отработали, а “подпитки” из живого, жизненного опыта познания у неё уже нет.
Если смотреть на религию и науку с точки зрения метафизических оснований, то религия в основном касается духа и души, а наука – разума и чувства. Хотя, конечно, без духа нет науки, но она возможна без души и именно таковой и является в настоящее время. Разум и чувство, и об этом мы уже говорили, являются ничем иным как тем с помощью чего мы осуществляем своё познание. Душа и дух выступают в этом как то, что мы берём в качестве познаваемого или же того, что мы хотим и желаем познать. Именно в этом состоит их огромнейшая разница и потому тотальная разделенность и положенность. Мы познаем с помощью чувства и разума, создавая методы и способы познания, но прежде, чем познать мы, с необходимостью, должны взять то, что будет для нас являться познаваемым. Вот почему научность стоит на способах и методах познания, а религиозность – на самом познаваемом. Но, если в религиозность проникают способы и методы науки, она уже становится научной религиозностью, или же наукой о религии, а потому заменяется на познание того, что есть такое уже сама вера. Объективизация веры приводит к её некому носителю и представителю, которым является и выступает Бог. В современной науке им стал высший разум или более развитые цивилизации, понимаемые нами как некие управители жизнью и судьбами людей.
В мантических основаниях вследствие того, что религия и наука различаются только своими способами и методами, представляют собой уже некоторый генесис нашего жизненного опыта, который выражает себя в виде метасостояний, лежащих в некой метаморфозе уже самого нашего познания. Отсюда научность, с необходимостью, переходит в религиозность, а религиозность порождает собой ещё и некую новую научность и т.д. И только в ней (метаморфозе) снимается извечный конфликт религии и науки, их дуальность, которой, как оказывается, вообще – то и попросту нет, и не существует. Оставаясь в лоне старых представлений, мы постоянно будем воспроизводить этот их конфликт, тем самым, создавая через него некую кажимость (от слова казаться) их раздельности и фатальность их различия. В метаморфозе они есть просто два метасостояния, которые не исчерпывают саму метаморфозу, как состояния самого человека, выступающего в роли познающего. В реальности, и применительно к ней, они дополняют друг друга, т.к. в лоне познания они осуществляют одно и тоже, объективизируют все, что мы понимаем под миром природы, миром реальности и миром человека.
Научение и научность, с необходимостью, должны нести в себе жизненный опыт познания, и только в этом случае они будут познавать уже саму природную реальность, а не некие модели, конструкты, идеальные объекты, предметы, только отражающие саму природную реальность, но не являющейся ею на самом деле. Познание её снимает дуальность, диалектику, а ещё и тотально положенную метафизику.
3.4. Философия и религия.
Если теперь сравнить религиозность и философствование, то мы, с необходимостью, обнаружим, что философствование как любовь к мудрости теснее связана именно с религиозностью, чем с научностью, а потому и с самой наукой. Философия в отличие от науки затрагивает дух и душу, точнее сказать, помещает их в лоно познания, считая их сами познаваемыми. Любовь к мудрости и вера объединяются в некое единство, целое, в котором отражается уже вера в любовь к мудрости. Отсюда возникает религиозная философия, а также и философия религии. В лоне познания религия и философия просто неразличимы, т.к. решают одну и ту же проблему. Эта проблема связанна с самим нашим познанием. “Как мы познаем и возможно ли вообще познание?” Вот её извечные вопросы и проблемы. Говоря о познании, мы, с необходимостью, говорим о том, как это делаем, как осуществляем само наше познание. Вследствие того, что оно осуществляется человеком, более того, ещё и конкретным человеком, который использует как свой жизненный опыт, так весь опыт предыдущих поколений. Являясь живым существом, в процессе самого познания он вносит в него что – то своё, тем самым, осуществляя процесс очеловечивания самого познаваемого. Это вынесенное им часто просто не осознается, а порой и просто им не обнаруживается, создавая при этом впечатление о том, что ему кто – то в этом помогает или же просто способствует его познанию. Эта неопределённость и приводит к тому, что он, начиная осознавать это и старается переложить его на некое более разумное существо. Так рождается в процессе его познания существо, которое хотя он и связывает с собой, но уже выносит из своего лона вследствие того, что не может определить и выразить его в своей самости. Вследствие чего определяет его как нечто внешнее, подобное и схожее с собой, называя Богом. Само же состояние определяется как духовное состояние, состояние творческого экстаза и прорыва в познании, к самим знаниям. В нем то, в этом состоянии и возникает понимание. Именно в этом прорыве и экстазе он ощущает проникновения духа, рождение его в нем, находится в этом высшем состоянии, характеризуемого полным отождествление, соединением и родством как с самим внешним миром, так и с божественным миром. Это восхождение к духу и божественному тождественно с религиозным восхождением, а потому с точки зрения результата ничем о него не отличается. Их различие достигается только различием способов и методов этого восхождения, хотя они, скорее, чисто условны и не существенны. В силу этого философия и религия являются непримиримыми антагонистами, рождены диалектикой, основу которой составляет борьба противоположностей, которые на уровне человеческого сообщества и отдельных людей ведётся между людьми, с использованием бесчеловечного числа способов. На это указывает история развития нашей цивилизации, а также жизнь философов и мыслителей, которые были изгоями и вечно гонимые особенно религиозными фанатами и властителями, кроме разве, к их счастью, самими людьми. Философия близка к религии ещё и потому, что они обе конкретно – индивидуальны. Это означает, что философские и религиозные мыслители постигают истину, исходя из человеческого, личностного, хотя при этом используют научность и само многообразие существующих наук. Но индивидуальный и жизненный опыт для них является преобладающим и превалирующим над всем. В силу того, что религия ещё и общественно – индивидуальна, а философия – личностно – индивидуальна, она занимает преобладающие позиции над личностным, имея свой религиозный аппарат и систему власти. Отсюда весь трагизм религии и философии, как некой их возможности воздействовать на индивидуальное и личностное с целью его изменения, а не преобразования и просветления.
Религия и философия начинают различаться все сильнее и сильнее, если мы рассматриваем способы и методы познания, а также способы и методы восхождения к божественному. Философии часто приписывают научность, а то и просто её считают одной из наук. Но как наука философия при этом становится ограниченной, теряет своё лоно и превращается в одну из наук, хотя и считаемой за науку наук. Но тогда, с необходимостью, в лоно философии должны проникать и проникают чисто научные способы и методы познания. Они уже не являются самыми общими, всеобщими, а потому не касаются самого нашего познания, превращая тем самым философию в конкретную науку, с уже конкретными способами и методами описания своего познаваемого.
Близость философии и религии связана именно с их устремлением к научению, к тому, что объективизирует мир и тому почему он есть такой какой есть, а не такой каким мы его желаем и хотим иметь. Почему этот мир не есть мир нашей внутренней самости, нашей души и духа, а является миром борьбы, уничтожения и всевозможных глумлений людей? Отсюда как религия, так и философия стремятся к тому, чтобы улучшить его, преобразовать и просветить его. Вследствие чего тематики, рассматриваемых ими проблем одинаковы. Это и приводит к их неразличимости в познании, а не к некой их чисто условной разграниченности и антогонизму.
Сходство способов и методов объективизации приводит к тому, что понятие философии становятся часто понятиями уже и самой религии. Например, понятие сущее и Бог как сущее, бытие и Бог как бытие и т.д. Именно это роднит их, а ещё и сближает. Отсюда развитие одной из них, с необходимостью, требует развитие и другой. В этом проявляется их единство, некая тождественность и некая общая устремлённость.
Вера приводит всегда к любви и мудрости, а потому без веры в истину без любви и мудрости нет ни самой философии, ни религии. Их тождественность связана ещё и с тем, что основанием их познания является дух и душа, но способы и методы познания философии все – таки ближе к научным. В религии способы и методы совсем другие, но их также использует философия, а отсюда и её большая близость к религии, чем к науке. Поэтому эти два мира составляют некий единый мир, в котором познаваемым является божественное, божество или же просто сам Бог. Наука полностью отторгает эту сущность, оперируя только чувством и разумом, вследствие чего бездушна и бездуховна.
Одухотворённость религии и философии отождествляет их, ставит в один ранг, а потому, если только в философию проникает наука, то она стремится её уничтожить, превратить в себя или же в некое подобие себя. Отсюда и такое положение как самой науки, так и философии, а вместе с ними и религии, в современном мире.
IV. Философия механицизма. Основания механицизма.
4.1. Разумное познание и механицизм.
Утверждение разума в человеческом познании связано с работами Р. Декарта. Именно в них он утверждает разум как основу человеческого познания, беря в качестве его основы некие качества уже самого познающего. Познаваемое определяется самим познающим и, более того, утверждение познающего, с необходимостью, приводит к утверждению и самого познаваемого. Это блестяще проделал Р. Декарт и выразил все в одной мысли: -” Я мыслю, следовательно, существую”.
Человек как познающее, становится уже познающим “Я”. Это и есть объективизация, потому что появляется носитель, как некий конкретный представитель самого познающего. Из познающего выделяется только разум, который Р. Декарт отождествляет со словом “мыслю”. Само же мыслящее “Я” он возводит в ранг сущего, просто отождествляет его с ним. Так сущее сводится к конкретным видам, исчезая в их многообразии. “Я” приводит к тому, что познаваемое и познающий становятся каждый в своём собственном лоне ещё и некой единичностью. Поэтому мы говорим о природных сущих и понимаем под ними объекты, потому что существующее (сущее) выступает как явное, естность, как некая данность, как наличное бытие. Помещение себя как познающего в сущее требует построения и нового метода его познания. Это приводит к тому, что совершается некий переход от познающего к познающему “Я”. Отсюда возникает возможность деления, познающего на разумное и телесное, выразителями которых выступают и становятся разум и тело. Познающий расщепляется на познающего, выражением которого является познаваемое “Я”, разум и само познаваемое. Совершается переход от предмета познания к объекту познания. Кроме этого, Р. Декарт ещё утверждает на основе этого простейшего деления саму множественность объектов, их индивидуальность и особенность. Это означает утверждение их уже как отдельных, самостоятельных единичностей.
Деление познающего на познаваемое и познающее “Я”, которым является разум, приводит к тому, что познаваемое также может быть и, более того, даже должно быть разделено, как это имеет место по отношению к познающему. Так основу познаваемого в таком делении составляют материальное и телесное в нем. Материальное есть отличие познаваемого от познающего, а его телесность является форма их различия. Для объяснения этой двойственности и такой позиции познающего необходимо выделить в нем различия и распространить их ещё и на разум. Это распространение разума есть то, что Р. Декарт и называет методом познания. Познающее “Я” отождествляется с природой и космосом, что является самым поразительным и гениальным у Р. Декарта. Это, в свою очередь, приводит к тому, что космос и природа становятся отдельными “ятностями”, означающее помещение “Я” в то, что им изучается и познаётся. Так Р. Декарт наделяет природу телесностью, присущей ещё и самому человеку. Так мы называем “Я” природы в её многообразии телами, имеющими и несущими некую, присущую им форму. Тело и форма отождествляются и существуют уже в некоем неделимом единстве, определяясь при этом ещё и друг через друга.
Выделение из познающего познаваемого и познающего “Я” привело к тому, что Р. Декарт распространяет его на материю и само тело. Это приводит к возможности описания самой телесности посредством уже её делимости. Телесное делимо, а разум же неделим. Он есть основания этой делимости. Познаваемое представляется через части, наименьшей из которых является именно это “Я”. Его, “Я” можно положить в часть, а затем снять его в нем. Это приводит к идеи точки и именно так, и таким образом она и возникает. Через неё можно восстановить то, что было подвержено делению. А раз точка – это “Я”, то все остальное есть множество точек, которые и образует собой некое множество познаваемых. Все, что есть не точки есть протяжённость, есть не наполненность ими. Так Р. Декарт подводит под описание и познание непротяжённое, как основание самой протяжённости. Отсюда телесное и материальное также является протяжёнными, а потому могут быть уже количественно выражены, потому что имеют смысл незаполненности точками, являющиеся представителями снятых “Я”, как познающих. Говорить о качестве здесь не имеет смысла, но можно говорить о качествовании, как некоем предельном, насыщенном состоянии определенного количества. Что можно сказать о качестве точки и о качестве познающего “Я”? Это ведь есть ещё и определители количества. Вот почему Р. Декарт говорит о первой философии и строит свой метод познания, исходя только из мысленного “Я”.
Протяжённость в философии Р. Декарта есть уже некое основание в описании материальности и телесности природы, взятой в качестве формы. Вот почему от понятия природы совершается переход к понятию материи, несущей в себе уже объективность и отражающую её оформленность. Таким образом Р. Декарт утверждает разум как тотальное основание своего познания. Точечность даёт некий общий синтез, в котором “Я”, как познающее соединяется с разумом и телесностью. Вследствие это возникает возможность подведения чисел, а затем и геометрических фигур, представленных точечно или же в виде точек, для объяснения и понимания уже самого познаваемого. На этом синтезе появляется новый количественный способ познания, основанный на протяжённости, телесности и делимости самой материи.
Идея протяжённости приводит к тому, что из делимости материи следует возможность её организации в некие новые материальные структуры, которые и образуют материальные тела. Так познание природы переходит в лоно того, что материю и тело натурализуются, а затем с помощью её и осуществляют процесс конструирования её неких материальных аналогов и носителей, которыми стали являться механизмы, а чуть позже машины и различные технические устройства. Познание целостного как состоящего из частей перешло на уровень создания, конструирования и построение из этих частей уже некого целого. В этом стал уже проявляется новый, деятельностный подход к построению из материальных частей некой механической целостности, а отсюда и самого нашего познания. Так стали познавать и все тела, и объекты природы посредством их деления на части, куски, несущее в себе не материю, а уже некий материал для своего конструирования и изготовления, заменяющий собой материю.
Разум как основание познания переводит нас от познания природы как некой целостности, к познанию природы, но уже состоящей из частей. Кроме разума Р. Декарт ведёт речь о душе и чувствах. Душа и дух у него соединены, не разделены и представлены в работах как единое и неразличимое. И, мы думаем, это понятно почему. Ведь качественное познание требует определения через дух и душу, а при количественном познании они совмещены, а потому душевное должно покоится именно в ракурсе количества, требуя для себя некого материального аналога, заменителя или же представителя.