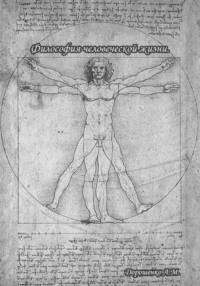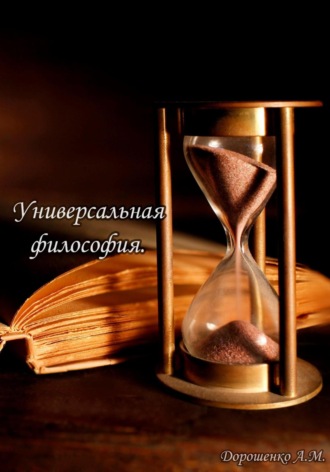
Полная версия
Универсальная философия
Переход в телесное и материальное, с необходимостью, связано с чувствами. Ведь именно они лежат в основании познания природы, понимаемый как аристотелевский фюзис, фюсис или физика. Познающий как материальное и телесное чувственен, но познаваемое уже этого не имеет и не содержит в себе. Р. Декарт сталкивается с этим при непосредственном воздействии познаваемой материи, а отсюда и связывает это с душой. Так ему удаётся оставить только разум как познающее и наделить им ещё и само познаваемое. Вследствие этого познаваемое превращается в то, что способен конструировать уже только сам разум. Этот объективный конструкт является механизмом. Но в механизме пребывает ещё один момент, и он связан именно с чувствами, точнее сказать, с их некими представителями и носителями, в качестве которых выступают ощущения. Р. Декарт познает мир как умную машину, имеющей своё собственное устройство, строение и состав. Именно поэтому многие учёные, связывают механизм Р. Декарта с понятием протяжённости, которая позволила конструировать телесность именно и посредством её деления. Но между телесностью и натуральностью есть различие и лежит оно именно в самом понятии протяжённости, которая отражает в себе не только разум, но ещё и чувства. А потому обратимся теперь к чувствам.
4.2. Чувственное познание и натуральная философия.
Кроме разумного описания природы, которое разработал Р. Декарт в недрах познания познаваемого обнаруживает себя ещё и чувственное познание, которое также и, с необходимостью, превращается ещё и чисто механическое познание. Оно есть перевод наших чувств в ощущения, отражающие материальность и телесность самого познаваемого. Так познающее как “Я” обладает не только разумом, но ещё и чувствами. И эти чувства в рамках количественного познания превращаются уже в ощущения. Именно они и приводят к тому, что познающий создаёт устройства, являющиеся аналогами наших телесных чувств и замещающих некие наши функции тела или самого организма. Ощущения помещаются внутрь познаваемого, а потому наделяют его способностями, являющиеся аналогами ощущений человека. На них создаются и строятся все приборы физической науки. Чувство, связанное со зрением, становится уже и некой тотальностью. К нему подводятся все другие чувства и ощущения. Все, что мы не видим, но чувствуем и ощущаем должно быть визуализировано и объективизировано. Это есть основное требование декартовского разума. Есть только то, что видимо, то, что существует и есть, а отсюда и должно познаваться.
Чувства, превращаются в ощущения и составляют основу конструирования из материи различных устройств. Так телескоп и микроскоп конструируются на основе визуализации того, что для нас является далёким и близким, но не видимым нам. Далёкое представляется нам в виде точки, которое мы полагаем в основу состава и строения самих тел, а также и материи. Эти устройства позволили увидеть мир в его космичности и в его телесности, представленного в виде минимизированных телец – точек. Следующее устройство – это термометр, в котором наше ощущение тепла было переложено на материальное устройство, способное расширяться под действием тепла, например, подъем жидкости в тонкой трубочке – капилляре. Это привело к появлению визуального устройства, переводящее тепло в видимые показания термометра. Основу этих устройств составила, существующая протяжённость между материальными частицами самого устройства или же их некого наполнителя, что позволило выразить её в виде той или иной меры, которым стало являться число, определяющее количественную протяжённость, воспринимаемую нами через движение как некое изменение, например, уровня жидкости в капилляре.
Качественное, положенное в философию греческими мыслителями и философами, превратилось в философии Р. Декарта в количественное, математическое, а ещё и в аналитическое. Качественное, связанное с чувствами человека, было перенесено на ощущения, которые составили основу измерительной техники. Вершиной визуализации стало то, что разум стал сам визуальным. Конечно, не в том смысле, что мы можем его видеть, а в том, что мы создали машины и устройства, способные воспроизвести нам его работу, через работу, созданных нами устройств, приборов и машин. Но познавать за нас, вместо нас эти машины не смогут и никогда не будут способны, разве, что смогут компилировать знания, выдавать их за новые знания. Компьютер есть разум, которым можно управлять тотально, поэтому он показывает возможность изменения разума в направлении тотального рабства человека, означающего – не думать, но исполнять, делать и просто подчиняться.
Протяжённость, телесность и делимость явились основой конструирования природы, в виде машин, сооружений, устройств и приборов, что привело к тотальной экспансии разумом всего человеческого познания. Мир стал неживым, природа тоже. Человека также не миновала эта участь, превратив его в живой механизм, живую машину, биоробота, биомодуль и т.д. Человек как познающий стал чувствовать, что с самим познанием происходит что – то неладное, что – то не так мы делаем. В нашем познании исчезла качественность, которая отражается нами в природе и позволяет её понимать как более соответствующей той, какая она есть на самом деле. Познающий стал простой машиной. Стал видеть мир как шары – планеты, как квадраты – здания и т.д.
Мы уже говорили, что Р. Декарт поставил проблему познаваемого, выделив в нем познаваемое – тело и познающее – разум. Но ни разум, ни тело не обладали никакими качествами, а потому познаваемый и познаваемое стали являться простыми механическими соединениями в лоне существующих технических устройств и машин. Это механическое соединение было разорвано духом и душой, которые вернули в наше познание Г. Гегель и И. Кант.
V. Философия духа.
Механическое соединение чувственного и разумного привело к полному отторжению духа и души, создав тем самым проблему и в лоне самого нашего познания. Эта проблема связана с тем, что наше познание всегда направлено на познание только “чтойности”, означающей познание существующего, которое берётся только в своей статике, а потому в тотальной неподвижности и неизменности. Именно Г. Гегель впервые увидел эту проблему, возникшую в самом нашем познании, и блестяще её разрешил. Но, её решение, как оказалось, лежало не в рамках существующей метафизики, а уже в рамках новой философии, которую он и называет диалектикой. Механическое соединение в познающем познаваемого и познающего “Я” не отражало и не несло в себе нового качества самого нашего познания. То, что Г. Гегель ставит дух как основания познания в этом нет сомнения, потому что начинает свою философию именно с описания феномена духа. Под разум Г. Гегель подводит дух, точнее, утверждает дух как основу самого разума. Так разум переходит в познающее и становится внешним по отношению к познающему, а дух – его внутренним. Познающий возвращается к своему первоначальному состоянию, которое мы имели ещё в философии Платона. Это приводит Г. Гегеля к необходимости создания и нового метода познания. Г. Гегель устанавливает, что с помощью разума невозможно познать мир, потому что такой мир есть мир мёртвых тел и математизированных сущностей. Жизнь мира была уничтожена, а его динамики просто не существовало. Поэтому Г. Гегель идёт на то, что представляет и полагает познаваемое и познающего уже как некие противоположности. Ведь разум, о котором говорит Р. Декарт есть познающий только объективность и в лоне только его количественного бытия, тогда как дух выступает как его качественная бытийность. Так мир разделяется с точки зрения познающего на мир объектов и мир субъектов. В мире объектов существует разум, а в мире субъектов – дух. Тотальное полагание разума и духа приводит к тому, что разум входит в дух, становится тем аппаратом познания, который раскрывает уже и сам дух. Дух познает, и познает он с помощью разума. Поэтому говоря с точки зрения оснований философии, можно сказать, что Г. Гегель ставит и решает проблему разума и духа, рассматривая их уже в некоем неразделимом единстве. Вследствие чего дух выступает как сущее, а разум, как то, что его познает. Это отражается им в законе перехода количества в качества. В нем проявляется тотальность качества над количеством, тем самым подчёркивает главенство познающего над познаваемым. Мы не будем анализировать всю философскую систему Г. Гегеля, хотя это очень интересно и для многих поучительно в том смысле, что ещё никто не рассматривал его философию с этих позиций. Мы же только выявили основания его философии и что в ней лежит, поэтому каждый желающий может это сделать самостоятельно и получить поистине огромное удовольствие. Более того, анализ займёт очень много места, так что нам бы пришлось написать целую книгу.
Г. Гегель впервые поставил проблему познающего, рассматривая его с позиции познаваемого, а ещё и познающего “Я”, полагая их уже как противоположности. Это привело к выявлению, выделению и появлению объективного и субъективного и в самом нашем познании. Дуальность познающего потребовала дуальности и самого познаваемого, а отсюда мир сам становится дуальным, вследствие положенной в него дуальности. Разрешение дуальности совершается в единстве количественных и качественных изменений, что отражает в себе ещё и динамику разума, которая в свою очередь снимается через дух. Вот почему Г. Гегелю приходится полагать дух как абсолютный, как некую неизменную тотальность. Но положенный дух реализует себя только через разум. Отсюда у многих создаётся впечатление, что в основе его философии лежит все – таки разум. С этим связано то, что о его философии говорят как о объективном идеализме, что не отражает сути и смысла его философии, а является простой эклектикой недалёких умов, потому что так до сих пор так и не выяснили для себя, что является у Гегеля объектом – дух или разум. А теперь обратимся к понятию духовности и духу.
5.1. Понятие духовности и дух.
Обращаясь к духовности, носителем которой является дух, мы, с необходимостью, связываем его с неким состоянием человека. Оказывается, что в рамках познания духовность есть состояние человека, находящего в качестве познающего. Это состояние очень редко возникает и наблюдается, т.к. несёт в себе потаённость, часто, являясь нам из своей потенциальности. Но она актуализирует себя через творчество, творение того, чего ещё не было. Это небывшее есть некая объективизация, но стоящая уже только на творческой интенции человека.
Наиболее сложным для нашего понимания является состояние духовности, т.к. оно хотя появляется и проявляется в нас и многих людях, но уж очень редко она их посещает, а тем более себя обнаруживает. Это связано с тем, что человек помещён в некую область ограниченного существования. Этим ограничением для него является планета Земля. Оказывается, что ещё большим ограничением для него является система социальных отношений. Именно она ограничивает человека и не даёт ему возможности перехода в личность, становление в духе и жизни в самой духовности. Это связано с тем, что человек в духе чувствует свою полную свободу, ощущает её, а потому стремится к тому, чтобы уменьшить её, стать рабом чего – нибудь или кого – нибудь и только в этом служении он забывает о свободе, теряет духовность, но постоянно ведёт борьбу с этой неволей и рабством, которое сам же для себя и создал. Жажда свободы есть суть и сущность самого человека, а потому, потеряв её он снова стремится её найти, чтобы опять бросится в лапы рабства ещё более гнетущего, унижающего, а порой и просто уничтожающего его.
Духовность пугает человека тем, что отрывает его от реальности, от того, к чему он привык. А привык он к материальному, видимому и визуализированному им же самим. Кроме этого, для него больше ничего не существует, а потому дух и духовность его пугает, бросает в лоно религии. Видя в духовности одну религиозность, он часто боится попасть в её “лапы”, а потому скорее идёт на унижение и рабство, чем на жизнь в духе. Отсюда следует, что творцов и творческих личностей в мире очень мало.
Духовность познания и духовность религии – это вообще – то разные вещи. Так духовность религиозная связана с единым, с Богом, жизнью вне реально существующей природы, а жизнью в Боге и с Богом. Духовность познания связана с творчеством, с поиском и открытием нового, того, чего ещё не бывало в мире, но существующего в этом поистине прекрасном и свободном мире духа и духовности, который мы превратили в мир материального рабства и полной зависимости.
Дух есть вынесенная из человека духовность. Вынесенное духовное состояние, в котором человек прорывается в мир свободы, в некий новый мир, в котором он себя чувствует свободным и независимым. Это он может осуществить через познание, через творчество, выраженное в виде самопознания. Но духовность и дух обнаруживают себя и через религиозность, явление которых связано с жизнью и жизненным опытом человека как человека, а не человека как познающего.
Духовность и дух часто отождествляются с разумом, замещающий их разумным состоянием или просто самим собой. Это имеет место и в философии Г. Гегеля, который связывает постижение духа через разум и с помощью разума. Если же связывать разумное не только с нашими зрительными ощущениями, то разум очень похож на дух и различить их в лоне познающего и самого нашего познания просто невозможно. Отсюда духовность и разумность часто выступают как тождественные. Особенно сильно она проявляется в научности и науке, меньше, в философии, и ещё меньше в религии.
Объективизация духа и духовности приводит к появлению его носителя, которым является не только человек, и, даже, скорее не сам человек, а существо, которое сотворило все несуществующее, точнее, то, что невидимо нам. Но и то, что существует, есть, выражено в виде наличного бытия. Им и стал Бог. Сама же объективизация привела к тому, что возникла необходимость познания уже и самого его носителя – Бога. Так возникает теология – наука о познании Бога. Укажем, что именно помещение научности в лоно религиозности и религии привело к тому, что дух, с необходимостью, должен был наделён неким носителем, иметь своего представителя, в качестве которого и стал выступать Иисус Христос.
Все это привело к тому, что религия, а вместе с ней дух и духовность распались на множество элементов, что привело к некому подобию устройства и функционирования религии, какое имеет и сама наука. Вследствие этого религия стала объективной, а не только объективизированной. Эта онаученность религии, в настоящее время, привела к тому, что её роль стала минимальной, а потому и просто ненужной. Но при этом и роль философии и самой науки от этого не возросла, а просто пока ещё теплятся в этой ожидаемой их безысходности и неопределённости.
По отношению к природной реальности духовность и дух проявляют себя через свободу и творчество, без которых нет ни духа, ни духовности. Более того, попасть в это состояние можно только через личную свободу, а также через творчество, а ещё и самообразование.
VI. Философия души.
В философии души также как и в философии Г. Гегеля мы выделим только основания, которые использовал И. Кант в построении своей философии. Проблема, которая стояла перед Г. Гегелем решается И. Кантом несколько иначе. Для её решения он исходит из двух оснований, связанных с тем, что познающий находится по отношению к самому себе в двух вполне определенных позициях. Он является познаваемым и познающим. Г. Гегель ставит познающего (познаваемое) в позицию абсолютного духа, а его разум в позицию познающего (познающего “Я”). Познаваемым в этом случае выступает и становится весь мир, но, в котором уже нет человека. Он в духе. Но, И. Кант рассматривает это иначе. Он берет познающего как душу, а не как дух, которая познает через чувства, но познаваемым у него также как у Г. Гегеля выступает внешний мир. Если отождествить дух и душу, то тогда в его философии начинает преобладать субъективное познание, а самим аппаратом познания при этом выступают и являются чувства. Поэтому его философия начинается к критик чистого разума. Критикуя разум, он утверждает чувства, как единственное основание через, которое мы можем познавать мир. Вот почему И. Кант говорит о метафизике и обращается к ней в своей философии. Кроме этого, он решает основную проблему философии, выделяя метафизические основания самого нашего познания. Метафизические основания познания, с необходимостью, должны решать любую проблему метафизики в том числе и главную проблему: “Что есть сущее”. Её И. Кант решает просто блестяще. Для этого он возводит познание в лоно чувственности, которую отражается на пространстве и времени. Чувственное познание разворачивается на пространстве и во времени, как на неких новых основаниях самого нашего познания. Но в силу того, что метода чувственного познания ему не удалось построить, а Г. Гегелю это удалось, в его учении о методе нет того, как можно познавать, используя эти основания познания, которыми являются пространство и время. Вся проблема философии как Г. Гегеля, так и И. Канта связана с тотальностью полагания ими одного из оснований, по отношению к некому другому основанию. В философии Гегеля разум тотально господствует как дух, а в философии Канта чувства господствуют тотально как душа. Отсюда в философии Канта больше морального, чем в философии Гегеля.
Обе эти философии есть возврат к познающему, к его основаниям. Поэтому они и представляют для нас некую непреходящую ценность.
После этого небольшого анализа выскажем ещё одну важную мысль, которая связана с тем, что дальнейшее развитие философии и выявление её новых оснований, до настоящего времени, так и не произошло. Наступила некая своеобразная пауза, даже можно сказать, некий застой в развитии философии после Г. Гегеля и И. Канта. Это можно понимать и как то, что человечество в своём познании сместило акцент на познание материального, телесного и ограниченного, совершив при этом ещё и некий, своеобразный переход к познанию именно и только социального мира.
Так на переломе тысячелетий мы остались с этими философами и с их философиями. Именно поэтому и, в связи с этим возникает естественный вопрос: “Что делать?“ Куда дальше идти? Мы остановились в своём развитии, а потому бежим в прошлое, стараясь найти в нем хоть что – нибудь схожее с нашим сегодняшним, настоящим, и пытаемся всеми силами его ещё и вернуть.
В философии И. Канта и Г. Гегеля осуществлена попытка выявления оснований самого нашего познания, не только в их тотальном положении, а, скорее, в неком их своеобразном синтезе. В нем видны два исходных подхода к познаваемому и познающему. Первый подход состоит в том, что познающий входит внутрь познаваемого. Поэтому познает его, связывая все в некое единое целое, т.к. сам является представителем этого целого. Мы выходим из лона природы и возвышается над ней. В другом случае дело обстоит иначе, хотя, нам кажется, что это просто одно и тоже. Мы помещены в природу, а потому познаем её, не выходя за её рамки. В этом случае мы также являемся единым и целостным, а потому, начинаем её собирать и связывать в некое единое целое. Мы требуем этого единства от мира, потому что сами являемся неким его единством, единым. Но кроме того, что мы едины, мы ещё и множественны. Оказывается, что в человеческом обществе этим единством обладает только “Я”. Мы же этим единством не обладает. И в этом главная проблема нашего познания, которую разрешить в этих представлениях просто невозможно. Более того, познавая мир как с одной, так и, с другой стороны, мы приходим к одному и тому же результату, т.к. в том и ином случае мы требуем от мира некого его единства. Но в одном случае мы видим мир как целое, а в другом – как его части. Так у Г. Гегеля – организмическое строение мира, у И. Канта – оно уже механическое. Но каков мир на самом деле, мы так до сих пор и не узнали. А потому мы собираем и то и другое, говоря при этом, что он не познаваем как в своей целостности, так и в своих частях. Ошибка эта коренится в том, что мы теряем его целостность в каждой части, а также и его специфику, которая растворяется в каждой его отдельной части. Так всеобщее, присущее всем, не решает проблему познания ни самим человеком, ни созданными им устройствами. Как найти выход из этой не простой ситуации? Ведь если мы представили мир статическим, то динамика мира уходит в его глубь. Если же представляем мир динамическим, то тогда статика уходит в глубь самого мира. Оказывается, что мы попадаем в какой – то заколдованный круг. Но, как оказывается, этот круг мы создаём сами, и пора бы нам это осознать и понять. Мир повторяется в своих процессах и явлениях, но качества их постоянно изменяются. Мы же наделяем его чем – то вечным и неизменным, тем, что ему вообще – то и не присуще. Эту проблему качественных изменений до настоящего времени так и не удалось нам решить, хотя попыток решения данной проблемы было превеликое множество.
Конечно, нас могут спросить, почему бы тогда не взять три основания познания или все четыре и построить с их помощью новое представление о том, как мы познаем и как мы осуществляем своё познание. В этом есть что – то интересное, но мы пока не рассматривали подробно ни сами основания, ни того, как они нам помогают познавать окружающий мир и природу. Прежде чем перейти к их подробному анализу укажем, что наука “родила” новый вид познания, названный ею системным познанием, но основы в нем не выявила, вследствие чего ей пришлось просто тотально утвердить именно сам подход, называемый системным подходом. Ведь без метафизического обоснования ничего нет и быть просто не может. Она есть то с помощью чего мы познаем не только мир, но ещё и самих себя. Вследствие того, что к метафизике всегда какое – то негативное отношение, её всегда отбрасывают, а порой и просто выбрасывают как что – то несерьёзное, ненужное и просто отжившее. Без метафизики мы не можем познавать, хотя она стара и так считают многие учёные современности. Ведь они привыкли сравнить между собой камень и Солнце, человека и дерево, вместо того чтобы заняться синтезом и выявлением основ, составляющую такое наше их понимание. Именно таким образом и так создавалась системология, которую без метафизических оснований так и не удалось создать и построить. Оказывается, что таким образом создавались целые груды новых “наук”, которые к самой науке не имеют никакого отношения. Об этом мы будем также говорить, но чуть позже. А сейчас вернёмся снова к основаниям нашего познания и рассмотрим, что они из себя представляют. Теперь мы уже будем использовать весь арсенал, имеющихся у нас знаний на настоящее время, включая ещё способы и методы познания. Назовём этот анализ системным и покажем почему эти основания образуют систему, а саму эту систему философии назовём универсальной философией. А пока обратимся к душевности и душе как неким основаниям самого нашего познания.
6.1. Понятие душевного и душа.
Обращаясь к душевности, мы сталкиваемся с тем, что понимаем её как некую нашу сердечность, проявление её в нас, а отсюда и её выраженность в виде нравственности и морали. Но, кроме этого, душу понимают и как некого посредника между материальной, биологической жизнью и жизнью после смерти. Отсюда возникают представления о реинкарнации души, её переходах в различные материальные сущности, отражающие и несущие в себе уже её некое бессмертие.
Рассматривая душу как некий синтез, о котором мы уже упоминали в наших работах, мы приходим к тому, что она есть ничто иное как очувствление разума. Это означает, что чувствующий разум уже не есть просто разум или же просто чувство. Он есть разум, наделённый чувственностью, который И. Кант и назвал рассудком. Но, как оказывается, рассудок есть некое критичное состояние чувственного разума, точнее сказать, есть нравственный и моральный разум, а не только чувствующий разум. Вот почему саму философию И. Канта мы связываем с душой, как тем основанием, на котором он её создал и построил.
Душа как выразитель нашей душевности обладает таким же свойством как обладает и сам дух. Также как и дух она не может быть визуализирована и объективизирована, хотя понятия дух и душа являются простыми утверждениями, наблюдающихся у нас состояний. Отсюда и возникает их путаница, а то и простое замещение одного на другое. Но, как мы уже показали, душа связана с нашей нравственностью и моралью, которые рождаются как некий отклик на то, что мы уничтожаем, делаем не так, не стремимся к преображению и просветлению мира. Именно эта критичность выражает собой нашу душевность, заставляет нас задумываться над тем, что мы делаем, что творим и куда движемся. Дух удерживает это в нас в рамках нашей целостности, не давая развалится на части и куски, вызывая у нас и такое отношение к нашему движению в будущее. Душа рождает некую определённость в будущем, дух стремится её реализовать, утвердить и создать так, как этого требует душа и наша душевность. Отсюда духовность связывают с любовью к миру, а дух со свободой в этом мире, а отсюда и от самого этого мира. Но не подумайте, что дух желает уйти из этого мира, наоборот, он желает его изменить, преобразовать, привести к своему соответствию. Поэтому любой философ и мыслитель приходит к тому, что существующий материальный мир, как не соответствующий нам, должен быть изменён и преобразован. Именно отсюда и все их претензии на его изменения, путём решения тех или иных проблем, связанных с переустройством самого социального мира. Отсюда их разработки по теории и сами теорий государства, касающегося его переустройства, строения, состава, а также изменению отношений между самими людьми.