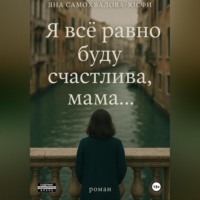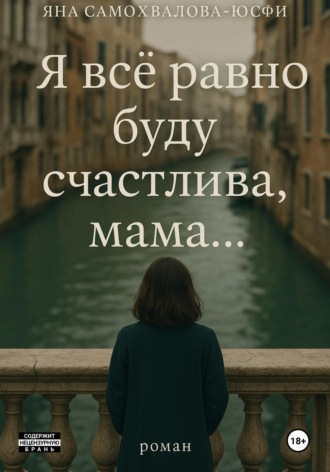
Полная версия
Я все равно буду счастлива, мама…
Ребенком меня пугало это отчуждение. Я не понимала его, не могла объяснить. Думала, что, как всегда, виновата я. Что, может быть, делаю что-то не так, говорю не то.
А потом, уже взрослой, я как-то разговорилась с Русланой. И она вдруг, совсем между прочим, рассказала об одном случае – таком, который многое, если не сказать всё, объяснял.
Облегчение – это первое, что я почувствовала: оказывается, я не просто так ощущала эту холодную дистанцию. Мое ощущение возникло не на пустом месте. Но сразу за облегчением пришло чувство, похожее на ужас. Потому что, если всё действительно было так, как рассказала Руслана… тогда всё это имело совсем другую глубину. И совсем другую тьму. Но об этом – позже.
Оказалось, в Донецке и его окрестностях жила почти вся родня. Дедушка с бабушкой обосновались на длинной и пыльной улице 8-го Марта. Мой дед был мясником и сколотил хорошее для того времени состояние. Он разводил кроликов, птицу и свиней, которых сам забивал и резал. (Их страдальческий визг, разносившийся по всей улице, до сих пор стоит у меня в ушах! Наверное, именно тогда я впервые задумалась о смерти, преисполненная жалостью к предсмертным мукам другого живого существа). На рынок старики не ходили – всё необходимое росло в огороде. На столе всегда стояла бутылка водки или армянского коньяка, а в тарелках лежал кусок мяса или рыбы.
На другом конце улицы 8-го Марта находился дом бабушкиной младшей сестры. Она жила там с дочерью, зятем и внуками. А где-то на окраине города жила моя тётка, Люси, как называла её мама. Ее родная сестра. Аптекарша. С мужем и детьми.
Меня сильно поразило знакомство с её сыном – моим двоюродным братом, которого назвали в честь деда. Николай. Дед, кажется, не был в восторге от этого. Помню, как он, играя с соседями в дурака, говорил, хмурясь и щуря один глаз над дымящейся сигаретой: – Надо же было додуматься – назвать дурака моим именем! Вот уж оказали честь, ничего не скажешь. Неужто намёк?
Меня его слова забавляли, потому что невозможно было понять, говорит он в шутку или всерьёз.
До знакомства с Колей я слышала о нём только от взрослых. «У Колюши опять сердце прихватило», «Ребёнка положили в больницу», «Дурак снова головой об стену бился». Бабушка однажды объяснила мне, что Коля – такой же мой брат, как и Павлик, только… немного странный. Я спросила: «Как это – странный?» Она замялась, протянула: «Ну-у-у…». И добавила:
– Он психически неуравновешенный. Нервный. Поэтому, Алисочка, его нужно жалеть, ни в чём не перечить, чтобы не нервировать. Делиться с ним всем, что у тебя есть. И вообще – быть с ним доброй. Ласковой. Терпимой.
Мне показалось, что она чего-то недоговаривает. Я решила спросить у мамы.
– Мама, а что значит «психически неуравновешенный»?
– Это значит – больной на голову, – отрезала она без лишних объяснений.
Я тут же представила кузена со страшной дыркой в черепе. С бинтом на голове. По спине пробежали мурашки.
– Понимаешь? – переспросила мама.
Нет, я не понимала. Не понимала до тех пор, пока не начала с ним общаться. Никогда раньше я не встречала такого «странного» человека. Мне было трудно оставаться доброй и терпимой, как того просила бабушка. Если меня и ругали взрослые, то всегда только из-за Коли – других поводов я им не давала. Непривыкшая к строгому обращению и недовольная тем, что всё внимание достаётся кузену, я вынуждена была покинуть пьедестал, на который меня вознёс папа. И, признаться, этот спуск оказался болезненным.
Мне было обидно, например, что моя любимая куриная ножка всегда, без исключения, доставалась Колюше. И не одна, а обе. Ощущение несправедливости преследовало меня и тогда, когда на обед подавалась яичница – как назло, у нас с Коляшей совпадали вкусы. «Дурак», как называл его дедушка, быстро глотал свою порцию, облизывал слюнявые губы-вареники, а после тыкал пальцем с обгрызаными до крови ногтями в мою тарелку. Тогда взрослые, торопливо и как будто с тревогой в голосе, просили меня отдать ему желток: «Чтобы Колюша не злился – ему нельзя расстраиваться». Если я упиралась, утверждая, что тоже люблю желток, просьбы сменялись приказами. Иногда – с угрозой в голосе.
И тогда мне приходилось есть сухую куриную грудку, или давиться белком, от которого меня подташнивало. Иногда я демонстративно отодвигала тарелку, надувала губы и опиралась локтями о стол, подперев лицо руками. Этот трюк срабатывал на родителей. Но не здесь, на 8-е Марта. Удивительно, но никто не порхал вокруг меня, не старался утешить. Только когда тётушкина семья уходила, бабушка выкладывала на стол что-то вкусненькое.
Нюся была добрая женщина с мягким характером. Она никогда не повышала голос, терпеливо сносила проказы внуков, но при этом на голову сесть не позволяла. Она относилась к тем взрослым, которые могут усмирить самого буйного и капризного ребенка одним только взглядом – если, конечно, ребёнок был адекватным, как мы с Павликом. С Колей не справлялась даже бабушка.
От неё исходил свет – густой, щедрый, как тёплый пар в мороз. В нём хотелось быть. Купаться в его лучах.
Вскоре после отъезда родителей я пошла в первый класс. Осень семьдесят девятого года выдалась пронзительно холодной и ветреной. По вечерам, лёжа на раскладном диване в гостиной, я с тревогой прислушивалась к завываниям ветра. Стёкла дрожали и позвякивали. Казалось, дом вот-вот сложится, как карточный, и рухнет прямо на меня.
Комната в темноте казалась огромной. Потолок уходил куда-то ввысь, стены дышали холодом. Тени от мебели вытягивались, скользили по углам, как будто кто-то тихо ходил по комнате, не касаясь пола. Съёжившись под одеялом, я мечтала о приходе моего рыцаря. Чтобы он пришел и спас меня, как когда-то спасал в ресторане от волков. Но я уже начинала понимать: чуда не будет. Папа далеко. Он в море. На большом корабле. Мне даже в голову не приходило, что кто-то другой мог бы меня защитить. Дедушка, например. Или четырнадцатилетний Павлик. Нет. Только папа. Только он. Как всегда.
Я натягивала одеяло на голову, как первобытный человек, прячущийся от злых духов, и лежала, затаив дыхание. Прислушивалась к завыванию ветра, к биениям собственного сердца. Плакала – тихо, чтобы не услышали бабушка с дедушкой. Плакала и шептала. Просила Бога о помощи. Именно тогда – в этом доме, в эту осень – я впервые научилась просить у него защиты.
О существовании Господа мне доверительно поведала бабушка. Это случилось однажды, когда я, разглядывая трюмо, указала пальцем на иконку, стоявшую у зеркала. Золотистая рамка с позолоченными лепестками обрамляла лицо милой женщины с пухлым младенцем на руках. «Что это?»
Нюся, простыми словами, доступными первокласснику, стала рассказывать о Боге, Пресвятой Деве и их сыне – Иисусе. Её голос звучал вдохновенно, лицо светилось. И я – маленькая – невольно прониклась доверием к изображению на иконе, поверила в некую силу, которая могла бы меня защитить. Пока папы нет рядом.
Едва выучив наизусть «Отче наш», я начала молиться. Тайком, чтобы никто не видел, становилась перед иконкой на колени и шептала:
– Боженька, сделай так, чтобы мама с папой поскорее вернулись. Я буду делать всё, что ты скажешь. Буду слушаться бабушку с дедушкой. Буду приносить только пятёрки. Буду всем делиться с Колюшей. Не буду на него злиться. Только, пожалуйста… Пусть они вернутся. Ты же всемогущий. Так говорит бабушка. Ты всё можешь. Мне так плохо без них. И я… я очень скучаю за папой…
Излив перед иконой всё – боль, тоску, страх – я, как учила бабушка, накладывала крест справа налево и кланялась Богоматери с младенцем, касаясь лбом пола. И – удивительно – но часто после молитвы я ощущала, очень явно: кто-то был рядом. Не знаю, откуда, но я была уверена – это ангел. Иногда он сидел на моём плече. Иногда – порхал над головой, взмахивая своими белоснежными крылышками. Иногда исчезал, но я чувствовала: он где-то близко. И вернётся, если вдруг мне станет совсем страшно. Совсем одиноко.
С ним было легче. Но заменить мне родителей он не мог. Поэтому я продолжала молиться.
Когда уроки были сделаны, а с делами по дому покончено, можно было выйти на улицу. Я сразу выбегала к моим новым друзьям, которые, я знала, поджидали меня. Мы играли в казаков-разбойников, гоняли мяч между деревьями и гаражами, носились без устали, пока кто-нибудь не разбивал себе коленку. Воздух звенел от смеха и глухих ударов мяча о стены.
С наступлением темноты улица пустела. Хлопали калитки, гасли окна. В бабушкином доме всегда стоял особенный запах – тёплый, чуть кисловатый, словно воздух там постоянно бродил вместе с тестом и брагой. Только позже я поняла: это пахли дрожжи. Я садилась за кухонный стол – низкий, с красной клеёнкой, местами вздувшейся от времени. Пила чай с пирожком. Читала дедушке небольшую статью из газеты. Помогала бабушке стряпать. Относила Дружку похлебку, приготовленную дедом.
С приходом морозов всё вокруг притихло. Соседей стало не слышно. Только изредка раздавался лай собак. Мне нравилось раскладывать перед собой букварь, ручку и тетрадь в линейку – и под ровный треск угля в печи учить уроки.
Часто за окном шёл снег – густой, белый, блестящий. Как в сказке. Я придумала себе игру: выхватывала глазами самую крупную снежинку за окном и следила, как она кружится, переворачивается в воздухе, пока не коснётся земли. Это меня успокаивало. Словно я сама становилась частью этого танца – частью чего-то большого, вечного.
По воскресеньям я писала письма родителям. Писала всегда одно и то же: сколько звёздочек получила – больше ничего не приходило в голову. В первом классе вместо оценок давали красные бумажные звёзды, вырезанные пожилой учительницей. Когда она медленно шла между рядами парт, я замирала. Если её пухлая рука вдруг тянулась ко мне, сердце подскакивало. Я брала звёздочку осторожно, как будто она была из стекла. Прятала в середину дневника, стараясь не помять лучики. И всё оставшееся до конца урока время представляла, как покажу её бабушке и дедушке. Чтобы они увидели, что я стараюсь. Улыбнулись. Похвалили.
Взрослые не могли нарадоваться моим успехам, и я изо всех сил старалась их не разочаровать.
– Алисочка, – повторяла бабушка, – ты должна хорошо учиться, если хочешь, чтобы мама с папой скорее вернулись.
Да, необразованная Нюся прекрасно знала, какую выгоду можно извлечь из, пожалуй, самого сильного детского страха – страха быть брошенным.
Так постепенно учёба стала моим стилем жизни. В ней я находила не только утешение, но и подлинную радость. Если урок был сложным, я кропела над ним до последнего. То же касалось и домашних заданий. Я как будто научилась раздваиваться: то становилась строгой учительницей, задающей каверзные вопросы, то – прилежной ученицей, честно на них отвечающей. И не вставала из-за стола, пока внутренний звоночек не извещал, что урок усвоен. Усвоен до конца. На отлично.
Глава 7. Стыд
Видимо, за год, проведённый на улице 8 Марта, я настолько привыкла к похвалам и восхищённым взглядам, что когда однажды взрослые – бабушка с дедушкой, тётя с дядей и срочно вызванные с Дальнего Востока родители – потребовали от меня объяснений за какие-то «постыдные» поступки, я не просто растерялась. Я дрожала, как загнанная в угол мышь, готовая провалиться сквозь землю от стыда.
Это было субботнее утро, конец февраля 1981 года. Тогда я впервые в жизни узнала, как выглядит настоящий взрослый гнев – когда он обрушивается на тебя, словно лавина, и тебе некуда бежать. Негде спрятаться. И впервые поняла, что могу быть для своих родных не любимой, не умницей, а… плохой.
Они сидели в гостиной полукругом, замкнув меня в центре. В той самой гостиной, что была мне спальней. Там, где я пряталась под одеялом от теней, скользящих по стенам, и шептала что-то богу, как будто он был рядом. Я уже не слышала слов – только чувствовала на себе их взгляды: твёрдые, колючие, без пощады. Смотрела на их лица – злобные, чужие – и не узнавала их. Куда делись те, кто ещё вчера улыбался мне? Моя душа оцепенела. Сердце трепыхалось в груди, как пойманная птица. А нутро то сжималось в узел, то выворачивалось наружу – от страха, от бессилия, от позора. Липкого, жгучего, слишком большого и тяжёлого для плеч восьмилетнего ребёнка.
Это событие стало – и остаётся до сих пор – одним из самых болезненных воспоминаний детства. Оно приросло ко мне: тяжёлое, неотвязное, как страх, который невозможно выдохнуть до конца. Я стояла тогда посреди комнаты, понурив голову, как преступница перед судом, и нехотя, едва слышно, отвечала на вопросы о наших с Колей «недетских» играх.
После отъезда родителей тётя Люся стала всё чаще оставлять Колю у бабушки. Она завидовала своей старшей сестре – завистью тихой, женской, выматывающей. За то, что та красивее, успешнее, что её дочь – «умница», «гордость», которая растёт сама, будто сорная трава, не требуя ни полива, ни прополки. А её сын… Конечно, она любила его. Но всё же – почему именно ей досталась такая доля? Бессонные ночи, врачи, больницы, уколы, истерики. Коля бился головой о стены, сгрызал ногти до крови, орал так, что звенело в ушах, швырял всё, что попадалось под руку. А потом мог часами раскачиваться, стоя на четвереньках, будто пытаясь выбить из себя что-то, чего даже не понимал.
– Анька, – вздыхала бабушка соседке, – упрямая, своенравная, в чём-то даже легкомысленная… А как всё удачно складывается у неё! А бедная Люсенька… – И голос её дрожал.
Так Коленьку стали оставлять у бабушки – сначала на сутки, потом на выходные, а потом и на все каникулы. Тёте Люсе казалось, что после игр со мной он становился спокойнее – несмотря на наши ссоры, которые порой доходили до слёз и воплей. Меньше истерик, меньше ударов головой о стену – будто во мне было что-то, что, хоть на время, возвращало кузена в этот мир. Она даже говорила, что Колюша немного «поумнел».
Бабушке приходилось нелегко. Принцесса и Дурак – так называл нас дедушка. Мы оба требовали к себе внимания. Не умели и не хотели делиться – ни вещами, ни пространством, ни взрослыми. Но бабушка не жаловалась перед младшей дочерью. Оставалась сдержанной. Молчала. Делала всё, чтобы не показать, как сильно устала.
Поначалу я терпеть не могла двоюродного брата. Он визжал, если что-то шло не по его, ябедничал старшим по любому поводу, и его вспышки – бурные, бесконтрольные – меня откровенно пугали. Но со временем наши характеры притёрлись. Я привыкла. И даже находила какое-то удовлетворение в том, что именно я была главной в наших играх, заводилой, инициатором. Мне нравилось быть той, кто задаёт правила – наконец-то кто-то следовал за мной, а не наоборот.
Взрослые, конечно, не могли не заметить моего лидерства, особенно бабушка. И когда однажды она тихо заглянула в комнату и склонилась под кровать, где мы с Колей исследовали разницу в строении наших тел – и не только глазами, но и руками, – вся вина тут же легла на меня. Коля был «Дураком», а значит, с него – как с гуся вода. То, что он старше меня на три года, не имело значения. Он ведь – больной. А я – девочка нормальная. К тому же умная, смышлёная, и должна понимать, что можно, а что нельзя.
Колюша, явно раздражённый бабушкиным внезапным вторжением, нахмурился, поправил сползшие очки и с трудом натянул штаны – пуговицы не поддавались, мешала эрекция. Прямо, без обиняков, он бросил:
– Зачем ты пришла? Мы играли! Тебя никто не звал! Ты всё испортила!
Бабушка застыла. Растерянная, бледная. Я никогда не видела её такой. Мне стало не по себе. Я ещё не понимала всей мерзости происходящего, но кожей ощутила: мы с Колюшей сделали что-то не то.
Очнувшись, бабушка принялась нас осматривать – с какой-то пугающей дотошностью. Охая и шумно вздыхая, она даже понюхала наши руки. Потом, красная от волнения, заперла меня в комнате. А Колю увела с собой и не отпускала от себя ни на шаг – вплоть до приезда дяди Гены на следующий день.
Как только его белая «Жигули» скрылась за поворотом, бабушка накинула платок и, не сказав никому ни слова, отправилась на Главпочтамт. Что именно было в той телеграмме, которую она отправила родителям на судно? Я могу только догадываться:
«Срочно позвоните. Безотлагательно. Очень важно. Мама.»
Когда они вышли на связь, бабушка потребовала, чтобы они немедленно вернулись и, наконец, занялись своими детьми. Даже пятнадцатилетний Павлик, по её мнению, окончательно отбился от рук. (Она была права: через год он уйдет к женщине старше него, а еще через год станет отцом).
Когда мне показалось, что об этой истории знают все – другие родственники, соседи, – жизнь превратилась в пытку. Не столько из-за чьих-то слов (я почти ничего не слышала напрямую), сколько из-за взглядов, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Я мечтала забыть, стереть этот эпизод, как неудачный кадр на фотоплёнке. Мечтала, чтобы плёнка порвалась именно там – между «до» и «после».
Но забыть было невозможно. Коля своим существованием постоянно напоминал о случившемся. А ещё он говорил. Иногда вдруг, без всякой причины, как будто ничего особенного не произошло, он начинал вспоминать нашу «забаву» и упрекал бабушку за то, что она «тогда» всё испортила. Говорил громко, откровенно, без малейшего смущения.
(Здесь, из уважения к читателю, я не стану приводить его слова. Колюша не знал, что такое табу, и стыдливость была ему чужда. Его психика, лишённая фильтров, не различала, где кончается дозволенное и начинается непозволительное).
В ужасе слушая Дурака, я краснела, бледнела, опускала глаза. Каждый раз меня парализовал стыд – слишком тяжёлый, слишком взрослый для ребёнка. Я делала вид, будто не расслышала, о чём он говорит. (Уверена, получалось плохо – актриса из меня никакая.) Или будто «ничего такого» не произошло. Искала предлог, чтобы сбежать – в туалет, на улицу, в свою комнату.
Когда мы оставались вдвоём, я шипела на него, а потом, видя, что он заводится, начинала уговаривать. Ласково, как взрослые уговаривают малышей:
– Колюша, пожалуйста… Не говори об этом больше. Никогда. Я тебе куплю «Петушка». Или дам монетки. Те, с Лениным. Помнишь?
Он помнил. Почему-то он особенно любил эти рублевые монеты – гладил, перебирал, сжимал их в кулаке. Но на мои подношения не реагировал. Вернее, быстро забывал о своем обещании. Поэтому его невозможно было подкупить. С тем же успехом я могла бы пытаться остановить грохочущий водопад – ладонями, словами, слезами.
Но хуже всего было не это. Хуже – когда он, засунув монетку с Ильичом в карман, смотрел на меня в упор и, склонив голову набок, заискивающе, почти кротко, спрашивал:
– Давай ещё поиграем? Я никому не скажу. Честно.
В такие моменты перед моим внутренним взором неизменно вставал папа – таким, каким он был в тот злополучный день, когда я стояла посреди зала перед «семейным советом», а Коля, как ни в чём не бывало, сидел у своего отца на коленях. Эта деталь врезалась в память: он – на руках, я – под прицелом. В моё тогдашнее восприятие это добавляло особенно мучительное чувство несправедливости, густое, как сироп. Почему взрослые ругают и стыдят только меня?
Я пыталась вспомнить, кто первым предложил ту дурацкую игру. Кто начал. Но страх уже тогда затянул память мутным туманом. Всё стерлось – кроме одного эпизода. Я помнила только пуговицу. Большая, стеклянная, блестящая, она укатилась под кровать. Я полезла за ней первой. А Коля – за мной. Больше ничего.
Итак, я стояла посреди комнаты и вся горела – от стыда, от обиды. Слёзы текли по щекам и казались горячими не от боли, а от унижения. Папа стоял у двери, прислонившись плечом к косяку, и тоже, кажется, сдерживал слёзы. Я увидела это, когда, наконец, отважилась поднять на него глаза. Глянула и поразилась. Среди всех – бабушка, дедушка, мама, дядя, тётя – только он смотрел иначе. В его взгляде не было ни гнева, ни осуждения. Я ясно увидела, как он страдал – за меня. Вместе со мной.
Среди присутствующих в гостиной был ещё один человек, кто вёл себя иначе. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу – костлявые колени торчали под трикотажной тканью спортивных брюк, как узлы на верёвке. Руки, жилистые и нервные, были скрещены на груди. Он молчал. С интересом посматривал то на Колю, то на меня.
Но в какой-то момент дедушка резко ударил ладонью по столу. Все вздрогнули от неожиданности.
– Так, баста! – гаркнул он.
Он обращался к тётушке, которая всё это время без устали отчитывала меня – говорила одно и то же, по кругу: «Плохая девочка, стыд, безобразие…»
– Сколько можно?! – продолжал дед. – Тошно слушать уже.
Тётя захлопала глазами – влажными, выпуклыми, как у испуганной лягушки.
– Но папа… – забулькала она.
Дед глянул на неё. Холодно и безапелляционно. Она сразу умолкла.
Как же я была благодарна дедушке в ту минуту. Его голос – грубый, как наждачка, – прозвучал как защита. Как спасение. Ведь тётя была горячей сторонницей самого сурового наказания для меня. Я уже не помню, чего именно она добивалась, но это не важно. Важно то, с каким остервенением она читала мне мораль, с каким наслаждением произносила обвинения – будто вся её обида на жизнь нашла наконец выход. И всё это несмотря на то, что соучастником «преступления» был и её собственный сын. Пусть и дурковатый, но сын.
– Начнём с того, – раздражённо продолжил дед, – что нечего было оставлять здесь Дурака на все каникулы! У него что, своего дома нет, что ли?
Он на мгновение замолчал, будто давая всем время переварить сказанное, и делал вид, что не замечает, как напряглись бабушка и тетя Люся. Потом повернулся к обеим дочерям, сидевшим рядом на диване, и добавил:
– А вы, мандавошки, не стройте из себя невинных девиц. Устроили тут судный день, а у самих рыльце в пушку! Видимо, они, – кивнул он на меня и на Колю, – от кого-то и насмотрелись.
И язвительно добавил:
– Мы с бабкой, если что, уже давно не кувыркаемся.
Я взглянула исподлобья на маму, бабушку и тётю – и увидела, как они покраснели. Слова деда больше всего, видимо, оскорбили бабушку: она фыркнула, вскочила и выбежала, шумно шаркая тапками и что-то недовольно бормоча себе под нос.
«Судный день» не состоялся: одна из судей удалилась, громко хлопнув дверью, остальные растерялись, сбитые с толку доводами «защиты». Папа, уловив паузу, подхватил меня на руки, прижал к себе и быстро вышел из комнаты – вслед за Нюсей.
Я уткнулась лицом в его плечо – тёплое, надёжное, пахнущее чем-то родным, знакомым до мурашек. С каждым шагом, что он делал, внутри меня постепенно отступало напряжение. Пружина, сжатая страхом, ослабевала. Дрожь уходила. Всё, что только что казалось кошмаром, рассыпалось – как гул за захлопнутой дверью.
Не знаю, был ли это побег. Или спасение. Но именно тогда я почувствовала, что возвращается потерянное чувство защищённости. Что кто-то снова держит меня – крепко, как в раннем детстве. Папа ещё раз доказал: его любовь – не сделка, не ожидание, а постоянный огонь, который не гаснет даже при буре.
Он снова стал для меня тем, кем был всегда – прибежищем, тихой гаванью. Тем, кто не предает. Чьё присутствие не зависит от ветра чужих мнений и настроений. Если бы и вправду шла борьба за моё сердце, как в старину бились рыцари за благосклонность прекрасной дамы, то отец снова одержал бы победу. А все прочие – остались бы ни с чем.
Мама… Она тоже была там. Я знаю это наверняка. Но не помню её. Она словно растворилась в комнате, стала частью обоев, стены, воздуха. И, как бы странно это ни звучало, именно это я и запомнила – её отсутствие. Её молчание. Её выбор уйти в тень.
И теперь, спустя столько лет, мне от этого немного грустно. Ведь она тоже могла… Впрочем, я не знаю, чего я ждала от нее тогда. Может, чтобы она просто была рядом? Как был рядом отец?..
***
Душа девочки Алисы и душа взрослой женщины, пишущей эти строки… Нас разделяет Время – величественное, неумолимое, растянувшееся на несколько десятков лет – годы, которые неумолимо стирают яркость и свежесть мгновений, погружая их в молчаливую божественность вечности. Иногда, вглядываясь в эту священную тень, я всё ещё вижу её – ту маленькую фигурку, которая стояла посреди комнаты, с растерянными глазами и пылающими от стыда щеками. Я вижу, как она ёжится, как шевелит пальцами, пряча руки за спину. Она почти не дышит. И всякий раз, когда я пытаюсь приблизиться к ней, чтобы шепнуть «это пройдет», память выставляет преграду – прозрачную, как стекло, но твёрдую, как гранит. Я снова и снова задаю себе один и тот же вопрос: что чувствует ребёнок, когда на него обрушивается волна осуждения от тех, кому он верил? Кому доверял? Кого любил?
Он ещё не умеет защищаться. Он не спорит, не объясняет, не протестует. Он сжимается внутри, будто хочет исчезнуть. Ещё до того, как на него падают громкие слова, он уже чувствует: что-то пошло не так. Он чувствует в теле – в животе, в горле, в жаре щёк – стыд, который невозможно смыть. Вину, которая не имеет формы, но имеет вес.