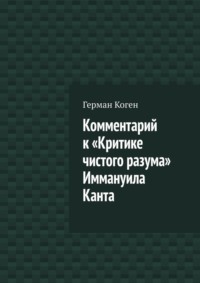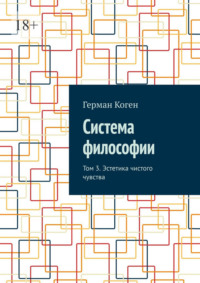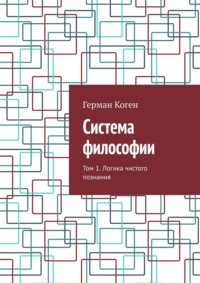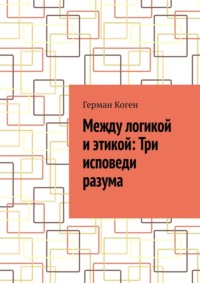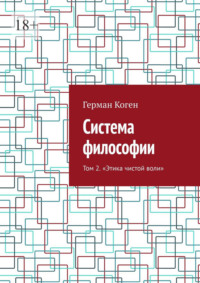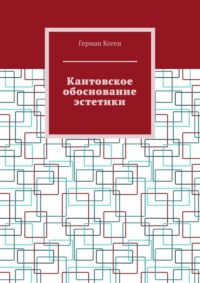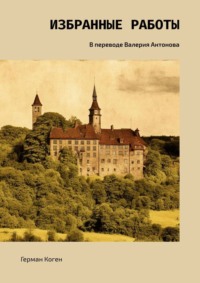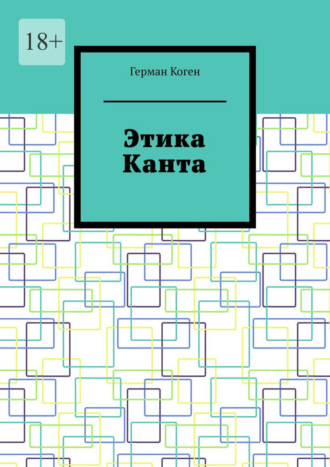
Полная версия
Этика Канта
Умозаключение разума изначально направлено вовсе не непосредственно на сами объекты опыта, а на единства, которые рассудок уже установил в них. Оно стремится расширить их. «Единство разума, следовательно, не есть единство возможного опыта, а существенно отлично от него, как единства рассудка» [10]. К условиям, которые обозначает категория, оно ищет всеобщее условие, правило. Аналогичное отношение существует между основоположением и вещью самой по себе. Поскольку же правило «подвергается тому же испытанию разума», «пока это возможно, то легко видеть, что собственный принцип разума вообще (в логическом применении) состоит в том, чтобы для обусловленного познания рассудка найти безусловное, чем завершается его единство». Таким образом, найден иной выражение для вещи самой по себе: безусловное.
Найти безусловное – следовательно, логическая максима силлогистики, как и индукции. Эта максима формулируется как закономерность, как принцип разума, следующим образом: «Если дано обусловленное, то дана и вся ряд подчиненных друг другу условий, которая, следовательно, сама безусловна (т. е. содержится в объекте и его связи)» [11]. Уже показано, какие ложные гипотезы возникают из этого принципа. Но также показано, как их избежать, если слово «дано» превращается в «задано»; если объект, вещь сама по себе, превращается в «задачу».
Посему мы можем сказать: в этом принципе, в этом понятии разума о высшем единстве, которое возводит единства рассудка, условия опыта к безусловному, возникает задача о тотальности условий для данного обусловленного. «Поэтому чистые понятия разума о тотальности в синтезе условий по крайней мере как задачи, чтобы по возможности довести единство рассудка до безусловного, необходимы» [12]. «По возможности» – вот здесь девиз.
Оба выражения, тотальность условий и безусловное, суть выражения одного и того же принципа. Безусловное надо мыслить как тотальность условий, а эту – как безусловное. Принцип разума есть поэтому, сам по себе, как и в своих отдельных выражениях, «понятие безусловного, поскольку оно содержит основание синтеза обусловленного» [13]. Но как это основание обусловленного понятие безусловного есть понятие тотальности условий. И как идея этой тотальности должна мыслиться как задача вещи самой по себе, так и принцип, идея безусловного.
Первая часть нашей задачи в этом разделе, таким образом, выполнена. Принцип идей и принцип умозаключения разума оказались тождественными. Идеи, как виды истолкования вещи самой по себе, суть, как таковые, виды обозначения и определения безусловного, в зависимости от особого вида синтеза, ряд которого должен мыслиться в своей тотальности. Но эта мысль распознана, разъяснена как принцип силлогистики, как и индукции, которого недоставало даже некритическому эмпиризму. Что жалкая тавтология выражалась бы в большей посылке, если бы она не означала ничего более глубокого, чем то, что она говорит, это не могло остаться скрытым ни для кого. Но что это «все» есть «претензия», которая направляет и порождает весь разумный процесс вывода; что в большей посылке говорит – принцип: в этом сила вывода, в этом его незыблемое значение в аппарате познания и в истории мысли. Претензия, которую содержит большая посылка, и есть принцип; поэтому и в этом смысле силлогистика свободна от petitio principii.
Принцип вывода есть идея безусловного. Его можно сформулировать так: если дано обусловленное, то завершенный ряд условий, безусловное, которое представляется как объект, должно мыслиться как задача. Идея безусловного есть завершенный ряд, есть идея тотальности условий для обусловленного. Это идея вещи самой по себе для понятий явлений. Как толкования вещи самой по себе не имеют иного назначения, так и силлогизм предотвращает «пропасть интеллигибельной случайности». И из этой мысли возникла аксиома, которую Дж. Ст. Милль обозначил как принцип силлогизма и индукции. Можно лишь кратко указать, насколько трансцендентальное выражение принципа не только проще и предполагает меньше материального, но и менее мистично.
Также достаточно напомнить, насколько углублено значение вещи самой по себе в субъективном отношении благодаря сведению ее к принципу силлогизма. Пограничное понятие ноумена стало принципом умозаключения разума; идея вещи самой по себе – единством разума безусловного, которое, правда, не объединяет сами явления, но их единства. Таким образом, идеи не только прикрывают ту пропасть интеллигибельной случайности: они также раскрывают основной мотив вершин логической культуры; самые плодотворные, незаменимые средства ее, как и всего познания природы и всего понимания исторических связей: принцип силлогизма и индукции. Поэтому как категория возникает из видов суждений как их синтетическое единство, так идея возникает из умозаключения разума как безусловное синтетическое единство условий.
Переходим теперь ко второй части нашей задачи: показать, как трем идеям соответствуют три вида умозаключения. При этом также придется затронуть вопрос, следует ли проводить теорию соответствия в том выводе, который был сделан выше (стр. 73).
Это доказательство – и это нельзя слишком подчеркнуть – предпринимается здесь отнюдь не из пристрастия к логической мелочной живописи; и не для того, чтобы воспроизвести архитектонику Канта даже там, где она, казалось бы, допускает самостоятельные движения; но исключительно по серьезной причине: с помощью этой систематики достичь более точного понимания познавательного аппарата и более свободного обзора его отдельных механизмов.
И все же нельзя не признать, что попытка вывести из идей души, мира и Бога три вида умозаключения как три вида умозаключения кажется странной; невольно приходит мысль, что даже если бы это удалось, все равно не был бы доказан заложенный в самой вещи параллелизм, не говоря уже о причинной связи между этими объектами мышления.
Однако если рассмотреть это сомнение несколько внимательнее, то окажется, что оно само внушено тем самым догматизмом, которого якобы стремится избежать. Где же, в самом деле, существуют эти идеи, как не исключительно в самом человеческом мышлении? Что же удивительного, если этим идеям точно соответствуют определенные формы мышления, ведь они сами суть не что иное, как формы мышления. Если только что сомневались в параллелизме, заложенном в вещи, то вместо этого следует сказать: параллелизме, заложенном в самом мышлении.
Речь в этом вопросе идет не о чем ином, как о понимании того, что то самое стремление разума, которое породило эти идеи, эти истолкования вещи в себе, проявляется и в умозаключающем мышлении. Понятие вещи в себе, конечно, не породило умозаключение; но тот же самый мотив, который выражается в понятии безусловного как основания условий, побуждает и к расширению синтезов суждений; тот же самый мотив, который распознается в разумных единствах идей, раскрывается как скрытый принцип всякого умозаключения.
И то, что справедливо для рода, в равной мере принудительно и естественно справедливо и для видов. Три идеи, конечно, не вызвали к жизни три вида умозаключений; но так же, как требование вещи в себе может быть истолковано и удовлетворено не более и не менее чем тремя способами, принцип безусловного распадается на три вида попыток овладеть тотальностью условий.
Виды умозаключений Кант вывел из членов отношения. Может существовать лишь столько видов умозаключения, сколько существует видов отношения, под которым представления, соединенные в единство в суждении большей посылки, находятся. Количество не может дать основания для деления, ибо каждая большая посылка высказывает нечто всеобщее. Точно так же и модальность, ибо это всеобщее не основывается на восприятии и точно так же не является гипотезой, ни само не выведено и не доказано. Поэтому оно и вовсе не есть всеобщее количества. Качество же ничего не меняет в логическом характере умозаключения: большая посылка может быть утвердительной или отрицательной. Сомнение, что следует учитывать лимитацию, разрешается в дизъюнктивном. Остается только отношение.
Отношение трехчленно. Представления могут принадлежать одно другому, или зависеть друг от друга причинно, или, как части мыслимого над ними целого, исключать друг друга. В рамках этих трех видов отношения можно искать правило, которое предшествует умозаключению, объединению в тотальность условий как большей посылке. [14]
Можно поэтому также сказать, что какого вида объединение, в котором стремится достичь тотальности условий, такой формы должно быть и правило, в которое облекается этот принцип объединения. Объединение может быть достигнуто как последний субстрат, которому все явления, мыслимые в их уже установленных связях, присущи, чьими акциденциями они все кажутся. Или оно может мыслиться как последняя причина, из которой исходят все синтезы явлений. Или, наконец, объединение может казаться связываемым более свободной, но в то же время более всеобъемлющей связью: может мыслиться разумное понятие совокупности возможностей, целого всех существ, чтобы в его дизъюнкции связать все соединения мыслимого с безусловным.
Категорическое умозаключение опирается на признак, данный в предикате большей посылки; гипотетическое – на основание, содержащееся во всей большей посылке; дизъюнктивное – на целое, которое мыслится в большей посылке.
На грамматическую форму большей посылки не обращается внимания; жалко, что обычно это требуют и понимают неправильно; важно лишь соответствующее категориям значение правила, которое утверждается большей посылкой и по которому делается умозаключение. Поэтому также несостоятельно возражение, что в категорической большей посылке P тоже может мыслиться как основание. В таком случае именно P и есть основание; в гипотетическом же силлогизме вся большая посылка является основанием. И точно так же исчезает сомнение, будто только в категорическом умозаключении дан средний термин. Это возражение может быть понятно лишь с той точки зрения, которая придерживается аристотелевского понимания среднего термина. Однако тот, кто не считает обязательной эту метафизическую форму логики, направленной, тем не менее, на возможность познания, для того среднее суждение должно быть не менее ценно, чем опосредующий понятие.
В этом понимании силлогистики мы с благодарностью присоединяемся к ясным изложениям, которые Фриз и Апельт дали кантовским основным мыслям. Подробнее останавливаться на деталях здесь неуместно. Отметим лишь следующее: категорической большей посылке в заключении соответствует отношение подведения под правило. Таким образом, дано опосредование от категорического синтеза к «абсолютному субъекту», к идее души, коренящейся в том же самом мыслительном акте.
Далее: гипотетической большей посылке соответствует выраженное в заключении отношение подчинения, в силу утверждаемой в правиле зависимости, чей ассерторически мыслимый вывод есть заключение (conclusio). Эту форму имеют геометрические положения и законы механики. Аксиомы являются носителями этих оснований. Таким образом, дано опосредование от гипотетического синтеза к абсолютному объекту, к мировой идее с её многообразными разветвлениями – как математическими понятиями, так и трансцендентными понятиями природы, как синтезами, связывающими разнородное.
Наконец, в-третьих: дизъюнктивной большей посылке соответствует в заключении отношение соподчинения. Средний термин здесь – это целое, образованное разделением. Заключение есть коллективное выражение правила для всей разделённой сферы.
Следовательно, и индукция, основывающаяся на том же принципе, что и силлогизм, есть лишь вид силлогизма. И тем самым дан переход от дизъюнктивного синтеза к сущности вообще, к совокупности возможностей. Всеобщая определённость, которую эта совокупность делает возможной и мыслимой, действует и в дизъюнктивном индуктивном силлогизме как принцип. Целое, мыслимое над членами, есть та сфера возможностей, из которой может возникнуть всеобщая определённость, достигаемая в индукции.
Для ориентировки может быть полезно дополнить эти разъяснения ссылками на кантовские положения, из которых видно, что Кант в свободном от догматической искусственности смысле мыслил и хотел видеть признанным это согласие. Его метод характеризуется тем, что в качестве другого основания, из которого можно было бы вывести идеи, он имеет в виду лишь мысль: они могли бы быть врождёнными. «Ибо если уже даны такие чистые понятия разума (трансцендентальные идеи), то они, если не считать их, пожалуй, врождёнными, не могут быть найдены нигде иначе, как в том же самом действии разума, которое, поскольку касается одной лишь формы, составляет логическое в умозаключениях, но поскольку оно представляет рассудочные суждения относительно той или иной формы a priori как определённые, составляет трансцендентные понятия чистого разума» [3]. Здесь со всей однозначностью выражено аналогичное синтетическому единству категорий значение единств разума в идеях. Это значение проявляется во всех трёх идеях.
Что мы полагаем в абсолютном субъекте, в психологической идее? Ничего, кроме «представления того, к чему относится всякое мышление (relatione accidentis)» [15]. «Пустое Я» становится единственной субстанцией (substantiale), которой всё присуще. Если вообще категория субстанции может считаться синтетическим единством для категорической формы суждения, то не должно представлять большей трудности, что абсолютная субстанция, к которой всё относится relatione accidentis, рассматривается как чистое понятие разума, по образцу синтетического единства для категорического умозаключения разума.
Что мы мыслим в безусловном внешнего опыта? Мы проводим понятие причинности через весь ряд условий и объединяем непрерывный синтез членов этого ряда в безусловную тотальность. Таких тотальностей столько, сколько есть рядов синтеза. «Но в каждом из них они направлены лишь на абсолютную полноту ряда условий для данного обусловленного» [16]. Поэтому если понятие условия есть синтетическое единство для гипотетического обусловления, то понятие завершающего причинного ряда должно рассматриваться как синтетическое единство для обусловления, приходящего к прерыванию.
Наконец, следует вспомнить, что в дизъюнктивном суждении общность принимается за синтетическое единство потому, что в его основе лежит понятие сферы, под которой исключающие друг друга возможности содержатся как части целого – совокупности всего возможного. Эта полная совокупность всего возможного лежит в основе и дизъюнктивного умозаключения разума как идея. «В дизъюнктивном суждении мы рассматриваем всякую возможность относительно некоторого понятия как разделённую. Онтологический принцип всеобщей определённости вещи вообще (из всех возможных противоположных предикатов каждому принадлежит один), который одновременно есть принцип всех дизъюнктивных суждений, кладёт в основу совокупность всей возможности… Это служит небольшим разъяснением вышесказанного положения: что действие разума в дизъюнктивных умозаключениях по форме тождественно тому, посредством которого она создаёт идею совокупности всей реальности, содержащей в себе положительное всех взаимно противоположных предикатов» [17]. Это выражение безусловного есть принцип индукции, в отличие от других видов силлогизма.
Таким образом, выведение идей из видов умозаключения разума показало, что идеям вещи в себе, как безусловного, соответствуют три вида умозаключений, в которых принцип большей посылки, согласно этим идеям, оформляется по логической форме. Благодаря этому не только принцип силлогизма вступил в методическое отношение с принципом идеи, но одновременно принцип вещи в себе был приведён в согласие с этими основными мотивами мышления; и тем самым на это самое проблематичное звено всей трансцендентальной методологии пролился новый свет: насколько естественна и необходима процедура умозаключения, и насколько основополагающей является мысль идеи, настолько же неизбежен принцип вещи в себе.
***
[1] Основоположения чистой теории познания в кантовской философии, с. 53.
[2] Там же, с. 54.
[3] Критика чистого разума, с. 92. D 120.
[4] Критика чистого разума, с. 248. D 319.
[5] Система дедуктивной и индуктивной логики, пер. Шиля, I, с. 365.
[6] Там же, с. 362.
[7] Критика чистого разума, с. 251. D 322.
[8] Там же, с. 246. D 317.
[9] Там же, с. 251. D 323.
[10] Там же, с. 252. D 324.
[11] Там же, с. 253. D 324.
[12] Там же, с. 263. D 335f.
[13] Там же, с. 262. D 335.
[14] Ср. Логика, WW. III, с. 307. D 123 f.
[15] Пролегомены, WW. III, с. 103. D 100.
[16] Там же, с. 108. D 106.
[17] Пролегомены, WW. III, с. 98. D 95.
Четвертая глава. Регулятивное употребление трансцендентальных идей
Из задачи о вещи в себе возникли идеи как попытки решить эту задачу. Однако решения оказались смещением вопроса. Виды вещи в себе выродились в гипостазирования. Объекты идей трансцендентны.
Но идеи называются трансцендентальными. Следовательно, в них должна быть заложена связь с опытом – законная, хотя и ограниченная. Поскольку идеи трансцендентальны, они должны быть способны становиться плодотворными и полезными для применения в опыте. На эту применимость идей уже указывалось в конце первой главы, а также ранее (с. 53). Идеи должны представлять особый вид, особую меру познавательной ценности.
Предыдущая глава также поясняла этот момент, но не исчерпала его значения. Трансцендентальная значимость идей подтверждается не только тем, что в видах умозаключений действует лежащий в их основе мотив. Скорее, познавательно-критический характер идей, явленный в принципе силлогизма как разумных единствах безусловного, содержит дальнейшее указание на своеобразный способ действия, своеобразную ценность идей в экономии познания. Сначала необходимо для этого рассуждения отвлечься от трех особых трансцендентальных идей, чтобы распознать более общее значение идей как разумных единств, которые, хотя и соответствуют принципу силлогизма, но стремятся к той же цели иными путями, другими средствами логического мышления. Лишь после того, как этот общий признак всего, что может называться идеей, будет осознан, следует показать, как именно эти три идеи в высшей степени соответствуют этому общему значению идеального.
Двойственная природа идеального, обоюдоострость критической реальности нигде не проявляется яснее и проблематичнее, чем в идеях. Вечно памятное событие нашей литературы – та беседа Шиллера с Гёте, положившая начало взаимопониманию, – касалось этой кажущейся двусмысленности слова идея. В опыте идее не может соответствовать никакой конгруэнтный, адекватный объект. Следовательно, если нечто обозначается как идея, то «в отношении его действительности при эмпирическом условии» – Кант выражается характерно: «со стороны субъекта» – «говорится очень мало»; «но со стороны объекта (как о предмете чистого рассудка) – очень много» [1]. Таким образом, в выражении «всего лишь идея» заключена обратная ирония. Ведь объект, который в опыте дан в соответствии с понятием, – это всего лишь объект. Напротив, мир – это идея.
Однако интимному пониманию этого обоснованного обращения понятий объект и идея вновь и вновь противится предрассудок догматического реализма, из-за которого все усилия радикально преобразовать схоластические противоположности субъективного и объективного грозят потерпеть неудачу даже у тех, кто готов принять общий результат критического идеализма.
Бесполезно приписывать идеям через поэзию ту реальность, которую нельзя признать за ними перед трансцендентальным судом – то есть в точном соответствии с условиями опыта. Дело не в мыслительном достоинстве идей – поэзия могла бы щедро наделить их им, – а в их познавательной ценности, в их значимости, в мере реальности, которая в них дана и по которой они, в свою очередь, определяют объективную значимость.
Но именно это так трудно сделать доступным: что и идеям, хотя им в опыте ничто не соответствует, может быть присуща реальность; что их следует рассматривать как своеобразные мерила реальности. Однако эта трудность коренится не в чем ином, как в материалистическом наследственном пороке: мыслить все объективное материально, в неосвещенных формах пространства и времени. Согласно этой наивности, пришлось бы навечно остаться при аристотелевском положении, что чувственная единичная вещь представляет собой субстанциальное, и наука никогда не поднялась бы до понимания, что истина и реальность объектов заключены скорее в законах, ибо в них – достоверность познания; и что чувственные вещи обладают реальностью, являются реальными объектами лишь постольку, поскольку представляют собой значимые примеры этих познаний, поскольку – говоря платоновским языком – причастны идеям.
Почему же так трудно понять очевидное: что истинное, реальное, значимое не может и не должно являться как таковое в чувственной материальности? Подобно тому как законы существуют лишь в духовных, абстрактных, то есть – пользуясь старой неудачной терминологией – в субъективных формулировках, точно так же идеи не могут быть лишены реальности лишь потому, что в опыте они не являются в виде какого-либо объекта. Скорее, можно предположить: они как раз и представляют вещь в себе явлений, безусловное вещей, границы условий опыта.
Впрочем, допустив, что они обозначают этот фон мира опыта, здесь как раз и следует показать, что означает этот фон для самого применения опыта; в каком отношении он оказывается полезным; как подобная реальная значимость присуща абстракции закона без всякого сомнения. Однако мы уже видели, что, поскольку из этого возникает гипостазирование объектов, фон становится трансцендентным; трансцендентальной же идея может стать лишь благодаря тому, что оказывается пригодной для установления объективной реальности. Но этим установлениям служат исключительно категории; то, что их лишено, не обладает реальностью. Идеи отличаются от категорий тем, что расширяют их единства и потому выходят за их пределы. Если категория объединяет многообразие созерцания в объект, то для идеи в качестве объекта – или, точнее, к объекту – остается единство категории. Если категория схематизируется, то идея, напротив, может лишь – как гласит противоположный термин – символизироваться [2].
Таким образом, идеям недостает одного из условий, на которых основывается объективная реальность: наглядности в объекте; и, следовательно, кажется, что сомнение в значимости идей вызвано не только материалистическим наследственным пороком, но в равной мере и критическим пониманием, которое объявляет понятия без созерцаний пустыми, не наполненными реальностью.
Однако это положение относится к понятиям: можно ли распространить его и на идеи?
Конечно, не в том смысле, что идеям вообще приписывается пустота. Поскольку идеи осуществляют единство в ином материале и иными способами, чем категории, то и мера их наполнения познанием должна быть иной. Без идей явления не слепы, но близоруки. Так же следует понимать, что содержание идей составляют единства правил, законов, которые в них возводятся к единству принципов, к разумным единствам, к систематическим единствам. Следовательно, они являются продолжением единств опыта, которые сами по себе, без многообразия созерцания, бесполезны; и таким образом, идеи, как единства единств опыта, опосредованно всё же связаны с этим многообразием созерцания. В пространстве и времени они не даны адекватно; но, тем не менее, остаются, как единства безусловного, соотнесёнными с теми явлениями, условия которых они возводят в систематические, в условия природных классов.
Эта иная мера реальности, этот иной способ значимости обозначается термином регулятивный в отличие от конститутивного. Категории, основоположения суть конститутивные условия относительно так называемого многообразия созерцания, дабы оно стало предметом; подобно тому как само это многообразие есть конститутивное условие относительно так называемого единства мышления, дабы оно стало предметом. Идеи имеют регулятивное применение; они не конституируют опыт; возможность последнего от них не зависит. И потому может показаться, будто они лишь регулятивны. Но то, что обусловливает опыт, ещё недостаточно, чтобы его ограничить. Мы видели, сколь многосторонне те отношения, которые обозначают идеи, вторгаются в кажущуюся целостность опыта, чтобы в явных пробелах условий опыта раскрыть бездну интеллигибельной случайности. Если же можно показать, что идеи имеют своё происхождение не только в неизбежных иллюзиях человеческого разума, но и оказываются полезными регулятивами для процедуры мышления ради познания, то мы будем применять их лишь внешним образом, исходя из логической природы идеи, подобно тому как мы вправе были отказаться от самого имени идеи.
Теперь надлежит распознать регулятивное применение идеи вообще в логических максимах; подобно тому как её мотив обнаружился в принципе основного логического метода.
Это соображение возвращает нас к происхождению, к открытию понятий. Ведь и идеи возникли как понятия; и сам Кант в весьма многочисленных и выдающихся по важности местах указывал в этом отношении на свою связь с Платоном.