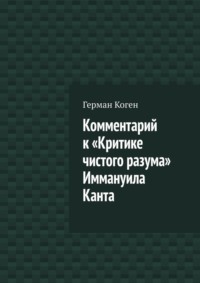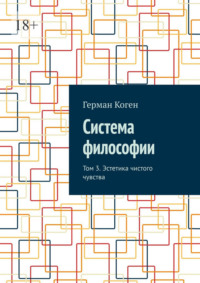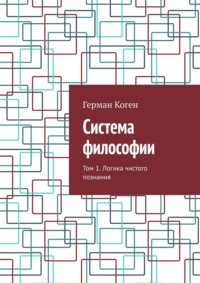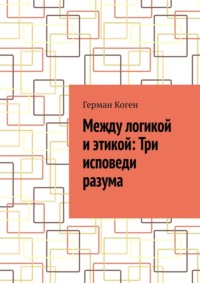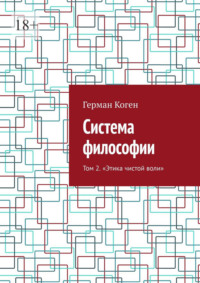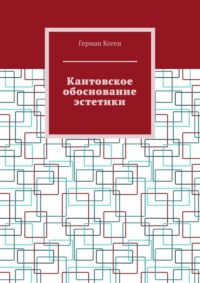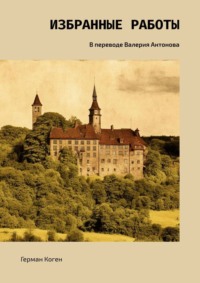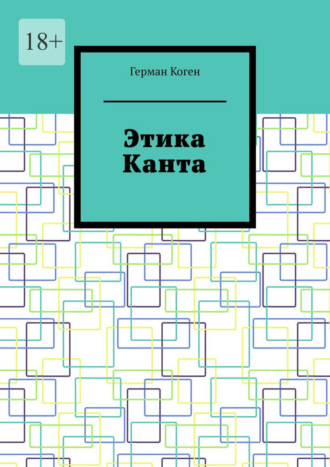
Полная версия
Этика Канта
На языке критической телеологии цель есть расширение причинности. Идея причинности называется целью. «Понятие о связях и формах природы по целям есть все же по меньшей мере еще один принцип подведения явлений под правила там, где законы причинности по одному лишь механизму их не достают» [26]. Таким образом, цель как дополнение причинности не стоит как οὗ ἕνεκα (ради чего) в противоположности принципа к διότι (потому что), но она есть продолжение, расширение принципа причинности до границы его применимости.
В этом пограничном применении телеологической причинности необходимо различать две мысли, одинаково важные: одна принадлежит сфере познания природы, другая кажется исключительно этической основополагающей идеей.
Преимущественно теоретическая мысль такова. Идея цели представляет единство не законов как таковых в качестве систематического единства, а единство особых, эмпирических законов. Эти эмпирические законы, в отличие от общих принципов, несомненно, могут быть исследованы только путем аналогии причинности. Однако мы далеки от того, чтобы успешно пройти этот путь до конца. Но не следует думать, что все другие пути исследования отрезаны. Здесь, напротив, вступает в силу определение отношения неопределенных сил, которые по аналогии причинности представляют «особую причинность [28]» – причинность целей – как единство этих неопределенных особых законов. Однако с этим связана великая опасность, которой телеология всегда угрожала каузальному исследованию природы. Цель не должна означать особую причинность в качестве причины силы, ибо сила принадлежит исключительно механике. Что же еще может означать цель, если она не может функционировать как причина, как «конечная причина»? Направлять к причинности механики, прокладывать и освобождать путь к ней – вот «особая» причинность принципа цели.
Что такое принцип отбора, как не такая мыслимая единственность особых эмпирических законов, которые обусловливают выживание одних организмов и исчезновение других? Эти особые эмпирические законы, связанные, с одной стороны, с природой организмов, а с другой – с условиями существования внешней среды, являются единственными причинами того процесса, который, подобно расточительности природы, вызывает удивление. Принцип отбора не следует понимать так, будто он означает закон природы или будто он должен заменить исследование действительных сил, особых эмпирических законов. Принцип отбора как единство этих подлинных причин, эмпирических законов, является выражением их систематического единства и как таковой – идеей цели.
Мы представляем совокупность этих эмпирических законов, действие которых заключается в сохранении одних и уничтожении других организмов, по аналогии причинного действия в форме, приспособленной к нашему логическому пониманию, мысля ту алгебраическую сумму неопределенных эмпирических законов как единство, которое избирает устойчивые звенья причинной связи для продолжения существования. Эта мысль о выборе есть форма, под которой та алгебраическая сумма эмпирических законов приспосабливается к нашему логическому способу создавать единства, формировать понятия. Таким образом, принцип отбора есть идея цели, под которой мы постигаем единство эмпирических законов, без знания которого их действия казались бы нам случайными. Исключить эту случайность там, где аналогия причинности, ограниченная методами и проблемами механики, неприменима, но в то же время в стремлении уменьшить методологическое различие проблем, не нивелируя принципиально специфическое различие между движением и жизнью, между абстракцией физико-химического тела и индивидуальностью организма, которое должно сохраняться, – такова двойная задача идеи цели. Нужно ли еще пояснять, насколько точно такое принципиальное отличие от принципа гравитации? Важна двойственность задачи: с одной стороны, необходимо непрерывно стремиться к приближению к причинности механики, то есть к разложению биологических проблем на их физико-химические основы, но в то же время должна сохраняться своеобразие жизненного единства.
Но поскольку эта идея цели есть форма, приспособленная к основной особенности нашего мышления, а именно к способу образования понятий, осуществляющемуся в трех рассмотренных поворотах, Кант называет эту целесообразность формальной в отличие от материальной, которая, без критического учета нашего логического метода, помещает цель в вещи как творческую силу, не аналогичную причинности, а равную ей, равноценную, заслуживающую даже больше характера категории.
В то же время эту формальную целесообразность можно назвать объективной, не только потому, что она, по-видимому, реализуется в объектах, но и потому, что она обозначает ценное отличие от той формальной целесообразности, которую мы описываем и восхищаемся в тех геометрических формах, которые создавались древними геометрами с таким рвением, что Кант говорит: «радость» наблюдать за ними, поскольку эти формы вовсе не были ими познаны как реальные в природных объектах или явлениях. Однако при этом априорном создании целесообразных форм нельзя игнорировать различие между такими формами внутренней мыслительной целесообразности и теми, которые предстают перед нами как эмпирические действия неизвестных законов в вещах, которые мы не можем не представлять себе как природные цели. Таким образом, выражение «объективная целесообразность» обозначает не «характер ее значимости, а лишь известную область ее применения» [29], а именно в царстве органического, возникшем по принципу чисто формальной целесообразности, в котором мы мыслим причинную связь как взаимное отношение частей и целого таким образом, что одни, как и другое, служат средством и целью. Эта взаимная значимость есть лишь выражение систематического единства сил, особых эмпирических законов, которые нам неизвестны.
Это критическая мысль, лежащая в основе идеи цели. Теперь мы рассмотрим кажущуюся исключительно этической мысль, содержащуюся в ней. Это отношение к сверхчувственному принципу. Это отношение связано с фундаментальной мыслью об интеллигибельной случайности, особой формой которой оно является.
Помимо того, что сам опыт, та связь общих законов, синтетических принципов, которую мы называем опытом, есть «нечто совершенно случайное», следует отметить как особую случайность то, что неопределимое множество особых эмпирических законов поддается систематике нашего образования понятий. Мы уже знаем, в форме какой мысли осуществляется это приспособление. Предполагаемое единство неопределимого многообразия эмпирических законов есть идея цели, формальная целесообразность, под которой мы постигаем действия этого неопределимого многообразия эмпирических законов. Но поскольку эти законы всегда должны оставаться лишь целями приближения и, следовательно, в конечном итоге все же могут казаться случайными; поскольку, далее, возможное единство этих особых законов, от которого зависит единство опыта в частности, согласно корреляции необходимости с понятием и условиями возможности опыта, также должно называться случайным, то цель, представляющая это единство, есть средство против этой случайности. Она, конечно, лишь субъективная максима, отражающая от частного к общему; она, конечно, лишь закон «геаутономии» [30] способности суждения для этой ее рефлексии; но в этой формальной ограниченности она представляет не что иное, как «закономерность случайного» [31].
Таким образом, идея цели выходит за пределы случайного, которое она должна определять по образцу закона, охватывать в систематическом единстве. А закономерность, на которую она указывает, есть то расширение отношения опыта причинности. Как только мы мыслим эту закономерность более чем формальной, мы фактически образуем «особый вид» причинности, который, кажется, не имеет ничего общего с природой, с связью опыта. Вместо вопроса «как?» и «откуда?» – что единственно позволено в пределах опыта – мы спрашиваем: «зачем?» и «куда?». В понятии целесообразности как закономерности случайного заключено отношение к ограничению всего природного обусловливания, отношение к конечной цели.
Эта конечная цель проявляется уже в теоретической телеологии организмов. Представление о творце, при сохранении ограничения формальным характером этой мысли, неизбежно, хотя критическая дисциплина должна очистить эти антропоморфизмы. Но неудержимо эта мысль проникает в этические связи царства природы с царством свободы, царства бытия и происходящего с царством долженствования и нравов.
Это регулятивное значение идеи цели составляет главную задачу обоснования этики; оно подробно займет нас в следующей части нашего исследования. Здесь же можно лишь указать на тот вид конечной цели, который мыслится в интеллигибельном субстрате материальной природы. Хотя этим пограничным понятием переступается контекст опыта, в пределах которого и его причинной связи никакая конечная цель не может утвердиться. Но замкнуто мыслимая цепь условий включает в себя такую связь с безусловным, такую связь с конечной целью, в закономерности которой вся случайность, единство особого, как и система общих законов, находит свое решение в последнем загадочном слове.
Поскольку интеллигибельный субстрат природы тождествен со всей совокупностью реальностей, с совокупностью возможного, мы тем самым в-третьих выразили тождество идеи цели с идеей Бога. Но это тождество следует понимать ограниченно; ибо так как идея цели приобретает свое выдающееся регулятивное значение в этическом, в идее свободы, то уже отсюда следует, что обе идеи пересекаются, но не полностью совпадают. Достаточно того, что теологическая идея представляет собой часть идеи цели; другой способ действия остается за последней в космологической идее свободы.
При этом ограничении мы, наконец, переходим к доказательству, что «Критика чистого разума» уже мыслила теологическую идею как идею цели; хотя основную мысль о единстве эмпирических законов, которое представляет идея цели, впервые вывела на свет «Введение к Критике способности суждения» [30].
В первую очередь следует отметить, что отношение к эмпирическому применению содержится также и в этой трансцендентальной идее. Она тоже является suppositio relativa (относительным предположением). Ведь мы должны «не выводить мировой порядок и систематическое единство мира из высшего разума, а, напротив, из идеи высшей разумной причины брать правило, согласно которому разум наилучшим образом может использовать связь причин и действий в мире для собственного удовлетворения» [31]. «Таким образом, предположение разума о высшем существе как о верховной причине есть лишь относительное, мыслимое ради систематического единства чувственно воспринимаемого мира, и есть лишь нечто в идее, о котором мы не имеем никакого понятия, каково оно само по себе» [32]. У нас не было бы «ни малейшего основания» принимать такое существо безусловно, «если бы не существовало мира, по отношению к которому это предположение только и может быть необходимым» [33]. Следовательно, разум в этом относительном предположении следует лишь своей собственной «формальной правильности»; а «высшая формальная правильность» есть целесообразность. Таким образом, идея систематического единства всех существ вообще есть идея целесообразности. И именно эта идея делает Бога «аналогом схемы».
При пересечении, которое мы только что допустили в отношении этического применения между идеей цели и идеей мира, может сложиться впечатление, что сам мир представляет собой эту телеологическую идею, и, следовательно, пантеизм мог бы заменить теизм, который и так, согласно трансцендентальному пониманию, является лишь деистическим [34]. Кант рассмотрел свой критический идеализм и с этой стороны, а также сопоставил его с самым последовательным из своих догматических оппонентов. Результатом является суждение, что Спиноза совершает ignoratio elenchi (подмену тезиса). Спинозизм «хочет указать основание объяснения целевой связи (которую он не отрицает) вещей и природы и называет лишь единство субъекта, которому они все присущи» [35]. Насколько же методологически ниже этой определяемой через дефиницию субстанции стоит регулятивное значение идеи как максимы, которой в опыте ни один объект не соответствует.
В таком систематическом расширении телеологическая идея способна защитить себя как от ignava ratio (ленивого разума), так и от perversa ratio (извращённого разума): ведь мы должны сделать систематическое единство целевой связи «совершенно всеобщим», благодаря чему только та или иная частная организация «более или менее заметно выделяется для нас». Мы не должны определять её заранее, а «в ожидании её следовать физико-механической связи по всеобщим законам» [36]. Так уже Критика чистого разума строго различает расширение систематического единства до телеологического от замены первого последним.
Характерное «как если бы», которое здесь заявляет о себе в непрерывных повторениях, принимает даже внешне приближающийся к пантеизму оборот: «вам должно быть совершенно безразлично, когда вы замечаете их» (т.е. целеподобные устройства), «говорить ли: Бог мудро так пожелал, или: природа мудро так устроила» [37]. Ведь это было бы perversa ratio, если бы я заранее предполагал этот «объект в идее» как субстанцию безусловно; тогда как это интеллигибельное нечто есть лишь идея, и поскольку она может считаться трансцендентальной, означает лишь регулятивную максиму, «что мы должны изучать природу так, как если бы…», то есть обнаруживали бы в ней целесообразность, которую мы «должны выводить из природы вещей мира согласно такой идее». «Более тонкий антропоморфизм», который Критика чистого разума допускает в этих ограничениях, Пролегомены называют «символическим»: «как относятся часы, корабль, полк к художнику, зодчему, командиру, так чувственный мир (или всё то, что составляет основу этой совокупности явлений) относится к Неизвестному» [38]. И ничуть не меньше критицизм в таком ограничении области опыта, при всём акценте на «как если бы», стремится достичь, чем: оправдать теизм в его регулятивном значении.
Таким образом, в строгом соблюдении границы телеологическая идея утверждает себя как теологическая, вопреки всяким рассуждениям некритического Просвещения: в отношении всего систематического единства как в конечном счёте случайного к интеллигибельной конечной цели. Однако для познания природы остаётся этот неразрешённый остаток. Напротив, конечная цель вновь возвышается, а вслед за ней и идея Бога в самом своеобразном поле идеи цели – в этическом. Поэтому в учении о постулатах нам предстоит дальнейшее рассмотрение этого наследия человеческого разума.
В контексте наших предыдущих рассуждений становится по крайней мере ясно следующее: теологический аспект идеи цели служит регулятивной мысли. Едва ли это можно выразить так, будто, поскольку понятие «бессознательной цели» содержит в себе при некотором размышлении явный абсурд, персонификация целевой идеи, допущение intellectus archetypus является критически обоснованной; ибо персонификация, выходя за пределы мыслимого, преодолевает характер максимы, присущий идее. Однако если рассматривать персонификацию исключительно как максиму, она проясняет и углубляет важное понимание: что механическая причинность и телеология – не взаимоисключающие понятия и не понятия, относящиеся к координированным методам; но что единственный конститутивный метод познания природы – причинность – хотя и применим в сфере опыта, однако лишь регулятивно дополняется телеологией в указанном выше смысле, в двойственности её задачи.
Этот метод является регулятивным уже потому, что он предохраняет от заблуждения случайности там, где особые эмпирические законы в рамках причинного регресса механики остаются непознаваемыми и вообще не могут стать проблемой. Таким образом, регулятивная мысль, suppositio relativa единства этих желаемых законов, иллюстрирует важное различие между двумя методами, которые иногда рассматриваются как равнозначные, иногда как подчинённые друг другу, а иногда как взаимоисключающие: intellectus archetypus учит, что не может быть бессознательной цели, как не может быть и причинности, слепо служащей целям. Поэтому лучше открыто допустить наличие сознания там, где не хватает механических причинных законов и предполагается их единство, чем искажать и делать двусмысленной синтетическую абстрактность причинности с помощью «деревянного железа» механически понятой телеологии.
Более глубокое и бесконечно плодотворное применение эта мысль – что там, где должны господствовать цели, должно господствовать и сознание – находит в этике, где идея цели достигает высшего значения в идее свободы. Однако прежде чем развернуть это расширение регулятивного значения целевой идеи, необходимо устранить препятствие, которое, казалось бы, теоретически стоит на пути любого возможного регулятивного значения идеи свободы.
***
[1] Критика чистого разума, с. 265. D 338.
[2] Ср. W. W. I, с. 513 и далее. D Мелкие сочинения по логике и метафизике, III отд., с. 106 и далее.
[3] Критика чистого разума, с. 263. D 336.
[4] Там же, с. 442. D 556.
[5] Три книги логики, с. 90.
[6] Пусть никто не вводится в заблуждение кажущимся сходством кантовского выражения: «случай, который вполне можно себе представить» (Критика, с. 442. D 556).
[7] Критика чистого разума, с. 445. D 560.
[8] Критика способности суждения, IV, с. 20, 24. D 19, 23 и далее.
[9] Критика чистого разума, с. 444. D 559.
[10] Там же, с. 458. D 576.
[11] Там же, с. 448. D 564.
[12] Там же, с. 436. D 549.
[13] Там же, с. 449. D 565.
[14] Там же, с. 451. D 566.
[15] Отношение Дарвина к Канту было научно проанализировано Августом Штадлером в его книге «Телеология Канта» (1874).
[16] Критика способности суждения, WW. IV, с. 283. D 271.
[17] Там же, с. 315. D 302.
[18] Критика чистого разума, с. 458. D 576 и далее.
[19] Там же, с. 452. D 569.
[20] Там же, с. 453. D 570.
[21] Там же, с. 463. D 582.
[22] Эту ошибку допускает Хармс в «Философии после Канта», с. 196.
[23] Там же, с. 460. D 578.
[24] Она была вновь выдвинута Пфлюгером в его «Телеологической механике», где он, игнорируя учение Канта, посчитал возможным установить своё «принцип», не понимая проблемы.
[25] Более подробные разъяснения см. в «Теории опыта Канта», 2-е изд., с. 501—527, 554—575; а также в «Логике чистого познания», с. 267—348.
[26] Критика способности суждения, WW. IV, с. 240 и далее. D 232.
[27] А. Штадлер, Телеология Канта, с. 126.
[28] Критика способности суждения, WW. IV, с. 25. D 23.
[29] Там же, с. 295. D 283.
[30] Этим различием следует дополнить литературное доказательство, приведённое А. Штадлером в «Телеологии Канта» (с. 36, 40—43) относительно тождественности обеих идей.
[31] Критика чистого разума, с. 453. D 570.
[32] Там же, с. 456 и далее. D 574.
[33] Там же, с. 460. D 579.
[34] Там же, с. 454. D 571.
[35] Критика способности суждения, WW. IV, с. 281, ср. там же, с. 339. D 269 и 324.
[36] Критика чистого разума, с. 463. D 583.
[37] Там же, с. 467. D 583.
[38] Пролегомены, WW. III, с. 132. D 129 и далее.
Пятая глава. Антиномическая видимость в идее свободы
Мы начинаем это рассмотрение с вопроса: какое отношение имеет мысль о свободе к мысли о мире? Это великолепно звучащее слово: Кант сделал свободу мировой идеей. Но это значение le ntonde не совпадает с учением об антиномиях. Как же тогда следует понимать, что свобода является одним из видов космологических мыслей, формирующих мировую идею?
Принято под свободой понимать, если не произвол, то спонтанность представления, которое, независимо от всякого механизма причинности, способно определять действия человека. Что же общего у такой спонтанности представлений с той связью мыслей, которая охватывает совокупность явлений?
Мы постигаем регулятивное значение мировой идеи, которая учит ограничивать нашу мировую систему двойными звездами; которая превращает атомную теорию в проблему учения об опыте: но какое отношение к этим космологическим мыслям имеет идея изначальной самостоятельности человеческих представлений и действий, свободной от всякой природной обусловленности?
Между тем, сама правомерность этого вопроса является первым результатом включения идеи свободы в число космологических мыслей.
Дело не в спонтанном представлении, когда речь идет о проблеме свободы – скорее, эти, казалось бы, обособленные человеческие представления принадлежат к обычному ряду природных событий; к неопределенно большой, абсолютно мыслимой тотальности вещей этого мира. Вопрос не о представлениях, а о действиях. Поэтому, подобно тому, как мировые понятия в узком смысле возникают благодаря тому, что к данному обусловленному явлений ищется безусловное – в виде границы мира или простого, – так же возникает и мысль об изначальной самодеятельности, когда обусловленные события человеческого существования ограничиваются безусловным. Тем самым утверждается, что не следует постулировать особый вид человеческих действий, например, как результат нравственных представлений; но если в качестве идеи требуется спонтанность, то она должна быть принята в ином виде, с иной точки зрения сущности.
Право и ценность этого замечания станут ясны только при изложении регулятивного использования идеи свободы: пока же достаточно видеть, что безусловное свободы принадлежит к остальным рядам, образующим космос. Однако в связи с этими выводами о безусловном при попытке расширения причинности возникает та антиномия, разрешимость которой в видимость указана в последнем замечании предыдущего абзаца.
Теперь мы представим основные моменты этой антиномии.
То, что трансцендентальные идеи суть лишь «точки зрения» и что они могут подтвердиться только в своей пригодности в качестве максим, – этот положительный результат трансцендентальной диалектики проявляется наиболее отчетливо в мировом понятии. Антиномия, в которую оно вовлекает разум, является поэтому косвенным доказательством следствий трансцендентальной эстетики, трансцендентальной идеальности явлений. Критическое решение этого космологического спора разума с его собственными принципами заключается в разрешении мирового понятия в мировую идею.
Если разум от данного обусловленного заключает через весь ряд эмпирического к безусловному, которое также должно быть дано, то он прав, если исходит из обусловленного как вещи в себе. Но тогда он должен примириться и с антитезисом, который доказывает не менее строго. Если же он, вынужденный антиномией, принимает данное обусловленное лишь как данное явление, то тем самым изменяется и значение данности в отношении безусловного. Ибо безусловное не может быть дано как явление. Как вещь в себе оно есть лишь пограничное понятие. И как пограничное понятие оно должно подтвердить себя в качестве максимы. Вывод, который разум делает для расширения своего рассудочного употребления, может поэтому означать только следующее: если обусловленное дано, то безусловное нам «задано». Трансцендентальная идея мира выражает лишь правило, что регресс в ряду условий должен осуществляться «в неопределенную даль» (in indefinitum). Хотя невозможно идти назад в бесконечность, но возможно бесконечно идти назад [1]. Возможность бесконечна.
Первые две космологические идеи, касающиеся математически безусловного и называемые «в узком смысле мировыми понятиями», устраняются антиномией. Две другие суть «трансцендентные понятия природы». Они не обязательно устраняются, поскольку динамически связанное не требует однородного. Поэтому, как часто подчеркивается в Критике чистого разума, это различение важно. Однако, поскольку эти трансцендентные понятия природы должны утверждаться как трансцендентальные идеи, необходимо по меньшей мере доказать, что они как максимы при правильном употреблении не противоречат друг другу. Следовательно, нужно показать, что антиномия в отношении них есть лишь диалектическая видимость, разрешение которой оставляет в силе как тезис, так и антитезис. Нам предстоит это продемонстрировать на третьей космологической идее.
Доказательство тезиса, что для объяснения явлений мира, помимо причинности по законам природы, необходимо также допустить причинность через свободу, состоит в том, что переход от категории к идее доказывается как неизбежный: категория требует идеи, поскольку стремится к полноте ряда «со стороны причин, происходящих друг от друга» [2]. Причинность граничит с безусловной причиной. Если понимать идею как максиму, то дело не представляет трудности; тезис тогда означает лишь, что ни одну причину нельзя считать последней, что регресс к безусловному нам задан. Однако тезис еще не знает этого разрешения антиномии; и тем не менее его доказательство верно: что закон причинности «в своей неограниченной всеобщности» противоречит самому себе. Всеобщность закона причинности ограничивается, собственно, пределами опыта.
Регулятивное использование, которое трансцендентальная идея свободы может предоставить для систематического единства эмпирического, здесь остается совершенно скрытым; поэтому антитезис опирается на подчеркивание границы. Если бы существовал такой особый вид каузальности, способный абсолютно начать ряд состояний, «то не только ряд начинается этой спонтанностью, но… сама каузальность начинается абсолютно». Но если каузальность начинается абсолютно, то она и прекращается абсолютно. Если же каузальность прекращается, то прекращается и единство опыта. «Следовательно, трансцендентальная свобода противоречит закону причинности, и такая связь…, при которой невозможно единство опыта, которая поэтому никогда не встречается ни в каком опыте, – стало быть, есть пустая мысленная вещь» [3]. «Призраку свободы» противопоставляется «путеводная нить правил».