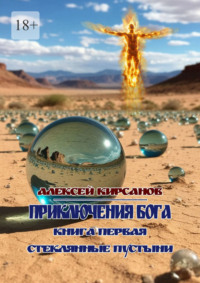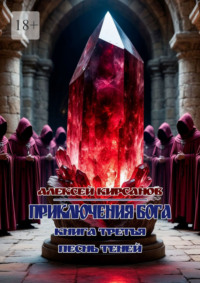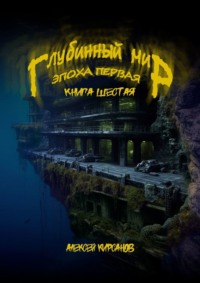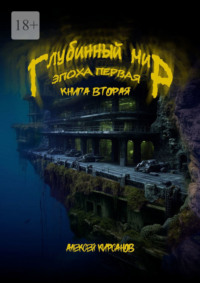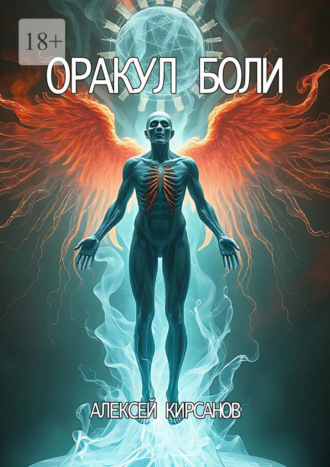
Полная версия
Оракул боли
Елена узнавала знакомый почерк – систему, которая любую критику превращала в проблему критикующего.
– А вы… вы проходили тест?
– Нет. – Андрей покачал головой. – И не пройду. Я видел слишком много, чтобы верить, что знание будущего – благо.
Это было именно то, что нужно было услышать Елене. Человек, который работал в системе, но не был ее пленником.
Дина: Цифровой Археолог
Познакомиться с Диной Елена смогла благодаря Андрею. Оказалось, что молодая биоинформатик иногда консультировала его пациентов – помогала им понять, что означают их генетические тесты, какие есть экспериментальные методы лечения.
Дина Крылова, двадцать шесть лет, кандидат биологических наук со специализацией в области медицинской статистики и анализа больших данных. Работала в небольшой независимой лаборатории, которая занималась персонализированной медициной.
Встретились они в маленьком кафе в центре города. Дина выглядела именно так, как Елена представляла себе современных биоинформатиков – худенькая, с большими очками, в джинсах и свитере, с ноутбуком, который, казалось, был приращен к ее рукам.
– Я слышала о вашем исследовании, – сказала Дина без предисловий. – Андрей рассказал. И знаете что? Я уже давно подозреваю, что с данными «Вердикта» что-то не так.
Елена наклонилась ближе.
– В каком смысле?
Дина открыла ноутбук, показала экран, заполненный таблицами и графиками.
– Я занимаюсь мета-анализом данных по нейродегенеративным заболеваниям. Собираю информацию из разных источников – исследовательских центров, клиник, статистических служб. И есть одна странность.
Она указала на один из графиков.
– Смотрите. Вот статистика развития болезни Хантингтона в разных странах за последние десять лет. В странах, где «Прогноз» не используется или используется ограниченно, кривая развития болезни стабильна. А вот здесь… – палец переместился на другую линию, – в странах с массовым внедрением «Прогноза» – скачок. Заболеваемость растет, время от диагноза до симптомов сокращается, тяжесть течения увеличивается.
Елена смотрела на цифры, и у нее перехватывало дыхание.
– Это может быть простым совпадением?
– Может. Но есть еще кое-что. – Дина переключилась на другой файл. – Я попыталась получить доступ к сырым данным «Вердикта» – тем, на основе которых строится прогноз. Официально они закрыты коммерческой тайной. Но иногда случаются утечки…
Она показала фрагменты кода и таблицы данных.
– И знаете, что я обнаружила? В алгоритмах «Прогноза» есть переменные, которые учитывают не только генетические и физиологические параметры, но и… психологический профиль пациента. Его стрессоустойчивость, социальную поддержку, даже финансовое положение.
– Это нормально для медицинского прогноза.
– Нормально. Но не нормально то, что эти переменные используются не для коррекции прогноза в лучшую сторону, а наоборот – для его ухудшения. Если пациент показывает низкую стрессоустойчивость, прогноз автоматически становится более пессимистичным. А потом этот пессимистичный прогноз сам становится источником стресса, который делает его еще более вероятным.
Елена почувствовала, как ее научная интуиция начинает складывать пазл.
– Самоисполняющееся пророчество…
– Именно. – Дина закрыла ноутбук. – Но это еще не все. Я подозреваю, что «Вердикт» знает об этом эффекте. В их внутренних документах есть упоминания о «психосоматическом факторе» и «эффекте ноцебо», но публично об этом молчат.
– Почему молчат?
Дина пожала плечами.
– Догадайтесь. «Прогноз» – это многомиллиардный бизнес. Страховые компании платят за диагностику, фармацевтические – за данные о потенциальных пациентах, правительства – за эпидемиологические прогнозы. Если выяснится, что их инструмент не просто предсказывает болезни, а ускоряет их развитие…
Она не договорила, но Елена поняла. Это был бы конец империи «Вердикт».
Союз Троих
Так сложился их неформальный союз. Врач, которая стала жертвой собственной системы. Психолог, который видел, как знание убивает души. И биоинформатик, которая понимала, как данные могут лгать.
Они начали встречаться раз в неделю, всегда в разных местах – кафе, парки, библиотеки. Обсуждали случаи, анализировали данные, строили теории. Каждый приносил кусочки мозаики.
Андрей – истории пациентов, документированные случаи конверсионных расстройств, динамику психологических изменений у «Знающих».
Дина – статистические аномалии, фрагменты кода, сравнительные данные по разным странам и регионам.
Елена – медицинскую экспертизу, понимание механизмов болезни, связи между стрессом и нейродегенерацией.
Постепенно складывалась картина, которая ужасала своей логичностью. «Прогноз» действительно предсказывал будущее – но при этом активно его формировал. Знание становилось вирусом, который заражал не только разум, но и тело.
– Нужны более убедительные доказательства, – сказала Елена на одной из встреч. – Что-то, что нельзя будет объяснить совпадением или «неправильной интерпретацией».
– Я работаю над этим, – ответила Дина. – Пытаюсь найти контрольную группу – людей с идентичными генетическими рисками, из которых одни прошли тест, а другие нет.
– А я документирую каждый случай психосоматических реакций, – добавил Андрей. – Веду подробные истории болезни, снимаю интервью с пациентами.
Елена кивнула. Но в глубине души она понимала: они играют с огнем. «Вердикт» не потерпит угрозы своей монополии на будущее. Рано или поздно их заметят.
И тогда начнется настоящая борьба.
Пока же они были просто тремя людьми, которые осмелились усомниться в истинности Оракула. Тремя союзниками в тени всемогущей корпорации, которая продавала знание как спасение, а получала контроль над жизнью и смертью.
Они еще не знали, что их подозрения – лишь верхушка айсберга. И что правда окажется еще страшнее их самых мрачных предположений.
Глава 12: Давление системы
Первые звоночки прозвенели в понедельник утром.
Елена шла по знакомому коридору клиники – белые стены, приглушенные звуки, запах антисептика, который когда-то казался ей символом порядка и контроля. Теперь он напоминал о хрупкости всего, во что она привыкла верить.
Секретарша у приемной, обычно дружелюбная Марина, избегала прямого взгляда.
– Доктор Соколова, вас просят к заведующему.
Голос был официальным. Холодным. Елена почувствовала знакомое напряжение в груди – то же, что испытывала каждое утро, просыпаясь с мыслью о своем диагнозе.
Кабинет профессора Кравцова был оазисом академической солидности: дипломы на стенах, тяжелые медицинские справочники, запах дорогой кожи от кресел. Но атмосфера была напряженной.
– Елена Михайловна, присаживайтесь. – Кравцов не поднял глаз от документов. – У нас есть вопросы по поводу ваших… исследовательских активностей.
Сердце Елены пропустило удар. Началось.
– О каких активностях речь?
– Вы запрашивали доступ к конфиденциальным данным пациентов. Проводили анализ, выходящий за рамки ваших служебных обязанностей. – Кравцов наконец посмотрел на нее. – Есть сведения, что вы собираете материал, который может… негативно отразиться на репутации «Прогноза».
Елена поняла: ее заметили. «Вердикт» знал о ее исследованиях.
– Я изучаю научные данные в рамках своей компетенции…
– Елена Михайловна. – Голос Кравцова стал жестче. – Вы получили свой собственный диагноз недавно. Понимаю, что это тяжело. Но нельзя позволять личным переживаниям влиять на профессиональную деятельность.
Удар был точным и болезненным. Ее собственная болезнь превращалась в оружие против нее – любые сомнения в системе становились симптомом.
– Я рекомендую взять отпуск. Отдохнуть. Переосмыслить приоритеты. – Кравцов сложил руки. – А ваш доступ к базам данных будет временно ограничен. До лучших времен.
Елена вышла из кабинета с ощущением, что земля уходит из-под ног. Система начала защищаться.
Информационная Машина
К вечеру того же дня Андрей прислал ей ссылки на статьи в медицинских изданиях. Заголовки били как пули:
«Опасность самодиагностики: когда врачи становятся жертвами собственных страхов»
«Психосоматические эпидемии: как паника может имитировать болезнь»
«„Прогноз“ спасает жизни: новые данные о ранней диагностике»
Статьи были написано талантливо. Ни слова прямой лжи – только мастерская манипуляция фактами. Авторы не упоминали имя Елены, но любой специалист понимал, на кого намекают. Описывались «врачи, которые после получения собственного диагноза начинают видеть мнимые осложнения у здоровых пациентов». Приводились данные о «массовых психозах» в истории медицины.
– Они работают как часы, – сказала Дина, когда они встретились в том же кафе. – Классическая схема дискредитации. Сначала ставят под сомнение твою объективность из-за личной заинтересованности, потом представляют твои данные как продукт расстройства.
Елена листала статьи, чувствуя нарастающую тошноту. Некоторые из цитируемых «экспертов» были ее бывшими коллегами. Люди, с которыми она работала годами, теперь публично объявляли ее неадекватной.
– Смотрите, что интересно, – Андрей показал на экран планшета. – Все эти публикации появились в один день. В разных изданиях, у разных авторов, но координированно. Это не спонтанная реакция научного сообщества. Это спланированная кампания.
Елена кивнула. «Вердикт» обладал огромными ресурсами – не только финансовыми, но и связями в медиа, среди редакторов медицинских журналов, в научных кругах. Корпорация, которая контролировала будущее болезней, могла легко контролировать и информацию о себе.
Живое Доказательство
Через неделю после начала информационной атаки Елена получила звонок от Андрея. Голос его дрожал:
– Нужно встретиться. Срочно. У меня плохие новости.
Они встретились в парке возле центра города. Андрей выглядел потрясенным.
– Помнишь Виктора Семенова? Пациент с прогнозом рака поджелудочной железы. Мы включили его случай в наше исследование – у него были сильнейшие депрессивные эпизоды после получения диагноза.
Елена помнила. Мужчина сорока двух лет, успешный бизнесмен. «Прогноз» предсказал ему развитие агрессивной формы рака через полтора года. Виктор впал в глубокую депрессию, начал пить, бросил работу.
– Что с ним?
– Вчера его нашли мертвым дома. Острая сердечная недостаточность. – Андрей смотрел в землю. – Понимаешь? До рака оставался больше года. А стресс убил его раньше.
Елена почувствовала ледяной холод в груди. Виктор стал живым – и мертвым – доказательством их теории. Знание о будущей болезни убило его быстрее, чем сама болезнь.
– В его медицинской карте нет упоминаний о сердечных проблемах, – продолжал Андрей. – Но последние месяцы он жил в состоянии хронического стресса. Постоянно повышенный кортизол, нарушение сна, алкоголь как попытка справиться с тревогой… – он замолчал. – Его тело не выдержало ожидания смерти.
Это была жестокая ирония: человек, которого они изучали как пример разрушительного действия «Эффекта Оракула», сам стал его жертвой. И в то же время – доказательством их правоты.
– Будет вскрытие?
– Формальное. Результат очевиден – сердечная недостаточность на фоне алкогольной кардиомиопатии. Никто не будет искать связь с прогнозом рака. – Андрей потер лицо руками. – Но мы знаем правду. Знание убило его.
Тень над Исследованием
К концу недели стало ясно, что давление усиливается. Дина сообщила, что ее попытки получить доступ к новым данным «Вердикта» блокируются – компания усилила системы безопасности. Андрей рассказал, что несколько его пациентов отказались от участия в исследовании после того, как прочитали статьи о «псевдонаучных теориях неадекватных врачей».
А Елена обнаружила, что ее собственные симптомы ухудшились. Дрожь в руках стала заметнее, иногда случались эпизоды головокружения. Было ли это прогрессированием болезни, или стресс от борьбы с системой ускорял разрушение?
Она часто ловила себя на том, что проверяет координацию движений, всматривается в зеркало, ища признаки асимметрии лица. «Эффект Оракула» пожирал ее изнутри, даже когда она изучала его механизмы.
Смерть Виктора стала переломным моментом. Они больше не могли работать в тени, собирая данные и надеясь остаться незамеченными. Система знала о них. И теперь вопрос стоял просто: успеют ли они обнародовать правду, прежде чем их окончательно заставят замолчать?
– Нужно ускориться, – сказала Елена на следующей встрече. – Собрать все, что у нас есть, и вынести на публику. Пока нас не остановили.
– Это будет самоубийство, – предупредил Андрей. – «Вердикт» разорвет нас в клочья. Ты видела, как они работают.
– Может быть. – Елена посмотрела на свои слегка дрожащие руки. – Но, если мы промолчим, мы станем соучастниками. Сколько еще Викторов должно умереть, пока мы собираем «достаточно данных»?
Дина кивнула:
– У меня есть контакты в независимых изданиях. Могу организовать утечку одновременно в несколько источников. Будет сложнее заблокировать или дискредитировать.
Решение было принято. Они объявляли войну самой мощной медицинской корпорации мира. Войну, которую могли проиграть, но которую были обязаны начать.
Потому что знание – даже о собственной обреченности – не должно становиться смертным приговором.
А каждый день промедления означал новых Викторов, умирающих не от болезни, а от ужаса перед ней.
Глава 13: Спираль саморазрушения
Смерть Виктора Семенова повисла в воздухе тяжелым, невысказанным обвинением. Она не была громкой, не попала в новости – просто еще одна статистика сердечной недостаточности. Но для Елены и ее маленькой группы это был рубеж. Точка невозврата. Они больше не наблюдали Эффект Оракула со стороны; они были погружены в него по горло, а Виктор стал его кровавой иллюстрацией. Война была объявлена, и отступать было некуда.
Но война требовала ресурсов, которых у Елены становилось все меньше. Не финансовых – хотя и это скоро станет проблемой – а внутренних. Физических.
Первые изменения были микроскопическими. Почти незаметными. Как трещинка на идеально отполированном стекле.
Она сидела за своим столом в клинике, пытаясь заполнить электронную историю болезни пациента. Обычная рутина. Но когда она потянулась за чашкой кофе, ее мизинец слегка дернулся, задев край керамики. Чашка не упала, лишь резко звякнула о блюдце. Елена замерла. Неловкость? Усталость? Или… Она пристально посмотрела на свою правую руку, лежащую на клавиатуре. Пальцы казались неподвижными. Но стоило ей расслабить кисть, как она уловила едва заметную, почти вибрационную дрожь в кончиках пальцев. Тонкую, как струна. Только в покое. Исчезала при движении.
«Ранний симптом?» – пронеслось в голове холодной иглой. Хантингтон-Плюс. Хореиформные гиперкинезы. Мелкие, неритмичные, хаотичные движения. «Или просто нервное истощение? Стресс? Эффект ноцебо в чистом виде?»
Она сжала руку в кулак, пока костяшки не побелели. Дрожь утихла. Но тень сомнения легла на сознание тяжелым саваном. Знание о болезни стало линзой, через которую она рассматривала каждое свое движение, каждый сигнал тела. Раньше легкое головокружение при резком вставании она бы списала на переутомление. Теперь она мысленно сверялась с симптоматикой Хантингтона. Неустойчивость? Нарушение координации? Она ловила себя на том, что, идя по коридору, сознательно ставила ноги чуть шире, проверяя устойчивость. Будто балансировала на канате над бездной. В отражении лифта она пристально вглядывалась в свое лицо: нет ли асимметрии? Может, уголок губ опущен чуть ниже? Может, мимика стала беднее?
Каждое утро начиналось с немого ритуала: стоя перед зеркалом в ванной, она медленно поднимала руки, вытягивала их перед собой, растопыривала пальцы, смотрела, нет ли тремора. Потом касалась пальцем кончика носа с закрытыми глазами. Проверка координации. Раньше она проделывала это с пациентами. Теперь – с собой. И каждый раз, когда движение было идеальным, на мгновение отпускало. А когда палец чуть отклонялся, или рука чуть подрагивала – ледяная волна страха накрывала с головой. «Это оно. Началось. Раньше срока».
Ее квартира, некогда образец сдержанного порядка, стала отражением ее внутреннего хаоса. Стол в кабинете, превратившийся в командный центр расследования, был завален распечатками медицинских статей, графиками, результатами их тайного анализа, листками с пометками Андрея о психосоматических случаях. Но теперь к этому добавились и ее собственные записи. Скрупулезные дневники самонаблюдения.
*«22:47. Легкое подергивание указательного пальца левой руки в покое. Длительность 3—5 сек. Исчезло при произвольном движении». *
«06:15. При пробуждении – ощущение „тумана“ в голове, длилось ок. 10 мин. Кофе не помог».
«15:30. На конференции – кратковременное головокружение при смене позы. Коллега не заметил».
Она погружалась в исследования с маниакальной интенсивностью, пытаясь найти ответ, доказательство, лазейку, хоть что-то, что разорвет петлю сомнений. Читала о нейропластичности, о влиянии хронического стресса на базальные ганглии, о ноцебо-эффектах в неврологии. Искала случаи, подобные их близнецам. Просматривала форумы «Знающих», выискивая истории о стремительном ухудшении до срока. Каждое новое подтверждение Эффекта Оракула было одновременно и облегчением («Я не сумасшедшая! Это реально!»), и ударом по ее собственному прогнозу («Это значит, это случится и со мной. Быстрее»).
Реальность отступала. Она забывала поесть. Кофе и сухие крекеры стали основным рационом. Сон превратился в редкие, урывчатые периоды забытья, прерываемые кошмарами: она видела себя такой, какой стала Анна – беспомощной, прикованной к креслу, слюна стекает по подбородку, а вокруг – равнодушные лица в белых халатах. Она просыпалась в холодном поту, сердце колотилось, дыхание сбивалось. И снова тянулась к ноутбуку, к статьям, к данным, как к спасительной соломинке.
Работа в клинике превратилась в пытку. После разговора с Кравцовым она чувствовала на себе взгляды коллег. Некоторые – откровенно сочувствующие, но настороженные. Другие – откровенно избегающие, как Марина-секретарша. Боялись ассоциации? Или уже получили «рекомендации»? Каждое ее движение, каждая мелкая ошибка (а они теперь случались – забытая подпись, заминка при ответе на вопрос) интерпретировались через призму ее диагноза. Она видела этот взгляд: «Это началось? Она уже неадекватна?» И этот взгляд подстегивал ее собственные страхи, заставлял сильнее сжимать скальпель во время редких теперь процедур, контролировать каждую мышцу.
Однажды, во время сложной люмбальной пункции, у нее вдруг резко задрожали пальцы. Не сильно, но достаточно, чтобы игла чуть качнулась. Пациент вскрикнул. Елена замерла, ледяной пот выступил на лбу. Это был не тремор покоя. Это было во время действия. Напряжение? Или… Она с нечеловеческим усилием воли стабилизировала руку, закончила процедуру безупречно. Но после, за закрытой дверью манипуляционной, ее вырвало от нервного срыва. Она стояла, опершись лбом о холодный кафель, трясясь всем телом. «Не могу. Не могу больше так. Они правы? Я теряю контроль?»
Ее собственная жизнь, ее собственное тело превращалось в главное доказательство ее теории. Она была одновременно исследователем и подопытным кроликом в эксперименте под названием «Эффект Оракула». Каждый новый симптом – реальный или мнимый – подбрасывал дрова в костер ее одержимости. Она видела, как знание калечит ее изнутри, как оно ускоряет то, что должно было случиться позже, и использовала это знание как оружие против системы, его породившей. Это была спираль саморазрушения, закручивающаяся все быстрее: страх ухудшал симптомы, симптомы усиливали страх, страх подпитывал одержимость доказательствами, а одержимость истощала тело и разум, делая его еще более уязвимым.
Вечером, сидя перед экраном, заваленная распечатками, с трясущимися от усталости и кофеина руками, она смотрела на график смертности «Знающих» по сравнению с «Незнающими». Жестокая восходящая кривая. И понимала, что ее собственная линия на этом графике уже начала свой неумолимый подъем. Время, отпущенное ей «Прогнозом», таяло не по дням, а по часам. Не только из-за болезни, но и из-за борьбы с ней. Знание пожирало ее будущее, а она, пытаясь остановить этот пожирающий механизм, бросала в его пасть куски своей жизни здесь и сейчас.
Она закрыла глаза. Запах пыли от бумаг, мерцание экрана, тиканье часов – все это казалось далеким, ненастоящим. Единственной реальностью была дрожь в кончиках пальцев и холодная, стальная решимость в глубине души. Они должны обнародовать правду. Скоро. Пока она еще могла это сделать. Пока ее руки еще могли держать доказательства, а голос – произнести обвинение. Иначе она станет просто еще одной точкой на своем же графике. Еще одной Викторией Соколовой, убитой знанием о своем будущем.
Глава 14: Потеря Опоры
Тишина в квартире стала гулкой, вязкой. Она не просто заполняла пространство – она давила, как вода на глубине. Елена сидела за своим заваленным бумагами столом, но не видела строк. Перед глазами стояла пустая вешалка в прихожей, где еще вчера висел старый потертый свитер Алексея. Его любимый. Тот, что пах кофе и его одеколоном.
Все началось с молчания. Густого, тягучего. Алексей перестал спрашивать, как ее день. Перестал делиться своими новостями из мира архитектуры, где не было места «Хантингтону-Плюс» или «Эффекту Оракула». Он смотрел на нее издалека, будто она была хрупкой вазой, покрытой трещинами, которая вот-вот рассыплется. Или заразной.
Он пытался. Поначалу. Предлагал поехать на море, «взять паузу от всего этого». Говорил: «Лена, ты зацикливаешься. Это тебя убивает быстрее любой болезни». Его слова были как попытка схватить ее за руку, когда она уже падала в пропасть. Но она не могла остановиться. Виктор Семенов, Анна в инвалидном кресле, ее собственные подрагивающие пальцы – все это кричало слишком громко. Исследования, данные, встречи с Андреем и Диной – это стало ее кислородом, ее единственным смыслом удержаться на плаву в море обреченности.
Ее одержимость была стеной. И Алексей, с его нормальной жизнью, его «Незнанием», его желанием просто жить, пока еще можно, натыкался на эту стену снова и снова. Атмосфера в квартире сгущалась, пропитываясь запахом кофе, пыли от бумаг и немым отчаянием. Он приходил домой – она сидела за экраном, бледная, с запавшими глазами. Он ложился спать – она ворочалась, бормоча во сне об алгоритмах и симптомах. Он просыпался – она уже проверяла в зеркале симметрию лица.
Последней каплей стала ночь, когда она, анализируя данные о суицидах среди «Знающих» после увольнений, разрыдалась так, что ее начало трясти. Алексей подошел, попытался обнять. Она отшатнулась, как от ожога.
«Не надо!» – вырвалось у нее резко, почти грубо. – «Я… Я не могу сейчас. Данные… Видишь, здесь корреляция между потерей работы и…»
Он отступил. Его лицо в полумраке спальни стало каменным.
«Данные, – повторил он тихо. – Всегда данные. Пациенты. Симптомы. „Вердикт“. А где мы, Лена? Где ты? Где я?»
Она не нашлась что ответить. Комок горячего стыда и бессилия застрял в горле. Он был прав. И он был чужой на этой войне, которую она вела одна.
«Я задыхаюсь здесь, – сказал он, и голос его сорвался. – Я смотрю, как ты умираешь каждый день. Заранее. И не от болезни, а от… от этого!» Он махнул рукой в сторону ее стола, заваленного доказательствами конца. «Я не могу больше быть твоим свидетелем. Или твоей медсестрой. Или… или твоей следующей статистикой в этом твоем проклятом исследовании».
Она молчала. Что можно было сказать? Просить остаться? Зачем? Чтобы он видел, как она разваливается на части? Чтобы стал свидетелем ее позора, немощи, окончательного падения? Она любила его. Именно поэтому не могла просить.
Он ушел на следующее утро. Без сцен. Тихо. Сложил вещи в один чемодан – аккуратно, будто уезжал в командировку. Она стояла в дверях кухни, сжимая в руке горячую чашку, чувствуя, как мелкая дрожь бежит по ее предплечьям. Не от болезни. От ледяного ужаса одиночества.
«Я… Я оставлю ключи под ковриком, когда найду съемное, – сказал он, не глядя ей в глаза. Его голос был ровным, пустым. – Позвони, если… если что-то случится. Серьезное».
Он открыл дверь. Пахнуло сыростью и городом. Он не обернулся. Дверь закрылась с мягким щелчком. Гулкий звук пустоты ударил ее по ушам. Она опустилась на стул, чашка выскользнула из дрожащих пальцев и разбилась о пол. Темные брызги кофе пошли по светлому ламинату, как трещины по хрупкому льду. Она не стала убирать. Просто сидела и смотрела на лужу, на осколки. Отражение в них было искаженным, разбитым. Как она сама.
Одиночество сжало горло холодным кольцом. Квартира, которая раньше была убежищем, теперь зияла пустотой. Каждый звук – скрип паркета, гул холодильника – отдавался эхом в этой пустоте, напоминая о том, что она осталась одна. Совсем одна. Перед лицом приговора, перед лицом «Вердикта», перед лицом неумолимого будущего, которое она сама изучала как патологоанатом.