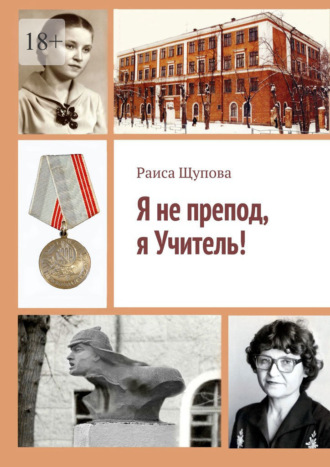
Полная версия
Я не препод, я Учитель!
Вовка ходил быстро и небрежно, я отвечала осторожно, тщательно продумывая каждый ход. Партия оказалась напряженной, и через некоторое время самоуверенность Вовки переросла в тревогу, а там и в легкий испуг. Ситуация на доске складывалась явно не в его пользу, и он отчетливо понял, что может даже проиграть. И кому? Какой-то Кнопке! Девчонке, про которую можно было сказать «от горшка два вершка». Игра его изменилась. Теперь и Вовка начал подолгу задумываться над ходами. Да и на меня он посматривал совершенно иначе. Вокруг сгрудились болельщики из всех трех классов. Партия и впрямь получилось напряженная.
Я очень стремилась выиграть, но чуда не случилось. Все-таки игроком Вовка был сильным. Однако то, что мы бились чуть ли не на равных, произвело впечатление на всех. А главным образом – на самого Вовку. Именно тогда он впервые меня и разглядел. Мы начали общаться на переменах, а на катке на зависть всем девчонкам брались за руки и катались парой. Кульминацией же стало его приглашение в кино. Да, да! Вовка Селезнев самолично пригласил меня в кинотеатр, купив билеты и мороженое. За первым приглашением последовало второе, и вот там, после киносеанса, произошло непредвиденное. До сих пор не могу это толком объяснить, но вся моя трехлетняя любовь одномоментно испарилась. Я вдруг разглядела в Вовке обыкновенного мальчишку – да, симпатичного, умного, высокого, но все же не короля и не принца. Возможно, он олицетворял для меня некий мираж или неприступную крепость. Все его любили, и я шла вместе со всеми. Но крепость неожиданно пала, мираж рассеялся – и не по чьей-то злой воле, а сам собой. Что-то произошло с моим зрением и моим сердцем. Любовь улетучилась легким облачком, и с Вовкой мы остались просто друзьями.
Глава 15 Несносный ученик
Класс, в котором я училась, идеальным, конечно же, не был. Как и сегодня девчонки объединялись в группы по интересам, завидовали, ревновали, затевали интриги. Мальчишки носились на переменах, делали пугачи и рогатки, нередко приносили их в школу, устраивали перестрелки. Разумеется, дрались-мирились, играли в чику, убегали с уроков. Однажды на уроке математики произошло ЧП. Урок вел старенький и безобидный Михаил Михайлович, и Вовка Шаповаленко, один из наиболее хулиганистых ребят, выстрелил из рогатки и попал учителю в глаз. Хорошо, не выбил, но был собран экстренный педсовет. Учителя всерьез решали, что делать с Вовкой. Поначалу хотели исключить из школы, но кто-то предложил другой вариант – а именно посадить провинившегося с самой образцовой ученицей. Если ученица не выдержит и не сумеет повлиять на Шаповаленко, тогда и бороться за него бесполезно – выгнать из школы, и все дела. В качестве образцово-показательной ученицы выбрали меня!
Теперь-то я понимаю, какой строгой «заучкой» считало меня большинство учителей, да и, наверное, сами ребята. Отличница, аккуратистка, никогда и нигде не проявлявшая порочных качеств, не умеющая ни кричать, ни ругаться. Именно таким и подбрасывай двоечников на перевоспитание! А что я могла – при своем-то ростике да в свои годы? Так или иначе, но решение педсовета повергло меня в полную растерянность. Вовка был, конечно, жуткий хулиган, но его маму я хорошо знала. Она дружила с моей мамой, и они вместе работали в котельной ТМЗ. Я знала, что отца у них убили на фронте, и что семья едва сводит концы с концами. И я решила испытание выдержать.
Легко сказать, непросто сделать! Шаповаленко явно не сознавал, чем рискует и чем это все может закончиться. Зато я отлично понимала, что, оказавшись вне школы, этот неугомонный обормот тут же покатится по наклонной плоскости. Мне, в самом деле, было жаль Вовку и его маму, и, сцепив зубы, я стоически выдерживала все его выходки. Ну, а Вовку это, похоже, только забавляло. На уроках он комментировал мое поведение, а когда я писала, подталкивал меня локтем. Стоило мне отвлечься, он тут же рисовал в моей тетради рожицы. Управы на него никакой не было. На переменах он старался вовсю – выплясывал передо мной, пел оскорбительные частушки. Но я держалась и в конце концов победила. Вовка то ли устал шалить, то ли решил, что тратить на меня свои хулиганские таланты не стоит. Он не превратился в хорошиста, но все же остепенился и, к удовольствию учителей, наконец-то закончил школу.
Уже много-много лет спустя, я узнала, что после семилетки Шаповаленко Вовка уехал учиться в военно-морское училище. Прошло более десяти лет, и, как-то шагая по улице, я вдруг услышала веселый окрик: «Да это ж Кнопка! Эй, Кнопка, стой!»
Это был все тот же Вовка Шаповаленко – только возмужавший и стократ поумневший. К слову сказать, и я уже не была Кнопкой, дотянувшись, наконец-то, до среднестатистических 158 сантиметров. С Вовкой мы дружески поболтали. Гуляя, с удовольствием вспоминали детские годы, его шалости и мое долготерпение. Мне было радостно и приятно. Прежде всего, от того, что я сознавала: мог стать Вовка никчемным хулиганом и бандитом, однако не стал. Школа не дала ему опуститься на дно, море и служба превратили в Человека.
Впоследствии от Алеши Халина, еще одного моего одноклассника, я узнала, что Шаповаленко многие годы благополучно плавал по морям-океанам в чине капитана III ранга, а позже был назначен советником аташе в Саудовской Аравии. Карьера и впрямь неплохая для балбеса, стрелявшего в учителя из рогатки! Возможно, я преувеличиваю, но в чем-то здесь была и моя заслуга.
Глава 16 Под тенью Свердлова
Скверно, когда отказываются от истории, когда произвольно меняют названия улиц и целых городов. Свердловску в этом смысле не повезло дважды, а может, и трижды, поскольку до сих пор не утихают споры, в честь какой Екатерины был назван город – Екатерины I, честно скажем, не самой выдающейся особы или святой Екатерины великомученицы. Казалось бы, все ясно – конечно же, в честь супруги Петра I. Однако, стоит взглянуть на казенные печати того времени (с непременным символическим колесом), почитать переписку Татищева и других государственных мужей, и вновь всплывают вопросы самого интересного свойства…
Но речь о другом. О том, что историю нужно беречь и ценить, какой бы горькой она не была. В этом смысле можно привести в пример многие европейские столицы, в которых намеренно сохранили старые кварталы, не застраивая их небоскребами и торговыми центрами, ничего не разрушая и не перекрашивая. На мой взгляд, здесь бессмысленны споры о том, несет ли в себе та или иная архитектура историческую ценность или не несет. У нас без того мало что сохранилось от прошлого. И сейчас я говорю не только об Екатеринбурге, но и о других городах страны. Скажем, в городе Ирбите, не так давно сам собой рухнул особняк, некогда подаренный Д. Н. Маминым-Сибиряком родной сестре. И старый Ирбит с его уникальными кирпичными кладками продолжает ветшать и разрушаться. Хотя кто знает, впусти туда юрких строителей, и разрушения исторических зданий пошло бы еще быстрее.
Вот и наш город менялся прямо на глазах. Сразу отмечу, я не против современных стадионов, парков и торговых площадок, но вот как-то у нас это идет через могильные холмики, которые надежно присыпают наше прошлое. Скоропостижно исчезают здания, вроде знаменитого дома Ипатьева, вроде взорванной телебашни – самого настоящего символа города, перекраиваются и переименовываются улицы.
Даже центр Екатеринбурга не пощадили бурные времена. А ведь тут не было ни артиллерийских боев, ни авиационных бомбежек, – все изменения произошли исключительно «мирным путем». Так до 1917 года на главной площади города (тогда она называлась Кафедральной) стоял памятник царю Александру Второму. Он располагался на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта. Но после революции чугунного императора снесли, началась скульптурная чехарда. Первым делом вместо царя на постамент водрузили уральскую статую Свободы – похожую на американскую, но крохотную и неказистую. Статуя не прижилась, и на ее место водрузили огромную голову Карла Маркса. Выглядело это пугающе – в центре площади – и огромная бородатая голова. Но юркие перестройщики на этом не унимались. Вместо Маркса на постамент водрузили монумент женщины с факелом. Монумент именовали гордо и звучно – «Свобода». Но чем-то «Свобода» руководство города тоже не устроила, и трудами Степана Эрьзи на постамент водрузили 6-метровую статую «Освобожденный труд». Возможно, автор пытался повторить знаменитого «Давида», но мраморного гиганта в народе презрительно обозвали «Голым Ванькой» и, спустя шесть лет, «Ваньку» демонтировали, утопив в одном из городских прудов. Также незадумчиво снесли и уникальный Богоявленский собор, построенный здесь в 1771—1774 годах. Место освободилось, и сразу после Великой Отечественной войны уже в 1948 году на площади воздвигли очередной шедевр – на этот раз памятник Отцу народов. Это была скульптура Сталина на фоне знамени с изображением Ильича. Этот памятник я еще застала, но привыкнуть так и не успела. На этот раз любители архитектурных перемен взялись за проект капитальной перестройки всей площади целиком. Здание Горсовета превратили в ратушу со шпилем, с часами-курантами и множественными скульптурами по периметру крыши. Напротив ратуши начали возводить памятник с фигурами Ленина и Сталина. Однако воплотить проект в жизнь не успели. Власть захватил Хрущев, и Сталина немедленно убрали. На свет появился тот памятник, что мы наблюдаем сегодня.
Можно, казалось бы, облегченно вздохнуть, да только завершилась ли череда реинкарнаций? Не уверена. Разговоры вокруг очередного возможного сноса никак не утихнут. Останавливаться, увы, никто не желает…
Разумеется, жить совсем без перемен невозможно, только вот мы, люди, сами отчего-то не меняемся. Мир воевал и воюет, и более того, некий флёр человеческих высокодуховных ориентиров, который пусть обманчиво, но все же царил в мире больше века назад, сегодня предан забвению. Кто богаче, тот и сильнее, а кто сильнее, тот и прав. И это уже не установка воровских зон, это вполне себе рабочая форма мировой политики.
Кстати, о зонах: насколько помню, в послевоенном Свердловске их располагалось не одна и не две. Где-то на окраинах сегодняшнего Уралмаша располагалась зона проживания японских военнопленных, а прямо у нас под носом, на Эльмаше (там, где сегодня трамвайное кольцо), размещались огороженные колючей проволокой бараки немецких военнопленных. В школы нас тогда родители не водили, и каждое утро нам приходилось терпеливо ждать, когда через распахнутые лагерные ворота выедет вереница грузовиков, забитых немцами, и минует улицу Баумана, на которой располагалась моя школа. Немцев тогда развозили по стройкам всего города. Двухэтажные дома барачного типа, которые до недавнего времени в изобилии водились на окраинах Свердловска, – это все дело рук военнопленных. Ну, а мы, конечно же, испытывали неудобства. Охрана с ружьями и автоматами оцепляла весь путь движения грузовиков, и до момента их прохода мы не могли добраться до родной школы.
Странное дело, мы относились к немцам без ненависти, хотя практически все потеряли в той войне кого-то из родных. Но хорошо помню наших женщин (включая мою маму), которые нередко бросали в грузовики проезжающим немцам кулечки с хлебом и вареными яйцами.
– Жалко ведь. Тоже люди, тоже голодные, – говорила моя мама.
И мы с ней не спорили. Это в наше не самое сытное время!
Особенность ли это славянского племени, не знаю. Но это было, и я это помню.
Глава 17 Я знакомлюсь с Олегом!
Год 1953 был для меня насыщенным. Я заканчивала семилетку – и довольно успешно, на одни пятерки. И в этом же году в марте к нам в класс зашла завуч и дрожащим голосом объявила, что умер Сталин.
Что мы знали о нашем тогдашнем вожде? Только то, что писали газеты, говорили взрослые, озвучивало радио. При Сталине я родилась, провела все свое детство. Это было чем-то привычным – как листва, как солнце. Если среди взрослых и бродили какие-то кухонные разговоры, то нас, детей, это, как правило, обходило стороной. Соответственно и реакция была бурной. Уроки отменили, а мы плакали прямо в классах на партах – кто навзрыд, кто попросту всхлипывая. Казалось, со смертью Сталина обрушится весь мир.
Но мир не обрушился, хотя с приходом Хрущева он и впрямь основательно перекосился и мог действительно взорваться в клочья. Но в этом же году я встретилась с Олегом, моим будущим мужем, и это изменило всю мою жизнь.
Как и я, Олег родился в августе, только на год раньше и два дня позже, а свою семилетку закончил в городе Ирбите. Отличникам тогда не нужно было сдавать экзамены, и все, что от нас требовалось, это подать в учебное заведение документы. Олег поступал в горный техникум, я – в педучилище. Таким образом, лето 1953 года стало для нас летом отдыха. В футбол почему-то тогда не очень играли, а вот лапта, чижик, волейбол были популярны. В первый же вечер своего приезда Олег вышел играть с нами в волейбол. Оказалось, играет он мастерски, и наша дворовая братия тут же приняла его в свою команду. В тот вечер играли допоздна, никак не могли разойтись. Мама трижды звала меня ужинать, но мяч и сетка были мои, а ребята все никак не унимались. В итоге остались лишь мы вдвоем – Олег и я. Думаю, Олегу понравилось, что такая «шмакодявка» способна принимать его мячи и сражалась чуть ли не на равных.
В своей школе он был самым высоким, я же по-прежнему числилась в «кнопках». Во всяком случае, тогда во дворе Олег был уверен, что играет с какой-нибудь четвероклассницей. На следующий день он так и сказал ребятам: «Вроде малышка, а играет здорово!» Тогда-то ему и объяснили, что «малышка» успела закончить седьмой класс и этим летом поступает в педучилище. Олег был так поражен, что, верно, в те дни и влюбился в меня. Увы, ответить ему тем же я тогда не могла. Мое сердце еще было занято Вовкой Селезневым. Но возможно, именно по вине Олега случилось мое прозрение. Ореол Вовки Селезнева неожиданно потускнел, и я сама удивилась, что же такого сказочного я в нем находила.
Ну, а Олег был вечно рядом. Он с удовольствием играл в любые дворовые игры, ходил вместе с нами за дровами и ягодами в лес. На Калиновских разрезах брался учить меня плавать. Я по-прежнему плюхалась по-собачьи, не решаясь отплывать далеко от берега. Но однажды Олег предложил ухватиться за его плечи и легче легкого переплыл со мною озеро. Это было здорово! Таким же образом мы вернулись обратно. В те годы культ спорта был чрезвычайно высок, и в этом смысле Олег быстро потеснил всех моих знакомых, включая и Вовку Селезнева. Он отлично бегал на лыжах и коньках, в городских соревнованиях занимал призовые места, на серьезные разряды толкал ядро, прыгал в длину и высоту, отменно рисовал. В родном городе Ирбите его юношеские рекорды по прыжкам два десятка лет висели не покоренными. И далее на протяжении всей жизни он получал грамоты и медали повсюду, где бы ни учился и ни работал.
Мы были странной парой. Он – высокий, я – маленькая. Он громкоголосый баритон, я с голоском едва слышным. Он мастер во всех видах спорта, я имела успехи лишь в одной гимнастике. Девочки на него заглядывались, а он их не видел. Пытаясь привлечь мое внимание, выбирался на подоконник барака – прямо перед моими окнами и играл на балалайке. Даже когда у нас случались ссоры, он не покидал меня, оставаясь верным рыцарем. Встречал меня из педучилища и провожал на учебу, стараясь оставаться незаметным. Когда я заходила в трамвай, выходил из укрытия и быстро садился в соседний вагон. Наверное, думал, что я его не вижу. Но я всегда знала, что он где-то рядом, а значит, можно ничего не бояться. Если что, мой верный телохранитель тут же придет на выручку. А он, проводив меня до педучилища, бегом мчался в свой техникум.
С ним было, в самом деле, надежно, а это то, о чем мечтает большинство женского племени. Сложно сказать, что нашел во мне сам Олег, но я-то была обречена на то, чтобы ответить ему взаимностью. Так оно со временем и случилось.
Глава 18 Я почти учитель!
Итак, после успешного окончания семилетки – уже в 1953 году я без экзаменов поступила в педучилище. Папа постоянно болел, последствия ранения продолжали сказываться. Надо было поскорее становиться на ноги и что-то приносить в дом. Возможно, сегодняшняя медицина сумела бы его подлечить – унять пляшущее давление, утихомирить боли в сердце. Может быть, и пулю сумели бы вытащить. Но тогда все мы были бессильны, и папа умер от кровоизлияния в мозг 11 ноября в 1955 году. Работая в цехе, упал прямо возле работающего станка. В больнице на Пионерском поселке он пролежал три дня, но так и не пришел в сознание. А было ему тогда всего 43 года. Подумать только! – сейчас, когда я пишу эти строки, я вдвое старше его! Наверное, поэтому мысленно называю его: «мой молодой папа». К сожалению, он не дождался того дня, когда я стану учителем, а для него это была бы большая радость. В день, когда у него случился гипертонический криз, к нам, не сговариваясь, приехало множество родственников из разных мест. Приехали навестить, а угодили на похороны.
Папу похоронили на Михайловском кладбище – самом старом из всех городских погостов. Никто не подгадывал, это получилось само собой: папа Михаил – и одноименное кладбище. К слову сказать, здесь же десятью годами ранее был погребен Аркадий Коц, автор знаменитого «Интернационала», а четырьмя годами после папы нашла упокоение студенческая группа Дятлова. Одно время кладбище хотели снести, но люди возроптали, и власть, слава богу, одумалась…
Между тем, учеба моя продолжалась – и продолжалась успешно, несмотря на прогнозы Беллы Рувимовны, моей учительницы из семилетней школы. Она всерьез убеждала меня не совершать ошибку:
– Рая, ну, какое педучилище! У тебя тихий голос. Ты даже кричать на учеников не сможешь. Поверь мне, школа тебя не примет.
Я не поверила и пошла по учительской тропке. И, забегая вперед, скажу, что тихого голоса мне вполне хватило на 40 лет работы в школе, а кричать на детей я даже не пыталась. В этом просто не было нужды.
Итак, я поступила в педучилище, и армия моих любимых учителей заметно подросла. Первой среди них была учительница литературы Мещерякова Валентина Васильевна. На ее уроках я испытывала самый настоящий восторг и одновременно чувствовала собственную убогость, неумение грамотно выражать мысли и чувства. И снова возникало страстное желание изменить себя к лучшему, что-то исправить, а что-то наверстать. Как блистательно она читала стихи! В ее голосе присутствовало нечто гипнотическое, уносящее в иные миры. Много раз мне казалось, что, слушая Валентину Васильевну, я вплотную приближаюсь к открытию некой заповедной тайны.
А еще был Виктор Васильевич Екенин, мой тренер по спортивной гимнастике. Но к нему я попала не сразу. Сначала была Беляева Галина Ивановна. К ней я относилась очень хорошо и по поводу своих грядущих успехов на поприще гимнастике особенно не сомневалась. Хотя, казалось бы, какая гимнастика при моем-то росточке? Я ведь и в секцию попала совершенно случайно. Увидела объявление о наборе в гимнастическую группу и тут же записалась. Рассуждала я примерно так: если в школе все получалось, почему и здесь не получится? Сейчас бы это назвали перфекционизмом, но я, в самом деле, боялась что-либо упустить. Хор, скрипка, гимнастика, изучение языков – я готова была браться буквально за все.
В памяти всплывает мое первое соревнование по гимнастике. В зале много людей. Играет музыка, я старательно и, как мне кажется, красиво выполняю вольные упражнения. Я взлетаю, мягко приземляюсь, взмахиваю крыльями-руками – я самая настоящая балерина!.. Возле ковра стоит тренер Галина Ивановна. Я угадываю ее боковым зрением, и мне воображается, что она довольна мной, что она испытывает гордость за свою талантливую ученицу. Рядом с ней ее подруга и коллега. Галина Ивановна придвигается к ней, собираясь что-то сказать. Я невольно перемещаюсь чуть ближе. Мне думается, что мой тренер скажет какие-то добрые слова, похвалит меня. И она действительно говорит, но совсем не те слова, которых я ожидала. Стараясь перекричать музыку, она говорит громко, и я все прекрасно слышу:
– Представляешь! Вот таких дистрофичек ко мне записалось несколько человек! Уже полгода с ними мучаюсь, намекаю им и так и этак, а они все не уходят из секции. Ну, скажи, какая гимнастка из нее может получиться! – и Галина Беляева, любимый мой тренер, недоуменно качает головой.
Падали ли вы когда-нибудь с небес на землю? Именно это со мной и произошло. Сказать, что это скверные ощущения, значит, ничего не сказать. Парой фраз меня вбили в землю, как потерявший управление бумажный самолетик. Даже не знаю, как я сумела дотанцевать свой номер до конца.
Трезво оценивая ту давнюю ситуацию, я не подвергаю сомнению сказанное тренером о моих спортивных способностях. Однако внутренний педагог во мне яростно протестует. Внутренняя сила, дух, настойчивость и желание подчас намного важнее природных данных. Сегодня уже никто не спорит: мотивированный ребенок способен свернуть горы. Но как же просто выбить у него из-под ног табурет, лишив желанной мотивации!
Не так давно мы даже спорили с сыном, слушая по телеканалу интервью балеруна Цискаридзе. С улыбкой и присущим ему обаянием артист рассказывал, как приходится ему порой воевать с мамочками, навязывающих своих не самых красивых и недостаточно талантливых девочек. Я-то его поддержала, а вот сын выразился кратко и сурово, сказав, что подобных педагогов на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям, что одно дело – пьедесталы-дипломы с золотыми медалями и совсем другое – изломанные детские судьбы. А последних, к сожалению, в большом спорте и на большой сцене – сотни и тысячи. Цискаридзе – один из моих кумиров, мне очень хотелось встать на его защиту, но я вспомнила те первые мои соревнования и промолчала…
Ну, а тогда, после соревнований, я жутко переживала. Оценки судей и полученный 3 юношеский разряд меня ничуть не утешали. Прокручивая случившееся в памяти, я мучилась и гадала, как же отомстить Галине Ивановне. Я ни за что не хотела бросать гимнастику! Я привыкла к тренировочному залу, обожала кольца, ковер, даже опасное «бревно», с которого мы нередко падали. И я нашла способ: назло тренеру я решила не бросать гимнастику, игнорировать любые намеки тренера и продолжать работать над собой дальше!
Все так и получилось: я упорно тренировалась, дошла до 2 взрослого разряда, а когда начали набирать команду для участия во всесоюзных соревнованиях педучилищ, сменивший Галину Ивановну тренер, Екенин Виктор Васильевич, зачислил меня в сборную. С этим тренером мы занимались в зале пединститута, и о нем я готова говорить часами. Как он был внимателен к нам! Как радовался нашим малейшим успехам! Как деликатно делал замечания и давал советы. Теперь и вспомнить страшно, сколько же он тратил на нас сил и времени! Будучи настоящим подвижником спорта, он не забывал, что перед ним маленькие личности, с которыми нужно уметь дружить и разговаривать. Мы его просто обожали и, слушая его наставления, преисполнялись уверенности в себе – отважно прыгали и кувыркались на бревне, совершали опасные кульбиты. Задним числом, вспоминая те уроки, я понимаю, что не я одна, благодаря Виктору Васильевичу, распрощалась со своими комплексами. Гимнастика стала для нас не способом завоевывать места и медали, а неким мироощущением, в котором мы обретали себя и закаляли внутренние силы.
В городе Калинине на всесоюзных соревнованиях мы выступили очень даже неплохо: две девочки из нашей команды заняли призовые места, а мы с Ниной Олениной – 7 место. Седьмое место – далеко не первое, но никакого траура не было. Мы выступили – и даже вошли в десятку лучших! – о чем еще можно было мечтать? Виктор Васильевич Екенин выглядел настоящим победителем, да и мы чувствовали себя таковыми. Но соревнованиями в Калинине дело не закончилось, самую успешную из наших гимнасток отправили в Ленинград на очередные состязания, а нас с Ниной Олениной Виктор Васильевич благословил в поездку не менее ответственную.
В то время (июль 1957 г.) в столице СССР шла полным ходом подготовка к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Одно из ярчайших событий тогдашней Оттепели собирались преподнести миру со всей пышностью. К приезду гостей – а их насчитывалось более 30 тысяч из 131 страны – в столице перестраивали улицы, разбивали парки, открывали фонтаны, новые магазины, обновляли фасады зданий. Ну, а по Красной площади должны были торжественным маршем проследовать колонны спортсменов. В сегодняшней хронике можно в подробностях рассмотреть те парады – с гимнастами, акробатами, гиревиками, с множеством знамен и транспарантов. В таком вот мероприятии мы с Ниной и должны были поучаствовать. Но… Глупые девчонки не оценили выпавшего на их долю счастья
Как некогда после переезда из Верхней Вязовки меня потряс город Свердловск, точно так же нас поразила и Москва. Сравнение вышло оглушающим, и мы оказались абсолютно неготовыми. Если в Калинине рядом с нами постоянно находился любимый тренер, то здесь мы превратились в огромное множество винтиков (3000 гимнасток и 2000 юношей гимнастов). Совершенно по-солдатски нас выстраивали на площади, разбивая на сектора, и послушно отрабатывали упражнение с мячами и обручами. Атмосфера была строгая, веселить и ободрять нас никто не пытался. Да и гулять по городу нам не позволяли. Жить приходилось в казармах Лефортово, спали мы на двухярусных кроватях. Дисциплина была предельно жесткой, и после солнечных соревнований в Калинине мы попросту впали в уныние. Праздник вокруг так и оставался праздником «за забором», и на третий день, когда нужно было продлить наши билеты, мы по спецпропуску покинули казармы и очутились на вокзале. Судьба будто специально дразнила нас. На путях стоял готовый к отправлению поезд до Свердловска. Забыв об оставленных в казарме вещах и не сговариваясь, мы заскочили в ближайший вагон, и поезд тронулся

