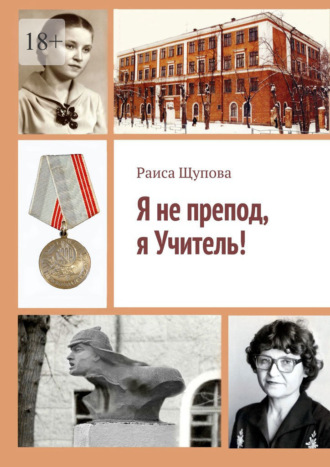
Полная версия
Я не препод, я Учитель!
У моей сверстницы, Веры, вскоре после окончания войны вернулся домой отец – так же неожиданно, как и у меня. И хотя Вера знала его по фотографиям, по рассказам матери, она никак не могла назвать его папой или отцом. Не складывался в ее головушке этот мудреный пазл! Если мама посылала её позвать отца к обеду, она выбегала на крыльцо и громко кричала: «Эй! Мама есть зовет!»
«Эй!» – такая вот замена родному имени… Подозреваю, отец Веры так и не услышал от дочери слово «папа». Такое простое и так сложно выговариваемое…
Глава 5 Мой самый обычный день
Перед глазами отчетливая картина… Я беру маленького брата к себе на колени, мы усаживаемся с ним на подоконник, смотрим в окно, как смотрят сегодня в экраны телевизоров, и ждем – мучительно долго ждем, когда придут сестра Нина и наша мама. Бесконечная вереница дней в ожидании родных людей. Сегодня мне кажется, что так проходила большая часть моего детства.
О чем я тогда размышляла? Умела ли думать вообще? Это и в наши дни большая загадка, что же творится в головах людей, а уж тем более – малышей трех и пяти лет. Да еще во время войны… Пап у нас не было, а мамам с нами разговаривать и играть было некогда. Если выпадали свободные от хозяйства минутки, то и их заполняли неотложные дела. Наверное, в городах жизнь протекала иначе, но я была типичным примером развития сельских детей 1939—40 годов.
Иногда, засыпая, я пыталась представить себе устройство мира. Вот моя деревня заканчивается, въезд в нее закрывают ворота в виде некрашеного шлагбаума. Если шлагбаум поднят, можно пройти по дороге некоторое время и зайти в другую деревню. А за ней еще деревни, города и, наконец, столица Москва. А дальше? Что расположено дальше? Наверное, конец Земли? Конец представлялся мне в виде моря, океана, который в тысячи раз больше нашей речушки Вязовки.
Воображение буксовало. Я никак не могла перескочить мысленно океан, не могла соединить его с небом. Это было какое-то отчаянное бессилие детского разума. Попытка объять необъятное…
Спустя много лет, когда я стала вести уроки астрономии, рассказывая ученикам о Вселенной, я всякий раз мысленно превращалась в ту девочку. И становилось до жути жалко, что никто до сих пор не придумал машины времени, и нельзя переместиться в те далекие дни, поведав несмышленой девочке о том, как огромен и интересен край Вселенной.
А вот еще один обычный день. Весна 1944 года, мой брат Анатолий уже вполне себе маленький человечек – ходит на своих двоих и даже разговаривает. На огороде этот человечек помогает мне пропалывать грядки. Но мы не просто занимаемся прополкой: лебеда с крапивой тоже идут в дело. Из зелени мама варит вкуснейшую похлебку. Но в этот раз мы опоздали. Всю нашу крапиву успели выкосить проворные соседи.
В семействе Колотовых четверо детей: три брата и одна девочка. Отец у них погиб на фронте, и еды им вечно не хватает. Не было у них овец и коровы, не было и бани. Моя сердобольная мама пускала их мыться в нашу собственную. Вот только мытьем дело не ограничивалось. Проворное семейство успевало не только помыться, но и неплохо поживиться на нашем огороде. Украдкой таскали картошку, морковь, репу. Ну, а по весне воровали крапиву с лебедой. Сестра Нина и я видели их в огороде неоднократно, но связываться с ними боялись, а маме ничего не говорили.
Однако в тот день я вскипела. Генка, средний брат Колотовых, ничуть нас не стесняясь, обрывал последние крапивные пучки на грядках.
– Ты что делаешь? Это наша крапива! – я шагнула вперед и сжала кулачки. Брат Анатолий отважно шагнул за мной. За отвагу мы и поплатились. Нехорошо улыбаясь, рослый Генка подскочил к нам и наотмашь стегнул крапивой по моим голым ногам.
– Вот и получай, если ваша! – он продолжал с упоением хлестать, а я стискивала зубы, чтобы не закричать, и не знала, что делать, как себя защитить. На глазах сами собой выступили слезы, а испуганный Анатолий и вовсе громко заревел.
Ну, а довольный Генка погрозил нам кулаком и неспешно удалился.
Обожженные крапивой ноги, в конце концов, зажили, но эту обиду я помнила долго. Ведь мы без того помогали Колотовым! Постоянно подкармливали, делились последним! За что же он так?..
Генку я простила только после нашего отъезда из Верхней Вязовки. Кто-то рассказал нам, что «непутевого мальчишку» столкнули с поезда, и парень убился насмерть. Ребята в те времена частенько катались на крышах вагонов. Удобно, с ветерком – и билет покупать не нужно. Но что-то на этот раз не вышло, поездка завершилась бедой…
Глава 6 О Судьбе
Жуткая пятилетняя война все-таки завершилась. А если добавить Испанию, противостояние с финнами и службу мужчин в трудовой армии, то длилась она и того дольше. Из папиной родни на фронт ушло восемь человек, вернулось пятеро. И те – раненные да контуженные. С маминой стороны ушло двое, вернулся только дядя Ефим. Арифметика, сами видите, невеселая: из десятерых уцелели шестеро. Вероятно, подобную статистику можно было отнести ко всей стране – 40% мужского населения попросту исчезло!
Ну, а мы с братом и сестрой из-за войны лишились отца на целых семь лет. Практически – все наше детство прошло в безотцовщине. Да и с мамой мы общались только урывками. Как правило – поздними вечерами. И сказок нам она почти не рассказывала, очень уж уставала. Все ее сказки достались позднее внукам, но до этого было еще, ой, как далеко.
Если всматриваться в наше генеалогическое древо, где я среди множества ветвей – всего лишь крохотный листочек, то можно отыскать и более печальные истории. Одну из них рассказывала бабушка Анна, когда мы отмечали ее официальное 100-летие.
Ее свёкор, а мой прапрадед Семен Клюкин родился в Башкирии в 1868 году при Александре II, а уже при Александре III в 1893 году его забрали в армию на 25 лет! Такие уж были законы того времени: будучи старшим братом, Семен принимал удар на себя и должен был отслужить за всех братьев разом. Хорошо, хоть отпускали в отпуск, и семья обзавелась еще тремя детьми. Спустя много лет, когда старший сын Семена, Иван, женился на моей бабушке Анне, рядового Семена Клюкина ненадолго отпустили домой – погулять на свадьбе родного сына. Свадьба, по ее словам, вышла веселая, но отпуск закончился, и вся деревня отправилась провожать Семена на станцию Злоказово. Подошел паровоз, раздался пронзительный гудок. Семен спешно начал прощаться с женой, сыном, родителями, и тут сердце у него не выдержало, остановилось. Там, на перроне, он и умер на руках у родных. А служить ему оставалось всего-то 5 лет. Пятая часть от всего срока. Как раз столько, сколько длилась наша Отечественная война. Там же в Злоказово его и похоронили. Рассказывая, бабушка Анна неизменно приговаривала:».. Конечно, сердце не выдержало, а как тут выдержать? Уже и сын женился, а ему служить и служить. Целых пять лет. Ох, и дурак был царь! Как же можно было – людям 25 лет служить? Ровно в тюрьму отправляли…» Так и осталось у не дослужившего Семена четверо детей: Иван, Мария, Василий, Матвей. Да и не детей уже, а вполне себе взрослых сельчан.
Жили бабушка Анна с Иваном дружно. В 1914 году у них родилась дочь Феня, моя мама. А через год у Фени появилась сестра Настя. В 1918 году, уже после революция, родился сын Ефим, мой дядя. Так и получалось, дети рождались, цари менялись, а мужчины вновь и вновь уходили на фронт. В том же 1918 году снова было некогда воспитывать детей. В стране бушевала гражданская война, которая и нашу крохотную деревеньку не обошла стороной. Подобно многим другим селам, все три Вязовки захватывали то белые, то красные, то зеленые, а то и вовсе непонятно кто. При этом жителей лишали последнего, а хуже того – вместе с лошадьми и коровами уводили мужиков.
Так Ивана, мужа бабушки Анны забрали с собой белые. Там он и провоевал несколько месяцев, дойдя до Сибири. Улучив момент, сбежал и вполне добровольно перешел на сторону красных. Тем не менее, вернуться домой не решился. Боялся, что донесут о службе у белых и расстреляют. Зыбкую связь с ним поддерживали через дальнего родственника Векшина Степана. От него же мы узнали, что после окончания гражданской войны Иван поселился в Свердловске, завел новую семью и вскоре дорос до директора камвольного комбината. Во время Отечественной Войны был командиром дивизии, в 1944 погиб на фронте. Самое удивительное, что бабушка Анна не осуждала Ивана. Более того – тянула суровую лямку, воспитывая троих детей, да еще и помогала престарелым родителям сбежавшего мужа. Забрав их к себе, кормила, лечила до последних дней. Никогда при этом не жаловалась, прожив долгую жизнь и умерев в 102 года. Бабушка Анна была несловоохотливой, многие тайны хранила в себе. Умела заговаривать нарывы и раны, успокаивать головную и зубную боль. Даже в самые атеистические времена продолжала молиться – незаметно и не напоказ.
В одну из вёсен по краю пошла гулять жутковатая эпидемия менингита. Смертность была высокая – особенно среди детей. Нас с Ниной болезнь обошла стороной, а братик Толя заболел. Плакал, задыхался, пылал от жара. Бабушка сходила в соседнюю деревню, привела колдунью – башкирку Катифу. В растопленной баньке Катифа провела загадочный обряд. Бормотала непонятные заклинания, заваривала в кипятке змеиную кожу, окуривала Анатолия. Мы при этом, понятно, не присутствовали, лишь изредка заглядывали в крохотное банное оконце. Когда все завершилось, бабушка расплатилась с колдуньей молоком и картошкой. А буквально на следующий день Анатолий пошел на поправку.
Глава 7 Суровые годы
Грустно, но правда: как и в других волостях, в нашем районе так же проводили свое раскулачивание. Начали с того, что арестовали всех более или менее зажиточных. Двор большой, скотины много – значит, кулак. Первыми под раздачу попало семейство Хариных. Их в деревне не особенно жалели. Были они и впрямь богатые да прижимистые, нанимали работников на поля, платили сущие грошики, никому не помогали. Но после – пошло-поехало: план есть, значит, и кулаков следовало найти. Раскулачили Родиона, родного брата деда Семена по маминой линии. А человек отслужил 4 года в армии, с началом русско-японской войны был мобилизован, участвовал в боях, был ранен, больше года маялся по лазаретам и, наконец, вернулся. Семья была большая, работать умели, завели мельницу, жили неголодно – помогали родне и нам в том числе. Но если есть мельница, стало быть – враг. Несмотря на награды и боевое прошлое, Родиона арестовали. Он отработал на холодном севере, выжил и вернулся. Но в 1936 году его снова забрали. За что – никто понятия не имел. Увезли, ничего никому не объясняя. Ни писем, ни вестей так от него не дождались, пропал человек. По слухам, умер где-то в колымских лагерях. И только спустя много лет выплыла правда. Жена Родиона как-то по пустякам поругалась с женой Плотникова. Обидевшись за жену, Плотников сочинил донос. Все у него получилось, машина репрессий работала тупо и исправно. И это ведь брали на вооружение многие! Не самая достойная часть общества – как среди крестьянства, так и среди городского населения быстро смекнула, как можно манипулировать клыкастым аппаратом государственных церберов. Всего-то и нужно было написать одно-единственное письмишко куда следует. Анонимно, ничем не рискуя. По сути дела, могучему госаппарату любой полуграмотный завистник мог дать команду «фас», и неугодные ему люди немедленно исчезали. Без кропотливого расследования, без каких-либо адекватных проверок.
Калашникова Александра Николаевича, коммуниста и ветерана, заведующего отделением почты, также приехали и забрали без каких-либо объяснений. 9 лет провел в тундре, копал землю. Сегодня говорят «отсидел», а тогда не сидели – работали да еще как! Потому и возвращались усохшие да больные. Если, конечно, возвращались. А Александр Николаевич вернулся. И только здесь двоюродный брат Яша покаялся, что это он настучал на брата.
Но мало было вернуться. Человек, побывавший «там», уже мог не рассчитывать на доброе имя. Когда пришла очередная разнарядка, Александр Калашников снова был взят под стражу и сослан на поселение в Днепропетровскую область. Что-то там, верно, затеяли строить, – вот и требовалась рабочая сила.
За анекдот, рассказанный на собрании, арестовали Крылова Никиту. У Петра Забалуева дед некогда торговал, имел свой лабаз, и это припомнили – забрали как внука кулака. Ивана Татаурова, обрусевшего австрийца, оставшегося в России после Первой мировой войны, взяли как пособника Германии (а как иначе – с австрийскими-то корнями!) Жил у нас в деревне еще один немец по имени Стефан. Бывший пленный, женившийся впоследствии на русской девушке и взявший ее фамилию. Однажды сказал неосторожно, что немецкая выделка кожи лучше, и этого оказалось достаточно. Кто-то донес, и несчастный Стефан сгинул бесследно, оставив в деревне жену и троих детей. Большинство доносчиков так и остались неизвестными, но были и такие, что ничуть не скрывали своих «возможностей». Так в деревне страшно боялись заготовителя Геннадия Гайсина. Человечек был грамотный – и умело строчил доносы на всех, кто ему не нравился. Люди об этом знали и старались с ним не связываться. Только вот именно от Гайсина зависело, как отчитается район за сдачу продуктов в казну. А нагрузка была немаленькой. Брали 150 литров молока с коровы, 10 яиц с курицы, 400 граммов шерсти с овцы. Еще и устраивали заём на 1200 рублей каждый год. Бабушка с мамой рассказывали, как однажды на собрании люди попытались отказаться от «добровольного заёма». Очень уж тяжелым выдался год. Гайсин выставил у дверей охрану, здание запер и пригрозил, что люди будут сидеть до тех пор, пока не подпишутся на взносы. Люди сидели и плакали, дети (а они там тоже присутствовали) ревели в голос. План по денежному займу, разумеется, выполнили.
Позднее маму мою, Федосью Ивановну, включили в ревизионную комиссию. Она рассказывала, как однажды проводили ревизию на складе и обнаружили нехватку картошки. Недоставало совсем немного, но это была верная статья. Тогда и впрямь сажали за пару колосков. Ну, а у кладовщицы Сухановой было четверо детей, и мама прекрасно понимала, чем все может закончиться. Проверку она отложила на следующий день и за ночь помогла соседке собрать по сусекам все, что можно. Дала своей картошки, попросила у соседей. К утру недостачу восполнили.
Много позже я пыталась разобраться с налогами, которые вынуждены были платить мои родители, но, честно скажу, быстро запуталась, поскольку число их оказалось непомерно большим: это и промысловый налог, и единый натуральный налог, денежный подворный налог, сельскохозяйственный налог, подоходно-поимущественный налог, единый общегражданский налог, военный налог и пр. А еще было индивидуальное обложение кулацких хозяйств сельскохозяйственным налогом, и тут уж – кто кулак, а кто не кулак, – решали местные царьки вроде того же Гайсина.
И напоследок еще один неласковый штрих, касающийся моей мамы. В школу она пошла в 1921 году. Сначала училась в Леузах, потом в Мессагутово. Закончила на «отлично» 4 класса, и ее в числе лучших учениц отправили на преподавательские курсы. Но стукачи не дремлют. Все тот же Семен Плотников написал донос, в котором требовал, чтобы дочь белого выгнали с курсов. Мою маму из учащихся перевели в разряд вольнослушательниц и переместили на последнюю парту. Так тогда боролись в стране с врагами народа. Однако и там она училась отменно, даже «подтягивала» неуспевающих. Правда, зимой, в самые холодные дни, сама попадала в число отстающих, поскольку пропускала уроки. Ей просто не в чем было ходить в школу, – ни пальто, ни валенок. Поэтому старалась учиться дома (хотя и не было тогда сегодняшнего дистанта), а после активно нагоняла. Мама рассказывала, что учителя ее любили, оценок не занижали, а пропуски прощали. Тем не менее, проучилась она недолго, дома требовались рабочие руки. В пионерах тоже не побывала. С одной стороны висело клеймо «дочери белого», с другой возражала набожная бабушка Наталья. То же самое ощутили на себе сестра Настя и брат Ефим. Последнему, как сыну «белого», не дали учиться в горном техникуме в Миасе. Словом, приходилось непросто, однако мама все же закончила курсы редакторов в Кигах, выпускала газеты. Работала продавцом, комендантом, кладовщицей, оператором ТЭЦ – и работала практически до последних лет, пока не подступили вплотную болезни…
Глава 8 Мои первые школьные годы
На дворе 1946 год, и мне исполнилось 7 лет! Я иду в школу – самую что ни на есть настоящую! Наверное, сегодня многих удивит, но первая моя школа представляла собой обыкновенную избу, и в моем первом классе за столом сидело всего пять человек, включая меня. Ну, а наш учитель был моим родным дядей Колей – тем самым, что верхом на коне принес в деревню долгожданную весть. Среди наших сельчан он был самым грамотным, поскольку успел до войны закончить 10 классов, честно воевал и остался жив. Сегодня школы кругом безжалостно сокращают, сливая в нечто огромное и дешевое, ну, а в то тяжелое время, как ни удивительно, образованию давали шанс даже в таких крохотных поселениях, как наше.
Как бы то ни было, к школе мы готовились крайне ответственно. Благо и советник у нас имелся – старшая сестра Нина. Мама сшила мешок для моей главной реликвии – букваря, купила две тетради – по чистописанию и арифметике. Заготовили мы и чернила: черные – из воды и сажи, коричневые – из вареной коры вяза и дуба, красные – из свеклы. Чернила разлили по бутылочкам – для Нины и для меня. А еще ей и мне вручили по новенькому карандашу.
Старшая сестра занималась у Кирилла Алексеевича, я – у дяди Коли. Отлично помню свой первый восторг: с каким упоением я выводила на чистых пахучих страничках тетради палочки и кружочки. Одну строку – черными чернилами, следующую – красными. Когда дошли до букв и цифр, стало еще интереснее. Любимой моей цифрой была пятерка. Нравилось и выводить ее, и получать. Я и про свой день рождения – 5 августа думала, что это неспроста. В какой день родишься, таким тебе и суждено прожить потом всю жизнь. Смешно, но если мне ставили четверку, я испытывала отчаяние. Казалось, вся тетрадная страница испорчена. И как жаль, что тетради были такие тоненькие, а домашние задания такими небольшими. Мне хотелось писать и писать! Спасибо маме, она находила для меня старые ведомости и газеты, разрешала писать прямо на них.
В школе дяди Коли я стеснялась, да и дома отношение к нему у меня переменилось. Я уже не воспринимала его как родного дядю. Он стал для меня Учителем – существом более высокого порядка! Наверное, тогда во мне и зародилось жгучее желание – стать педагогом. Разве не здорово – дарить детям радость первооткрытия, как это получалось у дяди Коли!
Неудивительно, что с тех пор любимой моей игрой стала «игра в школу». Я буквально умоляла своих подруг и знакомых малышей присесть за воображаемые «парты», раздавала бумажки, и мы дружно выписывали все те же кружочки, палочки, буквы с цифрами. Я помогала им, поправляла руку, а после с упоением ставила пятерки – всегда одни только пятерки! Не знаю, каково приходилось моим спутникам по детским играм, но я в те минуты ощущала подлинное счастье! Да и ученики моей тогдашней «школы» недовольства не высказывали – «уроков» не прогуливали, с «учителем» не пререкались.
Нередко, вспоминая свое детство, ученые, художники и писатели рассказывают, как много они читали. Я в этом смысле опоздала – и опоздала весьма основательно. Книг у нас попросту не было. Была одна старенькая по бухучету, но в ней я писала исключительно палочки-кружочки. Чтение открылось для меня много позже, а тогда моим любимым занятием была работа по дому. Да, да! Можно смеяться, но я действительно любила наводить чистоту – без конца протирала тряпками столы и полки, занималась мытьем посуды и полов. На этом однажды и погорела. А правильнее сказать – прокололась. Отмывая пол, умудрилась наступить пяткой на случайный гвоздь. Но гвоздь там или не гвоздь, – учеба прежде всего! Отчаянно прихрамывая, я добрела до школы, а там потеряла сознание от потери крови. Пришлось дяде Коле делать мне перевязку и нести домой на руках. С учебой в тот день у меня не вышло…
Глава 9 Мы переезжаем в Свердловск!
Пролетели три мирных года, но и в 1948 году наш папа продолжал работать в Трудовой армии, в далеком Свердловске. Работал он на ТМЗ, что расшифровывалось как турбомоторный завод. Завод этот только-только построили, и рабочая сила там была в дефиците. Дисциплина в трудоармии соблюдалась суровая, и отец даже не имел возможности навещать нас. Всякий раз, выбираясь к нему, мама вынуждена была оформлять пропуск. К папе в город она отвозила картошку, обратно везла что-нибудь полезное – нитки, иглы, ткань. Однажды накупила целый чемодан ситца, а на станции Злоказово его и украли. Но пережили, воровство тогда было делом повсеместным.
И вот в один прекрасный день нашему разобщению с отцом пришел конец. Маме дали долгожданное разрешение на переезд к мужу в Свердловск. Мы были в восторге и тревоге. С одной стороны ехать к папе – это чудо, с другой – страшновато покидать родную деревню. Но если решили, значит – решили. Мы спешно собрались, благо вещей было немного. Все накопленные непосильным трудом богатства запросто уместились в один сундук и пару холщевых мешков.
Сегодня, чтобы добраться на машине из Екатеринбурга до моей родной Верхней Вязовки, понадобится 4 часа. Тогда же это вылилось в самое настоящее путешествие! Сколько потрясений мы испытали, сколько открытий сделали! Наверное, не меньше, чем сделал Радищев, путешествуя из Петербурга в Москву, или мореплаватели, попадавшие из Европы в Америку.
Отлично помню эти дни. Была теплая осень – октябрь 1948 года. Скрипит и покачивается наша телега, справа и слева проплывают красивейшие лесные пейзажи с золотисто-багряной листвой. Над нами чистое голубое небо, всхрапывает и неспешно цокает копытами везущая нас лошадка. Бабушка Анна провожает нас, дает последние напутствия. 40 километров до станции Злоказово и впрямь превращаются в настоящее путешествие.
Время от времени мы останавливаемся вблизи воды на чудесных полянках. Мама отпускает нас побегать и размять ноги. Погода способствует доброму настроению и радостному ожиданию встреч с неизвестным.
И встречи эти застали нас врасплох. Я, конечно, знала, что на станции мы пересядем с телеги на поезд, но мы, малыши, и понятия не имели, что это такое. Слышать – слышали, но ни разу не видели! Да мы и машин никогда не видали. Как и наша бедная лошадка. Уже перед самой станцией выехавший навстречу грузовик-полуторка заставил ее шарахнуться к обочине, едва не опрокинув телегу. Кто перепугался больше – мы или лошадь, трудно было сказать, но промчавшееся мимо гудящее и рычащее чудовище произвело на нас глубокое впечатление. Еще больше меня поразил по приезду на станцию увиденный паровоз. С восхищением я наблюдала, как работает кривошипно-шатунный механизм, приводящий в движение эту громаду! А уж черный дым, густо идущий из трубы, и вовсе повергал в ужас. Поразило и то, как много вагонов подцепили к этому стальному зверю! Такой мне и запомнилась станция Злоказово.
Много позже я разузнала, что название ее вовсе не было «злым». Село основал в 1897 кусинский житель Михаил Архипов, и первоначальное название села было Архиповские Печи. В селе жили семьи углежогов, поставлявшие древесный уголь на Никольский завод. Позже, в 1903 г., поселение вместе с заводом перешло в собственность рода Злоказовых, бывших крепостных, принадлежавшим Демидовым. Они и возвели рядом с поселком железнодорожную станцию. Так и возникло название «Злоказово», и главное наше путешествие началось именно здесь. Уж не знаю, каким в точности маршрутом мы ехали, но дорога до Свердловска заняла три дня! И все три дня мы с братишкой Толей и сестрой Ниной не отходили от окна. Смотрели и смотрели на пробегающие мимо столбы, реки, мосты и дома. После крохотной Верхней Вязовки это все потрясало. Мы не видели убожества строений и послевоенной разрухи, нам не с чем было сравнивать. Для нас это был ослепительно яркий и восхитительный мир. Мы еще не ведали, что нашим потрясениям суждено продолжиться и дальше. Оказалось, даже три дня дороги мало подготовили нас к тому, что увидели мы по приезду в Свердловск. Гудение множества машин, обилие людей, звенящие трамваи, и, наконец, огромные – в 2—3 этажа дома! Это был ужас и восторг одновременно. Даже подумать было жутко, что среди всех этих чудес нам придется теперь обитать. Мы стали свердловчанами!
Глава 10 Наша новая Родина
Жильем нашего отца оказался деревянный одноэтажный барак №8 на Эльмаше по улице Новгородской. Туда мы добрались довольно быстро – на трамвае. В комнатке на 16 квадратных метров располагалась небольшая печь на пару конфорок, стояли четыре кровати и один-единственный стол. Мама ушла, наказав никуда не отлучаться. Нам показали кровать отца, и мы, трое ошарашенных детей, сели на нее, боясь пошевелиться. И ведь долго сидели! Время шло, стало темнеть, начали возвращаться с работы товарищи отца. Нашему появлению они очень удивились, а еще больше удивились, что мы сидим в темноте. Секунда, и под потолком зажглась лампа – электрическая, с нитью накаливания – чудо, которое мы видели впервые!

