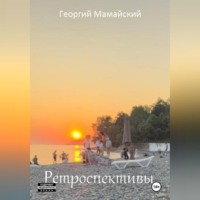Полная версия
Ретроспективы
Офицеры тоже шутят
Бытует мнение, что юмор бывает армейский. Вроде бы как одно из направлений в данном жанре. А как вам это?
Он еще может быть и офицерским. Офицеры – основа армии. Без них армии не бывать. Армейскому юмору тоже. Именно офицеры его взращивают в армейской среде, берегут и лелеют. Ревностно следят за его сохранением и преумножением. Передают его традиции «по наследству».
Байками армия живет. Если они еще и веселые, то помогают выживать в суровых армейских условиях, «нести тяготы и лишения военной службы», скрашивают будни. При этом оказывают помощь в формировании армейских коллективов, особой среды, где царит выручка и взаимопомощь. Поэтому армейская дружба особо ценится, и с годами только крепнет, как старое вино…
Байки байками, но они то возникли из реальных случаев. Со временем могут обрасти красочными дополнениями. Но реальность от этого не умаляется.
Был у нас в военном училище начальник политотдела (Начпо). Хоть и полковник, но явно с генеральскими замашками. Человек крайне властолюбивый. Особенно обожал покрасоваться «на людях». Выйдет, бывало, на трибуну перед личным составом и чувствует себя вождем. Хоть броневик ему подавай! Войдет в раж. Голос был у него завидный. Артист! Ему бы солистом в оперу. Хорошо поставленным басом начинал клеймить армейские недостатки. Нет-нет, да и ввернет какое-нибудь «лихое» словечко. Их в его арсенале присутствовало с избытком. Вот беда только, что частенько его «заносило». Не успевал себя контролировать. Язык обгонял мысли. Отчего, видимо, и пострадал в свое время на прежней более высокой должности. Поговаривали, что за это его и «попросили» к нам с понижением. Ну что ж? бывает. На то она и служба…
Так вот. Сидим как-то раз на подведении итогов боевой и политической подготовки. В актовом зале тишина. «Слышно» даже дыхание соседа. Причина? Начпо на трибуне! Все в ожидании. Сейчас что-нибудь «ляпнет». Спящих в зале нет. Народ заранее настроен… на лицах довольные ухмылки. Офицеры – особые ценители юмора старших начальников. Точнее – их просчетов. Надолго запоминаются. Передаются затем «из уст в уста».
Итак, его прямая речь: «да этот лейтенант Петров! Вечно с ним какая –ни будь ерунда происходит. То напьется в семье! С женой дерется! Дети не кормленные! Сопливые по улицам бегают, в школу не ходят! Позорище!!»
Офицеры в недоумении. Что-то происходит не то… Голос секретаря партийной комиссии, благо тишина в зале, а микрофон качественный, хотя фраза рассчитана «на ушко»: Владимир Николаевич! Лейтенант Петров у нас холостяк…
Пауза. Нависла и тянется. Ответ Начпо на заставил себя ждать: «да я к примеру!»
Зал в полном восторге! Несколько минут успокоить не вариант. Если бы сцена, то рукоплескание … жаль не в театре.
Не даром армейская поговорка гласит: замполит рот закрыл, рабочее место убрал.
Хотя многие отцы-командиры тоже не уступали замполитам в изысках.
Располагался по соседству с училищем, через забор, штаб дивизии. Как-то войска старались дислоцировать вместе, для поддержания плотного взаимодействия. Начальником штаба дивизии в то время был «незаурядный» офицер, тоже полковник. Вообще на этой категории офицеров вся армия держится. Они основа основ боевого организма. И решение могут принять, и сами его в жизнь воплотить. И руководители, и исполнители в одном лице. Эдакие генераторы учебно-воспитательного процесса. Но, именно поэтому всегда под пристальным и оценивающим взглядом подчиненных.
Этот был особый мастер на выдачу решений. Клепал их как горячие пирожки. Подчиненные не успевали их не только исполнять, но даже осмысливать. А вид то какой был бравый! Рост высокий, комплекция мощная, ноги кривые и нос огромный с горбинкой. В армейской среде к таким моментально «прилипали» на удивление точные прозвища. Этому кто-то мудрый присвоил погоняло «Баба Яга». И как прижилось! Заказывает например он машину к подъезду, ехать куда-либо, а дежурный по КПП выдает команду: «ступу Бабе Яге!». Однажды даже не выключив внутреннюю связь, получив за что от Бабы Яги взбучку, услышал видимо «сердешный»… Но знал, конечно и не обижался. Сам видимо такой… воспитанник среды.
Нас как-то юных абитуриентов, поступающих в училище, по просьбе Бабы Яги направили в штаб дивизии на помощь. Почистить старый паркет, еще царской укладки. У нас в училище это была целая традиция. Мы паркет в казармах чистили при малейшей возможности. Причем добросовестно. За это нам обещана была поддержка при поступлении. Басня конечно, но мы верили. Юные были, доверчивые. Чистили вначале стеклышками. Снимали старый слой мастики. Затем накладывали свежий. Потом его натирали. Специальными щетками. Полотеры. Трудились в поте лица, сил не жалели. Босиком. Но бывали и прорехи.
Приезжает как то Баба Яга в расположение. Заходит в казарму. Вид как всегда угрюмый. Наверное значимость показать. Ну, тут ему дежурный по роте докладывает, так мол и так, происшествий не случилось. Вдруг Баба Яга насторожился. Отодвинул дежурного рукой в сторону. Своим кривым указательным пальцем тычет через дежурного вглубь казармы с вопросом: А это что?!
Дежурный обернувшись, видит следы босых ног на «свежесмазанном» мастикой паркете. Наших ног.
«Абитуриенты!», – бодро доложил дежурный.
Баба Яга. :«Какой х…(хрен) аборигены? Следы же человечьи!».
Вот такой был этот неунывающий, в душе всегда собранный и жизнерадостный человек.
В памяти «засел» еще один эпизод. Уже во времена учебы в академии. Жизнь была относительно «голодной». Начало 90х. Все продукты по талонам.
Спиртное тоже. На талон выдавали две бутылки водки. Мы ее тогда практически не пили, обменивали на «добрые дела». Была водка тогда общепринятой валютой. С пивом было проще. Хотя одно обязательное условие здесь тоже присутствовало. Нужно было сдать тару. Использованные бутылки. Чем их больше, тем шансы выпить пиво становились выше.
Лето было жарким. Москва изнывала. Мы тоже. Да еще когда в футбол наиграешься на физподготовке. Пивка конечно хотелось. Молодые организмы. А под окнами на улице гомонила толпа таких же желающих. Стоял недалеко ларек пивной, как сейчас помню, с пивом «Тройка». Так вот. очередь за пивом в этот ларек начиналась за домом, на другой улице. Востребованность была высокой. А пива мало. Не всем хватало. Вот и шла нешуточная борьба в самой очереди за выживание, так как у многих «очередников» трубы горели в круглосуточном режиме.
Ну и что тут придумать? Выкручивались по-своему. Был у нас один Герой Советского Союза, пограничник, «афганец». Душевный и безотказный. Спокойный и уравновешенный. Хотя и авторитет непререкаемый. Тем более, что с золотой звездой на груди. Просим мы его как то, сходи, брат, за пивом, тебе ведь без очереди положено, по закону. Вопросов нет, берет он в одну руку ящик пустых бутылок, благо в шкафу их накопилось, и идет менять их на бутылки, но уже заполненные. Наблюдаем в окно картину. Проходит наш герой –пограничник вдоль всей очереди под напряженными сизыми взглядами «очередников», достигает окна выдачи, за которым застыла в напряжении разбитная буфетчица с пятым размером груди, разворачивается к ней спиной и громко говорит лицом к толпе: «Граждане! В очереди есть Дважды Герои Советского Союза?!». Тишина в сомкнутых рядах очереди. Только сизые взгляды стали еще напряжённей.
«Извините, тогда я первый…», -завершает фразу наш пограничник. Судя по ошарашенным взглядам в очереди – безоговорочной победой. Такие уж у нас законы! А их нужно соблюдать…
Принципы кадрового обеспечения
Кадры решают все! Эта фраза исторически предписывалась нескольким великим людям, в том числе Бисмарку, Ленину, Сталину. Нет смысла сегодня искать ее адресанта. Возможно и все перечисленные причастны к этому высказыванию, что говорит о ее важности и актуальности в любое время развития общества. Может быть в различной интерпретации. Раз такие столпы неоднократно касались этой проблемы. Со временем эта фраза юмористами преобразовывалась неоднократно в различные шутливые формы, как например: кадры решили – и все! Но это уже не о самих кадрах, а о кадровых органах. О тех, кто кадровые решения непосредственно оформлял и претворял в жизнь. И вот тут-то зарыта проблемка. Что это за люди? Откуда и кто они? Где их нужно брать? А кто их готовит, обучает, а главное, отбирает на эти должности, исходя из их профессиональных, моральных и деловых качеств. В недалеком прошлом это было настоящей проблемой. Ни один ВУЗ в Советском Союзе не обучал и не выпускал специалистов такого плана. Их просто набирали из «народа». Брали тех, кто не справился с избранной в институте или впоследствии полученной профессией на производстве. Утрирую, конечно. И тем не менее. Причем, часто такой «подбор» явно бросался в глаза. Ведь эти люди сами должны быть кристально чистыми и порядочными, коль вершат судьбы себе подобных, но исполнителей задумок сверху. Причем должны еще держать «язык за зубами», коль делиться секретами руководства не их прерогатива. Секреты руководства, это не твои секреты, как исполнителя. Будь ласков, не болтай о них налево и направо. Иначе у руководства из этих секретов ничего не получится. А жаль, ведь планировалось, хотелось… В конце еще заработаешь недоверие от начальства. Да, и не надо при этом быть заносчивым. Поскромнее себя вести. Раз тебе секреты доверяют. Не быть еще и чванливым. И да, не использовать еще все эти секреты в личных целях. Вот сколько набралось. И это только навскидку. Где ж таких найти особо одаренных? Уже готовых к работе. Воспитанных, скромных, не позволяющих себе вольностей. А нигде. Нет таких в природе. Человек априори грешен. Попробуй, подбери. Замучаешься. Это, примерно, как борьба с коррупцией. Нет кристально честных. Вот не бывает (мнение, впрочем, субъективное). Ну, скажем, процентов на девяносто девять. Не верите? Проверьте. Даже спорить не берусь. Все в мире относительно. Чуть не упустил самое главное. И еще принципиален. Вот – вот. А судьи кто? С этих вот принципов и начнем… Много в жизни я видел кадровиков. Сам таким специалистом трудился, карьеру с этого начинал. Еще после этого неоднократно работал начальником кадрового органа. Точнее три раза штатно, один раз не штатно. Значит могу о них рассуждать, о кадровиках. Имею моральное право. В абсолютном большинстве это были люди вменяемые, доступные, свое дело знали и выполняли его добросовестно. И опыт свой нам, начинающим, передавали достойно. Наставниками были талантливыми. Не у кого было тогда учиться кадровому делу. Речь пойдет о других. Таких меньше. Как выразился один из моих первых кадровых воспитателей, Николай Николаевич, в то время заместитель начальника главного управления кадров Министерства Обороны СССР, генерал – лейтенант: «В армии придурков немного, но они так грамотно расставлены, что ты постоянно на них натыкаешься». Вот самая то большая беда как раз в тех, которые их расставляют. Есть просто настоящие «таланты»! Стремятся сделать так, что ни в одни ворота не входит. Ни делу добро, ни человеку. И таких немало. Просто из вредности. Оценить их достаточно проблемно. Нужно быть специалистом в этой же области. Причем, не ниже того самого «мастера» по положению. Таков уж кадровый принцип. Сидит эдакий «залетевший» на кадровую работу случайно, по чьей -то ошибке, и правит судьбами нормальных людей, показывая им пример ненормальности. Сам штампует эти кадровые ошибки одну за другой. И ничегошеньки с ним не сделать. Пока гром не грянет. Средь ясного неба. «ЧП» какое – ни будь не случится. Ладно в мирной жизни. А когда война? Такие кадровые ошибки стоят жизней. В далекое советское время кадровая политика была гораздо более отточенной и отредактированной. Кадровые вопросы решались в строгом соответствии с кадровыми принципами, разработанными партией. Чтобы выдвинуть работника на ту или иную должность, его раз в четыре года аттестовали. Причем в выводе аттестации должен был присутствовать пункт о выдвижении. Затем его кандидатуру рассматривало партийное собрание, обязательно с положительным выводом – достоин. Затем выдвижение согласовывалось на всех уровнях до назначающей инстанции. Так, директором завода не мог стать работник, не прошедший должности бригадира, мастера цеха, начальника цеха, заведующего производством, заместителя директора. В армии, например, на любую генеральскую должность не мог быть назначен человек, не прошедший должности командира взвода, роты, батальона, полка. Как правило, будущих генералов вызывали на беседу в центральный комитет партии и с ними беседовал секретарь ЦК КПСС не ниже. Нельзя в таком ответственном деле было допускать кадровых промахов. Чреваты были кадровые ошибки серьезными потерями. Поэтому недопустимы. Сегодня все гораздо проще. Я б сказал, многие вопросы упрощены до предела. Но, не на пользу дела. Например, на многих предприятиях совсем отсутствует аттестационная комиссия. От слова абсолютно. Почему? А потому, что директору удобнее решать все самому, без мнения коллектива. Единовластие. Сам решил, сам уволил. А как же тогда статья 81 пункт 3 Трудового кодекса? «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, в связи с несоответствием работника занимаемой должности … по результатам аттестации». Кто посмел ее отменить? Кто дал право директору ее не использовать в соответствии с требованиями законодательства? Я в свое время, будучи неоднократно директором различных предприятий (точнее пяти), при приеме дел и должности директора выявлял факты отсутствия на предприятии такого органа. Приходилось оперативно восстанавливать подобный недочет, устранять нарушение законодательства. Ведь при наличии на предприятии аттестационной комиссии обретается дополнительный административно – воспитательный рычаг для руководителя. А у работника – дополнительная защищенность от единоличного решения кадровых вопросов на производстве, что является дополнительной социальной гарантией для сотрудников и их семей. Члены же аттестационной комиссии получают право участвовать в судьбе предприятия при принятии кадровых решений. Хотя аттестационная комиссия не является последней кадровой инстанцией в коллективе, а ее решения носят совещательно – рекомендательный характер для руководителя предприятия. По этой причине председателем аттестационной комиссии на предприятии приказом директора назначается один из его заместителей по выбору директора. И ведь это работает! Когда правильно применять. Когда все по закону. Работник предприятия периодически заслушивается составом аттестационной комиссии – коллегиальным органом по различным вопросам. Причем, не абы по каким-то, а в соответствии с ранее разработанным и утвержденным планом заседаний аттестационной комиссии на год и приложенным к нему графиком рассмотрения вопросов. Каждый сотрудник заблаговременно предупреждается под роспись о дне и месте рассмотрения секретарем аттестационной комиссии, как правило, работником кадрового органа. Каждому сотруднику вручается не позднее установленного законодательством срока выписка из плана заседания аттестационной комиссии о его персональном рассмотрении на комиссии. Все это, обеспеченное и проведенное в строгом соответствии с нормами права, несет важную смысловую нагрузку в воспитательном процессе на производстве. Сотрудник воспринимает всю процедуру абсолютно серьёзно, так как заранее неизвестны цели и исход заседания аттестационной комиссии. Работник готовится к заседанию, подбирает материал для ответов на вопросы, мобилизуется морально, чувствуя ответственность, консультируется со специалистами. В случае проведения процедуры заседания аттестационной комиссии в строгом соответствии с нормами права, даже решения судов на практике не могут изменить трактовку заключения аттестационной комиссии, что рождает дополнительные значимость и авторитет такого важного совещательного органа на предприятии, как аттестационная комиссия. Как же после всего перечисленного не пользоваться таким мощным административным рычагом? Опрометчиво, господа руководители…
История учит не только истории.
Что в истории каждого из нас может быть приятнее воспоминаний о школе? Что еще так тепло теребит душу, вызывая на лице улыбку? Что еще нагоняет в душе легкую грусть, оттого, что больше это никогда не повторится? Школьные годы. Как вы уже далеки. Из какой – то другой жизни. Да и с нами ли это было? А ведь было. И не только приятное. Бывали и разочарования, засевшие позже на всю жизнь в сознании и не дающие о себе забыть. Но, ведь школа, это не только ее здание, куда мы добросовестно ходили и дружно учились не опаздывать. И не только одноклассники, с кем тебя жизнь связала навсегда и кого ты вспоминаешь уже редко, пока не встретишь или не узнаешь о ком – то от кого – то какую – либо новость про уже начавшуюся совместную старость. Это еще и наши учителя, которых уже практически никого не осталось в живых, что вдвойне прискорбно. Вспомнилась мне эта история об одной из наших учительниц в день начала нового учебного года. Да, вчера. Первого сентября. Когда в очередной раз отправились в очередной класс уже наши внуки. Не отпускает почему – то меня эта история. Держит, хотя прошло уже немного – немало полвека. Видимо, прилично она меня тогда зацепила. А, казалось бы, выеденного яйца она не стоит. С высоты –то прожитых лет. Но, как в знаменитой кинокомедии «Кавказская пленница», оказалось просто обидно. По – детски. Психика только формировалась. Да и был я тогда еще максималистом. Еще каким. Пока армия со мной двадцать лет не поработала, не вытряхнула из меня все детские претензии, не перевела их в категорию просто досадных воспоминаний. Итак, о ней. Учительнице истории. Которая пришла к нам уже в девятом классе. В сравнительно уже сознательном нашем возрасте. Когда уже могли не только слушать и понимать, но пытались даже анализировать. И критиковать. А как же? Мы же тоже уже люди! Нас нужно уважать, как и всех других. Даже кое –кто уже тогда паспорта успел приобрести, чем были несказанно горды от обретенных прав. Гораздо позже мы выяснили, что кроме прав приобрели еще и обязанности. Но, это было уже потом. А пока, десятый класс. До выпуска из школы меньше полгода. Третья четверть, самая длинная и ответственная. Меньше всего уже хочется учиться. Весна, море и конечно – первая влюбленность. Они всегда рядом. Невозможно отделить. Как ни пытайся. Вот и меня не миновало. Попал как кур в ощип. Просто обернулся к нравившейся мне девочке на заднюю парту попросить карандаш. И тут, как гром средь ясного неба: ее окрик – встать! Выйти из класса! Придешь с отцом! Вот те на! Что за чудеса – то такие? Когда такое было, чтоб за карандаш выгоняли? Да и не пускали после этого на уроки истории целых три месяца. Пришлось вместо них в футбол гонять во дворе школы. А уроки истории вообще – то мои любимые! И предмет я знал, как никто другой в классе. Гораздо позже именно эта тяга к предмету сделала меня, уже тридцатидвухлетнего офицера, преподавателем истории военного искусства по окончании военной академии. Особенно удивил меня конец фразы – придешь с отцом… почему именно с ним? Отец наш был крайне занятым человеком, служил на высокой и ответственной должности в органах. В школу никогда не ходил. Этим благополучно занималась мама, сама педагог с более чем тридцатилетним стажем. Причем тут отец? Конечно, отца я не позвал. Уперся. Тоже есть самолюбие. Не виноват настолько же. А время то идет, часики тикают. Причина наезда выяснилась очень скоро. Как говорится, ларчик просто открывался. Мама что – то заподозрила. Появилась в школе она неожиданно, я как раз очередной мяч забивал в футбольном матче вместо урока. Вызвали меня в учительскую. А там то и засада. Стоят и воркуют. Мама с этой учительницей истории. На маме лица нет. А та, другая – просто измывается. Аж удовольствие во взгляде, восторг от своей значимости. А еще педагог! Ни стыда, ни совести. Кто ж так ее учил воспитывать? Выслушать мне в тот момент пришлось много нелестных слов о себе. А, главное, абсолютно не справедливых. На мой, конечно, взгляд, субъективный. Я ведь тогда неплохо заканчивал школу, без четверок. Отличником был. И поведение никогда не хромало. Берег, как мог, авторитет отца. Да и членом совета дружины школы состоял. Ах, да, еще и за школу выступал на городских соревнованиях по волейболу и по пулевой стрельбе, в секциях занимался. Со всех сторон был активист. И вдруг! В один момент все рухнуло? Да как так –то? А вот так! Имеет, оказывается, право обычный учитель истории поломать судьбу ученика по своему капризу. Просто так, по собственному хотению. Поставила она мне все – таки вместо отличной оценки, на которую я не только претендовал, но имел реальный багаж знаний, оценку на бал ниже. В аттестат. В первый мой образовательный документ. Где собирались стоять только пятерки. И абсолютно не за знания. Как тут не возмутиться? Как после этого верить во все святое? Юному – то дарованию? Хотите сказать – не обидно? Еще как обидно! Десять лет учиться на одни пятерки и такой финал, на самой концовке. За месяц до выпуска. А про ларчик то я не зря упомянул. Сама интрига заключалась как раз в отце. Почему его и требовали к барьеру. Ее муж, этой учительницы истории, служил, как выяснилось, в подчинении моего отца. Ну, не в непосредственном, а в прямом. И тем не менее. Имел теоретически так называемую возможность обеспечить ее мужу на работе служебную поддержку. На что он конечно же не пошел, во-первых, как офицер, во-вторых, просто как честный и принципиальный человек. Кому же такие провокации понравятся? В результате, до конца их совместной службы, моего отца и ее, учительницы, мужа, отношения между ними были достаточно натянутыми. И не удивительно. При этом, ситуацией еще воспользовалась и моя классная руководительница, объявив мне, что раз уже одна четверка у меня в аттестате по истории есть, то она мне ставит еще одну четверку – по своему предмету, по русскому языку, так как, по ее мнению, мои знания оказались между отлично и хорошо. И как же эти четверки взаимосвязаны? Цирк, да и только. Уж оценивайте мои знания по каждому предмету отдельно. Но справедливо. Чтоб обиды у молодого парня на всю жизнь не затаилось. А как иначе? Прошло уже много лет, а ведь уважения у меня к таким педагогам не прибавилось. Наверное, потому, что сам стал преподавателем. Да и книжки начал писать, вероятно, неспроста. Доказать себе самому, что могу. Да и их памяти, этих двух учителей, посвятить. Воспоминания об этом эпизоде сыграли мне не только плохую службу. Я на всю свою педагогическую жизнь зарубил себе на носу, что и как делать нельзя. Оказывается, и это бывает полезным. Пройти через обиду. Уже в том юном возрасте столкнуться с несправедливостью. Школа – это не только здание, коридоры и классы. Это еще и люди. Как водится, и хорошие, и не очень. А главное – их отношения. Именно они – то и учат. Они и воспитывают. Как на положительных примерах, так и на гадких. Все нужно пройти. Все понять. И все принять. Как должное. Но, простить ли? Впрочем, Бог простит, и я прощаю…
Командир взвода – тоже уровень
Кто знает, с чего начинается педагогический опыт? У кого-то он совпадает с началом учебы в педагогических ВУЗах. У кого – то с началом трудовой деятельности по воспитанию или обучению подрастающих поколений. У меня же он совпал с выпуском из высшего военного училища, где меня четыре года готовили в роли командира мотострелкового взвода. Кто сказал, что командир не воспитатель? Еще какой! Когда тебе Родина вручает после выпуска из училища не много не мало аж тридцать душ твоих подчиненных, которым ты становишься «отцом родным». А «отец» – то сам еще пацан, двадцати одного года отроду. Его еще самого воспитывать и обучать. И тем не менее. Взялся за гуж, не говори, что не дюж! Одна из главных позиций, усвоенных нами в училище – не дрейфь! По – суворовски, сначала нужно ввязаться в бой, а там посмотрим! Знал и умел, как выпускник училища, немало, чтобы обрести уверенность в себе перед строем желторотых курсантов, каким сам был всего четыре года назад. Почему желторотых? А назначен я был командиром взвода курсантов в свою же родную роту в свой же родной батальон, в котором сам учился. А это батальон первого курса. Который и набрали после нашего выпуска из стен родного училища, на наши места. Вот такой опыт решили провести со мной мои бывшие уже командиры – воспитатели, решив на моем примере убедиться, так ли они обучили меня и воспитали за годы учебы в «бурсе». Какой «товар выпустили на рынок»? Гож ли? Смогу ли сам повторить свой путь уже в новом качестве, в роли командира – воспитателя себе подобных? Да и не просто опыт провели, как оказалось. А еще и с глубокой педагогической задумкой. Назначили меня на должность командира самого слабого взвода по показателям в учебе, занимавшего в роте последнее место и одиннадцатое место из двенадцати возможных в батальоне. Убрав с него опытного возрастного капитана, который уже устал. Бывает и такое. Служба складывается у всех по-разному. Кому – то предначертано быть генералом. А кому – то достаточно и в военкомате осесть, «послужить» среди сейфов и картотек. И ведь много в армии таких желающих. Из категории – солдат спит, а служба идет. Бежит себе выслуга лет на пенсию. А пенсия, как известно, у военных исчисляется по выслуге лет. Набежала двадцатка и спасибо Родине! Квартирой обеспечен, под пули лезть уже не надо. Собирайся на бережок рыбалить и пузо на солнышке греть. А вместо таких, направленных в «глубокий тыл», и назначают юнцов, выпускников училищ. Опыт себя оправдывает. Сразу возрастает активность службы, показатели бьют рекорды. Так и в моем случае получилось. Мне довели задачу, я рванулся, как на пятьсот! Все как у Высоцкого. Самого аж захватило. Азарт нешуточный проснулся. Смогу ли? Не зря ли на меня сделали ставку? Не ошиблись ли с выбором? Аж интересно стало. Интрига! Да еще, как оказалось, этот самый слабый по результатам учебы взвод был собран при комплектовании нового набора в училище из так называемых «дубков». Все это по задумке нашего генерала, начальника училища, опытнейшего педагога. «Соберите в этот взвод самых слабых по школьным аттестатам и пусть они другим учиться не мешают. И поставьте на этот взвод нашего выпускника, золотого медалиста. Посмотрим, что получится. Справится ли? Узнаем, чему мы его научили» – было его решение. Любил он проводить разные опыты. Чему и нас научил, низкий ему поклон. Я, конечно, ничего об этом тогда не знал. На то он и опыт. Кто ж его раскроет раньше времени? Выйду победителем, похвалят, запишут себе в актив. Прогорю с этой затеей, будут редактировать свои педагогические планы на будущее. Без этого тоже нельзя ведь. Не интересно. Это же высшая школа. Она же всех учит. И педагогов в том числе. Потом кто – то на этом опыте напишет книжку, брошюрку, на худой конец сойдет и методичка. Все ж движение вперед. У кого – то, поговаривали, возникли сомнения. Правильно ли это, педагогично ли? Как так, слабых вместе свести? Программа обучения то одна на всех. Оказалось – можно. И ничего страшного не произошло. Кстати, история показала, что из троечников в училище частенько выходили потом неплохие командиры – руководители, некоторые из них дослужились и до генералов. Почему – то это работает. Не только знания важны. Еще и другие качества есть. Бои выигрывают характеры, а не анкетные данные. И так, прибыл я во взвод. Началось взаимное обучение и воспитание. Я учу своих подчиненных курсантов, они тут же учат меня. А как же? Процесс обоюдный. Все опыт набирают одновременно. Каждый на своем месте. Приняли меня уже ставшие моими курсанты поначалу достаточно напряженно. Молод я для них показался. Даже пытались меня «перевоспитать». Пробовали, не удалось. Здесь уже кто кого. Борьба характеров. Пришлось практически все время проводить со взводом. Кроме, конечно, сна. А спать хотелось дико. Первое время с ног валился. До дома «доползал» поздно ночью, после поверки. А утром как штык, уже на зарядке, впереди взвода на пробежке. Подтянул постепенно показатели по всем предметам. За первые полгода взвод по результатам учебы переместился на четвертое место в батальоне из двенадцати возможных. Поверили в себя мои курсанты. Откликнулись на мои потуги. По всем направлениям пошли положительные процессы. Кроме учебы удалось подтянуть и дисциплину. Стал вырисовываться коллектив как единый армейский организм, что немаловажно. Выделились лидеры, за которыми потянулись середнячки. Особенно ярко выглядело это на тактических и полевых занятиях, где нужно было проявить характер и волевые качества каждого в строю и взвода в целом. А когда взвод сдавал зачет по кроссовой подготовке, марш – бросок на три километра, весь батальон был приятно удивлен слаженности строя, финишировавшего хотя и не с первым результатом, но слитно, в ногу. А бегом это нелегко! Заместитель командира взвода еще и громко в голос вел подсчет: «Раз! Раз! Раз, два, три!». Ни один не отстал ни на шаг, не выпал из строя. Каждый ощущал плечо товарища и поддержку. Даже у командира батальона от восторга улыбка не сходила с лица при подведении итогов зачета. Хотя обычно скуп он был на похвалу, любил больше пожурить. Имели место и марш – броски с полной выкладкой, при оружии и с укомплектованной по штату амуницией. Уже на восемнадцать километров. В горы, в лагеря. По пересеченной местности. Тогда мне пришлось выручать самого физически слабого из курсантов, которому по расчету выпало нести пулемет вместо автомата. То есть ношу, тяжелее, чем у других. Приотстал боец, выдохся на излете, за несколько километров до финиша. Забрал я у него тогда пулемет, хотя и не приветствуется передача штатного оружия по уставу, но бежали ведь рядом. Притом, на бегу всячески подбадривал отстающего словами. Так и добежали с ним до конца маршрута, плечом к плечу. Не дали строю рассыпаться. Уже в казарме, после отбоя, проходя мимо расположения своего взвода, услышал его фразу: «и откуда взялся этот козел? Бежит и бежит…». Допускаю, что речь, возможно, шла обо мне. Но вмешиваться не стал. Обижаться тоже. Во – первых, мог ошибиться, что обо мне. Претензия могла выглядеть бездоказательно. Во – вторых, если даже так, то фраза скорее прозвучала иносказательно как похвала, затронув внутренние нотки самоудовлетворенности, то есть доказал все личным примером. В конце командования взводом через определенное время, примерно через полгода, когда уже перешел служить на штабную должность, был еще больше удовлетворен своей работой в должности командира взвода курсантов. Тогда взвод, мой бывший уже, но ставший мне родным, в полном составе строем прибыл в штаб, выстроился в две шеренги у двери моего служебного кабинета, чем наделал немало шума в штабе, где обычно царила деловая тишина. Меня заместитель командира взвода пригласил в коридор штаба, чему я был немало удивлен, а курсанты громко поздравили: «С днем рождения!». Как же это, оказывается, приятно! Аж оторопь взяла, даже слегка слезу выдавило. Не забыли, нашли время. Дружно, как один, никто не уклонился от поздравления. Значит, все я сделал правильно! Значит, чего – то стоил мой труд командира взвода, те бессонные ночи, нервы и борьба за результат! Значит, и опыт генерала удался! Поверь, читатель, это была наилучшая похвала. Бальзам на душу. Спасибо вам, мои дорогие воспитанники! Помню вас всех пофамильно и поименно, и вспоминаю с любовью!