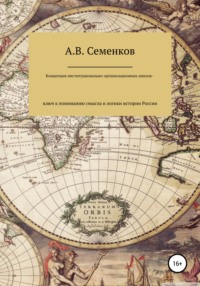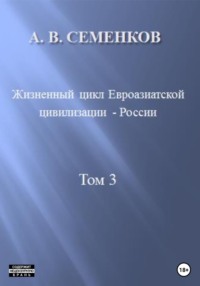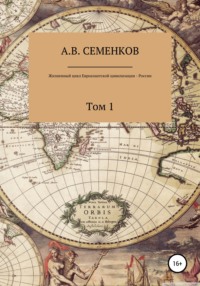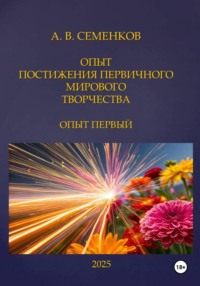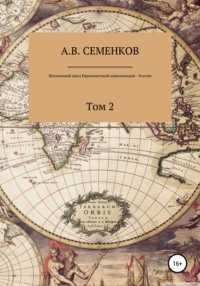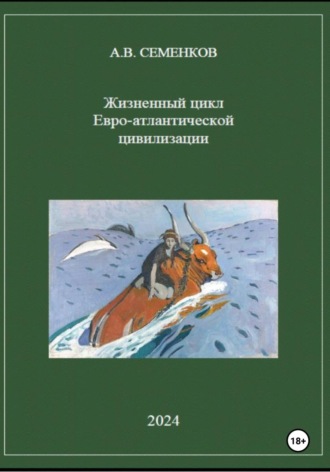
Полная версия
Жизненный цикл Евро-атлантической цивилизации
Карл Мартелл провёл широкую раздачу бенефициев. Фондом для этих пожалований служили сначала земли, конфискованные у мятежных магнатов, а когда эти земли иссякли, он провел частичную секуляризацию церковных земель, за счёт которых наделил большое число бенефициариев.
Наследниками Карла Мартелла были два его сына Карломан и Пипин. Сын Карла Мартелла Пипин Короткий при поддержке папы римского Захарии провозгласил себя королём Франкского государства, правил в 751–768 годы. Он основал новую династию – Каролингов. Вслед за этим по просьбе папы Стефана II Пипин Короткий выступил против лангобардов, принудил их признать верховную власть Франкского государства и передал города Равеннского экзархата и Римскую область папству. Возникло папское государство (патримоний св. Петра), которое, опираясь на фальсифицированный в папской канцелярии между 756 и 760 годом документ, так называемый Константинов дар, положило начало светской власти папства, сыгравшего значимую роль в политической и духовной истории Запада. Взамен папа признал за Пипином титул короля и короновал его в 754 году (в том же году, когда появилось папское государство). Так был заложен фундамент, опираясь на который каролингская монархия за полвека объединила под своим господством значительную часть христианского Запада, а затем восстановила Западную империю.
6.4. Империя Карла Великого
Наибольшей силы Франкское государство достигло при сыне Пипина Карле Великом, правил в 768–814 годы, и в период правления Людовика I Благочестивого 814–828 годы.
Во главе западного христианского мира стал человек в высшей степени способный и по-своему великий. Он сумел сохранить плоды христианской западной культуры, положив основание сильной государственной организации и тем, заслужив имя, которое дают деятелям прочной основы нового всемирно-исторического развития. Именно таким выдающимся деятелем был Карл Великий. Пипин, умирая, по старому германскому обычаю разделил свое королевство на две приблизительно равные части между двумя сыновьями. Карлу, старшему из них, было 26 лет, когда он стал править государством. Это был человек решительный, одаренный ясным умом, физически сильный, до 30 лет не знавший никаких болезней. Он был плотно и хорошо сложён, но не был человеком высоким.
На Рождество 800 года папе Льву III удалось лично короновать застигнутого врасплох Карла. Он возложил корону на Карла Великого и под восторженные крики собравшегося народа провозгласил его императором. Но всё это Карлу не очень понравилось, он почувствовал себя униженным. Тем не менее, – это создавало условия для восстановления Западно-Римской империи и укрепления власти Карла Великого над многоплемённым населением Франкского государства. Успехи первых Каролингов во многом объяснялись тем, что их выход на политическую арену совпал со временем, когда основная часть знати нуждалась в политической консолидации для подчинения своей власти свободного населения.
Карл Великий вступил на престол по наследственному праву. Он титуловался: «Я, Карл, Божьею милостью и милосердием, король и правитель королевства Франков, усердный защитник и скромный помощник святой Церкви…» Когда Папа предложил ему сан римского императора в благодарность за его действительно неоценимую помощь римскому престолу, то и это не имело характера вассальных отношений со стороны Карла35.
В своём царствовании Карл руководствовался идеалами царя – Божьего служителя. Как он сам, так и его народы смотрели на него как на всеобщего, почти всемирного охранителя правды. Он следит всюду за соблюдением её, в том числе и со стороны самой Церкви. Его «капитулярии» равномерно касаются всех ведомств, в том числе и епископов, и священников.
Во всем видна точка зрения православного царя – Божия служителя. В своих светских, гражданских делах Карл обнаруживает заботу Верховной власти о создании законности, но и тут является представителем духа своего народа, поскольку – это возможно с соблюдением Божественной правды. «Видя большие недостатки в законодательствах его народа, – рассказывает Эгингард, его биограф, – т. к. франки имеют закон двоякий (салический и рипуарский)», весьма различный во многих пунктах. Карл задумал присоединить то, чего недостает, примирить противоречащее и исправить несправедливое и устарелое». Сверх того, он «приказал собрать и изложить письменно устные законы всех народов, находившихся под его властью».
Империя Карла Великого управлялись странствующим двором, который непрестанно переезжал из одного владения в другое, а также рядом подчинённых дворов в Нейстрии, Аквитании и Ломбардии, и сетью из примерно 300 комитатов, или графств, во главе которых обычно стоял граф, или лейтенант Империи. При императорском дворе был штат клириков, первоначально во главе с архикапелланом Фульрадом, а позднее – с любимым советником императора монахом из Нортумбрии Алкуином. Часто местные епископы осуществляли надзор за графами, a missi dominici – королевские легаты – колесили по выделенным им регионам королевства. Поддержание закона и порядка и все назначения производились от имени короля. Была введена централизованная чеканка серебряной монеты из расчёта 240 динариев на фунт
Законодательная деятельность Карла совершалась при посредстве народных соборов или сеймов. В течение 43-х лет царствования, эти соборы собирались 35 раз. Быть может они были и чаще, потому, что, по свидетельству современника, «в обычае того времени было делать каждый год по два собрания». Здесь и подвергались обсуждению законы предлагаемые королем. По мнению Гизо, и сами члены собраний могли делать предложения, какие им казались полезными36.
В империи Карла Великого складывался чисто монархической строй, основанный на тесном сближении Верховной власти с национальными силами, строй, проникнутый самоуправлением, служащим основой для государственного управления.
Сто лет боролись Каролинги против распадения своей империи, но этносы, возникшие на базе широкого спектра смешений и расхождений, упорно отказывали им в покорности. При внуках Карла Великого этносы, населявшие Каролингскую империю, заставили своих государей разорвать железный обруч империи, и в битве при Фонтане в 841 году достигли своей цели: Карл Лысый и Людвиг Немецкий в 842 году в Страсбурге поклялись отстаивать разделение империи по нациям. В 843 году Каролингская империя распалась на Западно-Франкское королевство, явившееся предшественником Франции, Восточно-Франкское, положившее начало Германии, и Среднюю Францию, включающую области вдоль Рейна, Роны и Италию. Но – это было дробление в первом приближении. От королевства западных франков отделились Бретань, Аквитания и Прованс, а крошечная, в то время, Франция располагалась между Маасом и Луарой. Эта «территориальная революция» закончилась тем, что законная тевтонская династия Каролингов была свергнута в самом Париже, где в 895 году воцарился граф Эд, сын Роберта Анжуйского. Вследствие «феодальной революции», закончившейся в Х веке, Западная Европа распалась политически, но продолжала выступать как суперэтническая целостность, противопоставлявшая себя мусульманам – арабам, православным – грекам и ирландцам, а также язычникам – славянам и норманнам. Впоследствии она расширилась, поглотив путем обращения в католичество англосаксов, потом западных славян, скандинавов и венгров.
6.5. Сеньориальное (вотчинное) хозяйство
Сеньориальное (вотчинное) хозяйство – это иерархическая система землепользования и землевладения, иерархия дворохозяйств, различающихся по уровню богатства, политической власти и привилегиям.
В VIII–IX веках во франкском королевстве складывается феодальная вотчина, обрабатываемая поземельно зависимыми (колонами) или лично зависимыми (сервами) крестьянами. Частносеньориальная эксплуатация всё более вытесняет государственную. Быстрее и отчётливее, чем в других регионах, оформляются во франкском королевстве вассальные отношения и феодальная иерархия.
Процесс феодализации заметно усилился в середине VIII века, при первых Каролингах. В этот период свободные франкские общинники в большинстве своём достаточно быстро превратились в лично зависимых крестьян, прикреплённых к землям феодалов. С развитием феодальных отношений большая часть мелких аллодистов была втянута в феодальную зависимость, а их аллодиальные земли превратились в зависимые крестьянские держания. Аллоды крупных и средних землевладельцев постепенно уступали место условной феодальной собственности – бенефицию, затем феоду. Однако аллодиальная собственность в некоторой степени сохранялась в Англии, Италии, Испании, Германии (главным образом в Саксонии) и особенно в Южной Франции и Скандинавии.
Короли Каролингской династии (VIII–IX), щедро раздавали земли и иммунитеты (от латинского «immunitas» – неприкосновенность, освобождение от чего-либо), т.е. судебные и фискальные привилегии представителям церкви, монастырям, светской знати, которые освобождались от контроля королевских должностных лиц. С помощью иммунитетных пожалований под власть крупных землевладельцев передавалось часто большое число еще лично свободных крестьян.
В междуречье Сены и Соммы на основе синтеза разлагавшихся общинных и позднеантичных институтов стал складываться феодальный уклад: началось формирование крупного частносеньориального землевладения и феодальных классов (сословий). В то же время на юге Франкского государства сохранялись существенные элементы позднеантичных отношений с характерным для них большим значением эксплуатации рабов и колонов. Различия в общественном устройстве отразились и на особенностях государственных учреждений. На юге Франкского государства сохранялись поздне-римские муниципальные курии, римская налоговая, таможенная и монетная системы; основной административно-территориальной единицей оставался городской округ.
В IX веке община-марка, как основная форма организации хозяйственной деятельности франкского общества, уступила свое место феодальному, или каролингскому, поместью, а свободное крестьянство практически исчезло. Этот аграрный переворот нашёл своё отражение в многочисленных хозяйственных инструкциях, изданных в VIII–IX веках, в том числе в «Капитулярии о виллах» Карла Великого, «Политике аббата Ирминона» и других документах, где содержалось подробное описание отдельных поместий и принципов их функционирования.
Судя по «Капитулярию о виллах», в IX веке большинство крестьян в каролингском поместье составляли колоны, ещё не полностью зависимые от феодалов. Но они, имея ограниченные права в распоряжении наделом, уже не могли свободно уйти в другое поместье. В основном это были потомки свободных крестьян галло-римского происхождения. Крестьяне, не имевшие наделов, назывались провендариями и находились на положении дворовых людей. Близкими по положению к провендариям были рабы-сервы. Они полностью зависели от феодала, их можно было купить и продать. Чаще всего в эту категорию попадали потомки зависимых людей позднеримского и меровингского времени. В поместьях имелись также литы, которые занимали промежуточное положение между колонами и сервами. Как правило, они находились под патронатом светских или духовных феодалов и имели надел в наследуемом пользовании. Но постепенно различия между разными категориями крестьян сглаживались, все они становились полностью зависимыми от светских и духовных феодалов.
При Каролингах в основном завершился процесс превращения свободных крестьян из собственников в держателей земельных участков. Происходило это чаще всего через систему прекариев, когда крестьяне вынужденно шли на постепенную утрату личной свободы. Ещё в 847 году король Карл Лысый, внук Карла Великого, издал «Мерсенский капитулярий», по которому каждый свободный крестьянин должен был найти себе сеньора.
Все земельные угодья феодальных поместий делились на две части: господскую (домен) и надельную, находившуюся лишь в крестьянском пользовании (держании). Господскую землю обрабатывали крепостные крестьяне, в основном своими орудиями труда. Хозяйственные угодья включались в принудительный севооборот, сохранялась также система открытых полей. Крестьянам предоставлялись наделы, на которых они вели самостоятельное хозяйство. Кроме пашни сюда входили огород, сад, виноградник и др. угодья. Одновременно поместье являлось и основной военной единицей. Происходил процесс дифференциации феодальных поместий, среди них выделялись как крупные (состоявшие из нескольких деревень-вилл), так и мелкие. При этом одна деревня-вилла могла быть поделена между несколькими феодалами.
Постепенно бенефиций получил статус феода (лена), т.е. условное держание земли превратилось в наследственное, при этом наследники были обязаны нести военную службу. Держатель феода вместе с землей получал и проживавших в его владениях зависимых крестьян, которые должны были нести в пользу феодала все повинности (барщину) и выплачивать оброк. Это изменение статуса бенефиция было закреплено в 877 году в «Керсийском капитулярии».
6.6. Организация сельскохозяйственного производства
Доминирующей отраслью хозяйства было сельское хозяйство, основой которого являлось переложное и подсечно-огневое земледелие. При обработке земли применялись плуг с железным лемехом, борона, а в качестве тягловой силы использовались быки, лошади, ослы. Получил распространение двухпольный севооборот.
Методы земледелия зависели от природных условий, исторических традиций и темпов развития разных регионов. В районах прежней Западной Римской империи и у юго-западных славян сохранялось в VI веке пашенное земледелие. У северных германцев, балтов и восточных славян, а также в степных районах и на горных склонах по всей Европе в VII веке преобладало мотыжно-огневое земледелие. При этой системе сжигали растительность, и сеяли без пахоты по удобрившей почву теплой золе. Жители лесов и лесостепей практиковали подсечно-огневую систему земледелия, при которой заранее готовили подходящий участок, намечали очередность валки деревьев зарубками, затем кольцевали их, чтобы ускорить их высыхание, которое длилось иногда до 15 лет, после чего валили лес, сжигали его и сеяли также по теплой золе. Убрав к осени урожай, на прежнем пожоге, следующей весной начинали выжег на новой подсеке. В первый год на опалённом слое предпочитали сеять коноплю или лен, на второй год – злаки, на третий сажали овощи. Так возникали зародыши севооборота. Обычно через 5 лет оскудевшую подсеку использовали под сенокос или как выгон, а возвращались к ней для пожога, когда вырастал новый лес. Примерно с VIII века в областях, лежавших севернее романизированных, мотыжную обработку сменяет пашенная, и к концу I тысячелетия она почти всюду становится преобладающей. Поскольку свободных земель тогда хватало, заброшенные участки нередко дичали и превращались в залежь. Переход от залежной системы к более интенсивной переложной осуществился после того, как залежей и целины начало недоставать. В лесостепи, которая являлась в средневековой Европе областью наиболее развитого земледелия, этот переход наметился на рубеже II тысячелетия. Первоначально перелог – интервал между запустением и обработкой участка – длился до 10 лет. Однако по мере роста населения он сокращался, а когда свелся до года, пришлось перейти для подъема плодородия истощённой почвы к использованию пара, т.е. к двуполью. Двуполье, появившееся в Южной Европе прочно укоренилось в Северной и Восточной Европе во II тысячелетии.
Следующий шаг – переход к трехполью. Теперь одно поле засевалось озимыми, второе – яровыми, третье оставалось под паром. Трехполье быстрее вызывало распыление почвы и истощение земли. Это стимулировало применение удобрений (органических, особенно навоза, и неорганических – мергеля). Освоение новых лесных участков стало ко II тысячелетию одной из причин массовой раскорчевки лесов, которая особенно широко практиковалась в полосе от Северной Франции через Германию и Польшу до Северо-Восточной Руси, но в той или иной мере велась повсюду. Трехполье способствовало прогрессу индивидуального мелкого хозяйства и повышало производительность земледелия: при втрое меньших трудовых затратах на каждый гектар пашни с неё могло прокормиться вдвое больше людей.
Еще до VIII века были известны 7 видов полевых работ: пожог, пахота, удобрение почвы, боронование, посев, прополка, сбор урожая. Средневековые орудия труда были довольно примитивны и совершенствовались очень медленно. Важную роль в прогрессе сельскохозяйственной техники сыграла замена деревянных, костяных и бронзовых рабочих частей орудий железными. Фонд сельскохозяйственных культур накапливался медленно; использовался и долго сохранялся опыт предшествующих столетий. Ведущую роль в полевом хозяйстве играли злаки. Древнейшим из них в Европе было просо. Наиболее распространенной злаковой культурой в раннем средневековье была неприхотливая полба, но с XI века она постепенно уступает место пшенице.
ГЛАВА 7. Социально-культурная динамика в эпоху генезиса Западной цивилизации
7.1. Процессы и тенденции социально-культурной динамики
В эпоху генезиса цивилизованного общества (раннее средневековье) закладывались основы, и формировалась индивидуальность Европейской цивилизации, как некой культурно-исторической общности с единой судьбой в мировой истории, какой не было ещё в прежние времена. Именно эпоха генезиса цивилизованного общества (раннее средневековье) положила начало собственно европейской культуре, которая выросла на почве мучительного синтеза наследия античного мира, точнее, умиравшей цивилизации римского мира, порождённого им христианства, и культур варварских народов. Для понимания генезиса западноевропейской культуры важно учитывать, что она формировалась в регионе, где ранее находился центр мощной, высокоразвитой, универсалистской римской культуры. Наиболее яркие явления в культурной жизни V–VII веков в Западной Европе (особенно в Юго-Западном регионе) связаны с усвоением античного наследия и распространением христианства.
Культурная жизнь в эту эпоху, в целом тяжёлую, полную лишений, голода, эпидемий, стихийных бедствий, войн, складывалась и протекала в условиях жестокой религиозной и политической борьбы. Она протекала в постоянных напряжённых столкновениях между церковной доктриной и ересями, между контрастами «учёного» и народного сознания, между властью и бесправием, роскошью и крайней нищетой, отчаянием и надеждой.
Понятие Европы в первые века генезиса Западной цивилизации (средневековье) применимо лишь в географическом смысле. Однако уже к исходу раннего средневековья становится очевидной общность исторических судеб, а, следовательно, и культурного развития народов, её населявших. Итогом этого периода были первые шаги в создании духовного единства всего континента. Произошёл первоначальный синтез главных слагаемых европейской культуры раннего средневековья: античного наследия, христианства и культурной жизни варварских народов. Усвоение античного наследия имело большое значение для всей Европы, а не только для её средиземноморских областей. Отношение к нему – это один из вопросов, наиболее беспокоивших Христианскую Церковь, как в период её становления, так и тогда, когда она стала господствующей силой.
В культуре средневековья можно условно выделить несколько уровней: «учёная» культура, теология, философия, литература предназначались для интеллектуальной элиты, преимущественно связанной с Церковью, для которой были понятны теологические тонкости и доктринальные споры. Феодально-рыцарское сословие создало свою рафинированную литературу, образ жизни, кодекс морали. Они составляли комплекс так называемой «высокой» культуры средневековья.
Культура широких масс народа, «простецов». В недрах средневекового общества, в городах и в крестьянской среде развивалась более демократичная народная культура, которая была сложнейшим сплавом весьма далекой от ортодоксальной религиозности, духовной жизни, дохристианского субстрата традиций быта и поведения, специфического мироощущения и социально-психологических реакций.
Происходила постоянная циркуляция представлений, чувствований, духовных ценностей между фольклорной, народной и официальной культурами, в результате чего происходило развитие культуры в целом. Массовые представления, которые формировались в глубинах народной культуры, затем выплескивались и на более высокие уровни духовной жизни. Здесь же переплавлялись в установки и эталоны официальной культуры, принимая облик, приемлемый для широких масс.
Системообразующим началом культуры является мировоззрение. В средневековой Европе оно было христианским. Христианство становится доминантой интеллектуальной, «высокой» культуры средних веков. Христианская религия и Церковь играли главную роль в организации духовной жизни европейского общества. Христианство служило важным фактором складывания относительного единства культуры западноевропейского средневековья, её важной типологической особенностью.
Человек средневековья жил в атмосфере христианской религиозности. Однако сама средневековая религиозность была очень сложным, развивающимся феноменом, включающим не только церковные и сугубо христианские элементы, но и явления, прежде не вписывавшиеся в христианскую картину мира и представления о человеке. Основой религии является её догматически концептуальное обоснование. Но Церковь и догма не могли полностью поглотить всё разнообразные культурные явления эпохи. Христианизация не затронула глубинные слои народного сознания, в которых продолжали господствовать языческие представления и фольклорная образность, исключительно живучими оказались и народные обряды.
Народная религия, с одной стороны, противостояла официальному христианству, его изощрённым богословским структурам, предназначенным интеллектуальной элите, образованным людям того времени, а с другой, – постоянно питала ортодоксальную идеологию, порождая необходимость её корректировки. Образный строй, знаковая система и символизм средневекового христианства также во многом базировались на специфике образности народного сознания.
Идеалами средневековья были не только умерщвлявший свою плоть аскет, но и прекрасный рыцарь, витязь, светлый лицом и великолепно развитый физически, не только бесплотная, духовная красота девы Марии, но и сулящая земные радости телесная прелесть женщин. Великолепные ритуалы, которые являлись неотъемлемой частью византийского императорского двора, а затем быта европейских государей, крупных феодалов, призваны были не только символизировать сакральное значение власти, они были еще и просто праздниками, демонстрировавшими красоту вещей и красоту людей, будившими в них вполне земные чувства37.
При всех метаниях от земного к небесному, от уничижения к надежде, от упоения мгновением жизни к страху перед смертью и последним судом, от светлой жалости к чудовищной жестокости, средневековое общество в самые критические моменты, в конце концов, находило силы, которые не отвращали его от жизни и красоты, а, напротив, возвращали к ним.
Главной идеологической силой в этот период становится Церковь, уже сильно «обмирщённая» и «вульгаризированная» – даже по сравнению со временем Константина Великого и Никейского собора, но обладающая значимым авторитетом. Церковь выступает не только «хранительницей» духовных ценностей античного мира, но и их «разрушительницей», ибо христианство формировалось на почве отрицания античного язычества, и победило его, и основанную на нём культуру.
Оформление западного христианства в более или менее целостное миросозерцание и политическую доктрину произошло в учении Аврелия Августина (354–430). Своим многоплановым творчеством он, по существу, очертил границы духовного пространства, в которых развивалась мысль и интеллектуальная культура средних веков до XIII века.
Августин определил тематическую философскую триаду: Бог – мир – человек, в рамах которой вращалось теоретическое сознание средневековой эпохи. Два вопроса особенно занимали Августина: предназначение человека и философия истории. До его «Исповеди» греческая и латинская литература не знала столь глубокого самоанализа, такого всестороннего и тонкого раскрытия психологии личности. Августин был автором одного из самых влиятельных в средние века сочинения «О граде Божием», в котором был обобщён предшествовавший опыт христианской теологии и историографии и выдвинута оригинальная концепция исторической динамики человечества. В его учении исторический процесс приобрёл провиденциалистскую, эсхатологическую интерпретацию. Его интерпретация истории, опирающаяся на то, что ветхозаветные пророчества сбывались в новозаветные времена, предполагала прочтение исторических событий как «знаков» сокрытой во времени божественной справедливости, реализующейся в историческом будущем, перерастающем в будущее космическое.
В своём учении Августин поставил Церковь над миром, что открывало широкие возможности для теократических выводов, и что так ярко подтверждает история Католической Церкви в средние века.