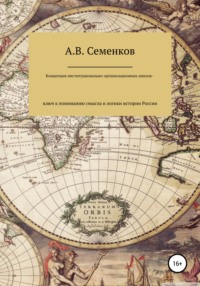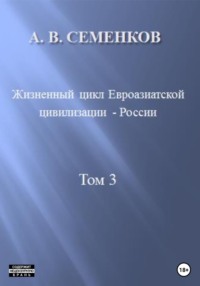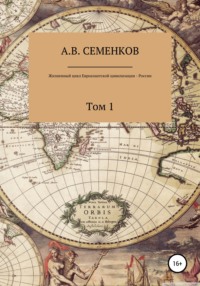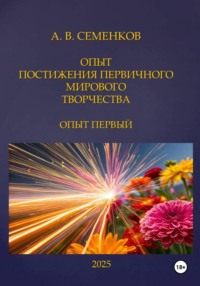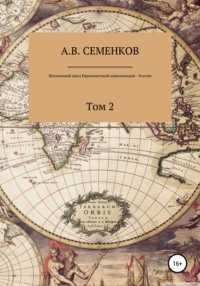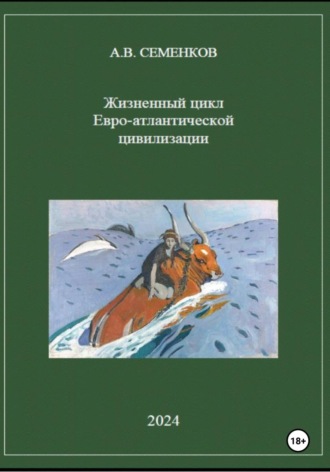
Полная версия
Жизненный цикл Евро-атлантической цивилизации
В течение XI–XII веков, когда медленно созидалось благосостояние, распространялись деньги, и богатство становилось всё более соблазнительным, Церковь была весьма деятельной в экономической сфере. Церковь снабжала людей удачливых, беспокоящихся из-за своего богатства, отдавая им деньги в рост.
На начальной стадии подъема Церковь вкладывала средства, которыми лишь она одна и обладала. Начиная с тысячного года, когда экономический подъем, особенно рост строительства, потребовал финансирования, которое не могло быть обеспечено обычным течением хозяйственной жизни, Церковь извлекла накопленные ею сокровища и пустила их в оборот. Конечно, это делалось под видом чуда, но чудотворные покровы не должны скрывать от нас экономических реалий. Когда епископ или аббат желал расширить, перестроить собор или монастырь, он сразу же находил чудесный клад, который позволял ему, если не полностью профинансировать задуманное, то, по меньшей мере, приступить к постройке.
Вот, например, епископ Орлеана Арнуль, который незадолго до тысячного года задумал перестроить «великолепным образом» церковь Сент-Круа. «Его подвигло на это, – пишет Рауль Глабер, – знамение Господне. Однажды, когда каменщики, выбирая место для базилики, проверяли твердость почвы, они обнаружили много золота, зарытого в земле. Они сочли, что его будет, несомненно, достаточно для покрытия расходов по постройке святилища, даже и очень большого. Они взяли это случайно найденное золото и всё отнесли епископу. Тот возблагодарил всемогущего Бога за этот дар, взял его и передал руководителям работ, приказав это золото полностью употребить на строительство храма. Говорят, что они были обязаны прозорливости св. Эварция, занимавшего некогда этот епископский престол, который, предвидя эту перестройку, и зарыл золото».
Церковь покровительствовала купцам и помогала искоренению предубеждения против них, из-за которого праздный класс сеньоров презирал их. Церковь предприняла реабилитацию деятельности, обеспечивающей экономический подъем, и из труда, как наказания Господня, которому, согласно книге «Бытия», должен после грехопадения предаваться человек, зарабатывая хлеб насущный в поте лица, сделала средством спасения. Экономическая мощь Церкви возрастала до XV века, в этот период духовенство владело третью всей обрабатываемой земли в большинстве стран Западной Европы.
Счастьем была вера народа, стремившегося все явления обыденной жизни объяснить чудесным проявлением Божьей воли и Его всемогущества. Насилие и произвол светской власти, которые, казалось, ничем не могли быть сдержаны, смирялись перед опасением навлечь гнев святого угодника. Там, где была бы осмеяна любая угроза светской карой, действовал страх церковного проклятия, исключения из общения с Церковью, последствия которого грозили карой даже за гробом.
Вера в чудеса, распространённая во всех слоях населения, от высшего до низшего, в значительной степени способствовала поддержанию авторитета духовенства. При этом все верили, что священство, и тем более монашество с его отречением от мира не только требует от человека известного рода святости, но и осеняет его святостью, в чём заключается справедливое основание его значительного влияния на общество. На церковную службу все смотрели серьезно, и не только народ, но и правящие классы. С невольным уважением все слои общества следили за тем, с какой важностью обсуждались на местных соборах не только дисциплинарные и ритуальные вопросы, но и метафизико-догматические. Система догматов не была ещё окончательно выработана: многие вопросы ещё обсуждались, исследовались и разбирались, многие важные теологические тонкости в это время ещё занимали умы. Наказания, налагаемые Церковью за проступки: денежные взыскания, посты, усиленные молитвы и поклоны, – действовали спасительно, особенно по отношению к унаследованным от язычества грубым суевериям и обычаям вроде, например, всякого рода волшебства и колдовства.
11.2. Церковь и государство
Во взаимных отношениях духовенства и мирян духовенство господствует и господствует почти безотчётно. Церковь стремилась утвердить во всём обществе теократическое начало, и присвоить себе светскую власть, тем самым достигнуть исключительного господства. Не достигая в этом успеха, она соединилась со светскими властителями и поддерживала, в ущерб свободе подданных, абсолютную власть для того, чтобы получить участие в ней. Ослабевая, Церковь обращалась за помощью к абсолютной власти императоров; укрепляясь, она гордо требовала этой власти для самой себя, во имя своего духовного могущества.
На протяжении IX–X веков ещё более возрастала светская власть епископов, которые постепенно становились обладателями судебных, административных и политических прав, в том числе права чеканки монеты, открытия рынков и ярмарок в городе – центре диоцеза. Высшие духовные лица, епископы, архиепископы, аббаты превращались в феодальных сеньоров. С середины IX века, но особенно в X–XI веках, участились случаи передачи епископам графских прав по отношению к населению бургов, в том числе прав на их строительство.
Высшие церковные должности находились фактически в руках короля, который и утверждал все назначения. Король вводил духовных феодалов во владение землёй, проводя так называемый обряд инвеституры. Он привлекал высших церковных сановников на ответственные дипломатические, военные, административные должности. Даже во главе королевского войска порой стоял церковный иерарх. Церковь, являвшаяся главной опорой королевской власти, и целиком поставленная на службу королю, получила название имперской церкви. Такое особое положение церкви в обществе заметно отличало Германию от других европейских стран того времени.
Церковь «обмирщилась», подчинилась светским интересам, клир погряз в погоне за мирскими благами. Этому способствовало и распространение со времён Оттона I обычая покупать духовный сан за деньги у светской власти (симония). Всё это расшатывало организационные основы церкви, лишало её духовного и политического авторитета.
В IX веке папская власть настолько окрепла, что Пасхалий I (817–824) уже обошёлся без утверждения императора. Идея о превосходстве духовной власти над светской постепенно становится господствующей. Папа принимает на себя роль судьи в делах императорского семейства. В споре сыновей Людовика Благочестивого папа Григорий IV принял сторону Лотаря, выставляя себя посредником, желающим прекратить раздоры. Ему пришлось, однако, столкнуться со стремлениями к независимости, возникшими в среде франкского духовенства. Франкские епископы, освободившись от светской власти, задумали освободиться и от папы, и повиноваться только своему франкскому митрополиту. Когда папа Григорий IV принял сторону Лотаря, местные епископы объявили ему, что откажут ему в послушании и даже грозили отлучить его от Церкви, если он будет упорствовать во вражде против Людовика.
Выразителем стремлений Папства в IX веке был Николай I (858–867). В своих многочисленных письмах он высказывал мысль, что папство занимает мировое, центральное положение. Он унизил императорскую власть, показав в деле Лотаря II, что Церковь может привлечь к своему суду и коронованных особ. На основании лжеисидоровых декреталий ему скоро удалось утвердить свою верховную власть над всеми странами Западной Европы. Папа стал рассылать во все стороны своих легатов и учреждать примасов. В этот век незыблемо твёрдая организация Церкви представлялась современному обществу чем-то прочным, заключавшим в себе начала истинной духовной жизни. Церковь ставила предел разнузданности и произволу сильных мира сего, а мир идеальных стремлений противопоставляла диким и грубым инстинктам общества того времени.
Огромное могущество Церкви в начале XI столетия было основано на доверии народных масс. Однако Церкви не удалось сохранить свой моральный престиж, в котором коренилась её власть. В первых десятилетиях XIV столетия обнаружилось падение могущества папской власти. Что же разрушило наивную веру христианского простонародья в церковь настолько, что оно не откликалось больше на её призывы и отказалось служить её интересам?
Первым неблагоприятным впечатлением было сосредоточение больших богатств в руках Церкви. Церковь не умирала, а умиравшие без прямых наследников лица часто отказывали свои земли в её пользу. Кающимся грешникам усиленно рекомендовалось это делать. Благодаря этому, во многих странах Европы в руках церкви сосредоточилось около четверти всех земель. Аппетиты церкви всё возрастали по мере её обогащения. Уже в XIII столетии всюду раздавались голоса, что священники – безнравственные люди, что они постоянно охотятся за деньгами и за наследствами.
В XI веке в западных христианских странах разгорается борьба между государями и Римом за право «инвеституры», то есть за прерогативу назначения епископов. Если инвеститура оставалась в руках папы, король терял возможность управлять не только душами своих подданных, но и значительной частью своих владений. К тому же духовенство претендовало ещё и на освобождение от налогов, поскольку оно само платило подать Риму, и требовало для себя права собирать с мирян десятину.
В большинстве случаев победа оставалась за папами: ведь они могли отлучать королей от церкви и освобождать их подданных от клятвы верности. Более того, папа мог наложить интердикт на целую страну, и в ней прекращалось отправление большинства церковных треб, за исключением крещения, конфирмации и покаяния; священники не совершали ни обычные богослужения, ни венчание новобрачных, ни даже похороны.
Папство в борьбе с германскими императорами за инвеституру стремилось запретить светскую инвеституру епископов и аббатов, освобождая их тем самым от местной вассальной зависимости (от королей или императора), и централизованно, и непосредственно подчиняя Риму. Достигнув наибольшего накала при папе Григории VII и императоре Генрихе IV, борьба за инвеституру между папами и императорами, завершилась компромиссным Вормским конкордатом (1122). Для разных регионов Империи устанавливались разные системы выборов епископов. Избранные капитулами иерархи получают духовную инвеституру от папы, светскую – от императора. В Германии в избрании прелатов, которым сразу после выборов предоставляется светская инвеститура, участвует император. В Италии и Бургундии император не участвует в таких выборах и предоставляет прелатам светскую инвеституру в течение шести месяцев.
К XIII веку господство Церкви обрело такую силу, что папы римские активно вмешивались в государственные дела всей Европы, а подчас и в личную жизнь монархов. Гигантский урожай доходов, пожинавшийся у верующих, шёл на поддержание растущего великолепия папского двора и на содержание огромного чиновничьего аппарата. Богатству пап могли позавидовать иные европейские короли.
Зенита своего могущества папство достигло при Иннокентии III (1198–1216), которому размышления о ничтожестве человеческой жизни, изложенные в сочинениях понтифика, не помешали сделать блестящую церковную карьеру. При нём папский престол настолько укрепился, что папа решительно провозгласил себя не преемником св. Петра, но наместником самого Христа на Земле. Три государя – германский, французский и английский – были отлучены от Церкви, а на их страны был наложен интердикт. Иннокентий III заставил монархов Западной Европы признать главенство папской власти, укрепил папское государство, а одно время был даже правителем Сицилийского королевства.
Начиная с XIII века, институт Церкви постепенно теряет лидирующие позиции, осью общественной жизни становится институт государства, общественная жизнь всё более регулируется светским государством. Секуляризация отражает ключевую тенденцию периода XIV–XV веков.
В конце XIII века вспыхнул конфликт между французским королём Филиппом IV Красивым и папой Бонифацием VIII, закончился поражением папства: папский престол занял один из французских епископов. В 1302 году папа Бонифаций VIII издаёт буллу, в которой, используя теорию о «двух мечах» (светском и духовном), якобы вверенных папе, провозглашает свою власть высшей на Земле.
Французская монархия добилась в начале XIV века крупного политического успеха в столкновении с папством, в 1309 году резиденция папы была перенесена из Рима в Авиньон, на юге Франции. Началось, так называемое, «авиньонское пленение» пап. Глава Католической Церкви на несколько десятилетий (до 1377 г.) становится орудием в руках французских королей, и проводником их политики.
Новый папа Климент V поддержал выдвинутые королём обвинения против духовно-рыцарского ордена тамплиеров (храмовников), отличившегося и накопившего огромные богатства в крестовых походах, и санкционировал расправу над ним, которая была вызвана политическими, а не религиозными причинами.
К началу XIV века тревожные последствия мирского успеха были налицо: Католическая Церковь стала могущественной организацией, и в то же время, её подстерегали опасности. Церковная иерархия заметно склонялась в сторону финансовых и политических интересов. Власть папы над государствами в Италии вовлекла Церковь в политические и военные манёвры, что впоследствии неоднократно сказывалось на духовном самосознании Церкви.
11.3. Разделение Христианского мира на Западную и Восточную Церковь
На протяжении первого тысячелетия христианской истории Римская Церковь, в юрисдикции которой находились христиане Западной Европы, представляла собой одну из Поместных Церквей и являлась частью Вселенской Православной Церкви. Тем не менее, уже в этот период начали постепенно развиваться те культурные, литургические и богословские расхождения, которые в конечном итоге привели к расколу. Церковное общение между Римом и Восточными Церквами прерывалось неоднократно.
Начало расхождению восточного и западного направлений в христианстве положила латинизация Церкви, начавшаяся во второй половине II века в северной Африке. Это расхождение постоянно усугублялось различием исторических судеб восточной и западной части Римской империи. Никейский собор 325 года показал, сколь малое значение придавали тогдашние высшие восточные иерархи Церкви западным епископатам. Однако Западная Церковь не только выдвинула крупных идеологов христианства, таких как Тертуллиан, Иероним и Августин, но и открыто заявила свои притязания на главенство в христианском мире. Собор 343 года в Сардике, где преобладали западные епископы, признал главенство Рима, однако, восточные епископы не согласились с этим решением. По существу это означало разделение Церкви на западную и восточную. Собор 451 года в Халкидоне подтвердил расхождение Церквей: константинопольский патриарх был признан не только верховным по отношению ко всем восточным иерархам Церкви, но и равным римскому епископу, который претендовал, однако, на то, чтобы его власть была вселенской. С Халкидона история Христианской Церкви перестаёт быть единой. Европа стала ареной постоянного соперничества двух «вселенских» владык – римского папы и константинопольского патриарха.
Формирование католической доктрины началось в V–VI веках: Блаженный Августин, св. папа Лев Великий и др. Единство Католической церкви, основанное на примате Папы, – это не только сильная, но и гибкая доктрина. Она позволяет образовывать т.н. унии, т.е. союзы с различными конфессиями, которые, принимая руководство Католической Церкви, сохраняют традиционную для себя практику богослужения.
Камнем преткновения стал догмат об исхождении Духа Святого. Никейский «Символ веры» утверждал, что Дух Святой исходит только от Бога-Отца, первого лица троицы. Римская Церковь стала настаивать на его исхождении от Отца и Сына (filioqпe). Это добавление было сделано в 589 году на третьем Толедском соборе, а затем закреплено при Карле Великом Аахенским синодом в 809 году. Восточная Церковь осудила это добавление как ересь. В вину латинянам она также вменяла учение о «благодати», запас которой якобы создавался деяниями святых, что давало возможность Западной Церкви за счёт него отпускать грехи через продажу специальных грамот – индульгенций.
Восточная Церковь опиралась на мощь византийской государственности, Западная – стремилась встать над светской властью, подчинить её себе. В западных областях Европы к XI веку сложилась система папизма, при которой все без исключения церковные структуры считались подчинёнными папе римскому (апостольской кафедре Святого Петра). В богослужении и богословской литературе господствовал латинский язык.
На Востоке сохранялась традиционная система Поместных Церквей – независимых друг от друга региональных патриархатов, католикосатов или архиепископий. Те из них, которые признавали семь Вселенских соборов и тяготели к Восточно-Римской (Византийской) империи, составляли семью Православных Церквей. В неё входили кафедры: Константинополь (которому в это время подчинены Русь, Болгария и Сербия), Александрия, Антиохия, Иерусалим, Кипр, Грузия.
В начале XI века граница между латинским и греческим христианством, тогда ещё не делившимся на католиков и православных, но составлявшим единое кафолическое церковное пространство, проходила по государствам Восточной Европы: Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, подчинявшихся папскому престолу. Болгария и территории будущей Сербии контролировались Византией, и подчинялись Константинопольскому патриархату в статусе автономной Охридской архиепископии.
Пути Западной Католической и Восточной Православной Церквей разошлись в XI веке. Ключевым событием, которое официально разделило Христианскую Церковь, стал инцидент 1054 года, известный как Великая схизма. Разногласия накапливались веками, но непосредственным поводом к окончательному расколу стало несколько событий. В начале XI века закрываются латинские церкви в Константинополе, и Византия отказывается признать авторитет папы римского Льва IX. В ответ он посылает в Константинополь своих представителей во главе с кардиналом.
Кульминацией противостояния Церквей были драматические события 1054 года в Константинополе. Римский кардинал Гумберт возложил 16 июня этого года в св. Софии буллу (папский указ) с отлучением патриарха Михаила Кирулария от Церкви, тот в свою очередь отлучил папского легата и объявил сторонников западной церкви еретиками. Он подробно перечислил все основные пункты расхождения с латинянами. Этот обмен анафемами фактически привёл к окончательному разрыву между католиками и православными. Он символизировал нарастающее отчуждение, которое на протяжении следующих столетий только усиливалось. Крестовые походы ещё больше углубили вражду между ними. Можно даже сказать, что именно крестовые походы вбили последний клин между православными на востоке и католиками на западе.
Многовековые распри между Востоком и Западом завершились в 1054 году разделением Церквей, каждая из которых считала себя единственно вселенской, ортодоксальной, а другую – еретической. Западная церковь стала называться Римско-католической, а восточная – Греко-православной. Схизма была итогом не только церковных разногласий, но и отражением существенных различий в историческом развитии западных областей Европы и Византии. После Великой схизмы 1054 года западноевропейская церковь, в отличие от византийской, сохранила свою самостоятельность, свой политический диктат и огромные, постоянно пополняющиеся за счёт пожертвований феодальных сеньоров богатства.
Западная Церковь в XI–XIII веках пыталась, используя политическую раздробленность Западной Европы, поставить папство над светской властью, создать своего рода универсалистскую теократическую империю во главе с папой. Проиграв в этой борьбе, и оказавшись перед лицом централизованных государств, Католическая Церковь всё чаще терпела грозные удары многочисленных ересей. Восточная Церковь, напротив, тяготела к поддержке светской власти, способствовала централизации государств и даже некоторой их автономии от Константинопольской патриархии. Но с ересями и всякого рода инакомыслием Православная Церковь боролась столь же энергично.
В отличие от Православных Церквей, римский католицизм впечатляет, прежде всего, своей монолитностью. Принцип организации этой Церкви более монархический: она имеет видимый центр своего единства – Папу Римского. В образе Папы сосредотачивается апостольская власть и учительный авторитет Римско-Католической Церкви. В силу этого, когда Папа выступает ех саthedга (т.е. с кафедры), его суждения по вопросам веры и морали обладают непогрешимостью. Другие особенности католической веры: развитие Тринитарного догмата в том смысле, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына (лат. filigue), догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, догмат о чистилище и т.д. Католическое духовенство даёт обет безбрачия (т.н. целибат). Крещение детей дополняется конфирмацией (т.е. миропомазанием) в возрасте около 10 лет. Евхаристия совершается на пресном хлебе.
Между Западной и Византийской Церквами отмечались и догматические разногласия. В первой господствовало учение о спасительной роли Церкви, в рунах которой находится и оценка заслуг верующего, и отпущение его грехов. Восточное же христианство отводило более важную роль в спасении человека индивидуальной молитве и через её посредство допускало мистическое слияние с божеством. При этом отчётливо давали о себе знать идейные традиции обеих Церквей: на Западе – влияние юридизма, восходящего к классическому римскому праву, на Востоке – спекулятивной греческой философии, прежде всего, неоплатонизма.
Западной религиозности была свойственна эмоциональная напряжённость, граничащая с религиозной экзальтацией и фанатизмом. Для верований греков была характерна отвлечённая философская рассудочность, приверженность к глубоко трансцендентным идеям. Взволнованное воображение латинян постоянно устремлялось к крестным мукам Христа; страшным мукам грешников в аду. В Православной Церкви на первый план выдвигались радостно-просветлённые моменты из жизни Христа, его воплощение и воскресение. Это нашло отражение в византийской и западноевропейской культуре, в частности, в литературе и искусстве.
11.4. Экспансия Западной церковной цивилизации. Крестовые походы XI–XIII веков
Проявлением кризисного состояния Западной Церкви и церковной цивилизации стала экспансионистская политика Римско-католической Церкви. В XI–ХIII веках западноевропейскими феодалами и Католической Церковью были организованы восемь крестовых походов на Ближний Восток, в которых участвовали рыцари, горожане, беглые крестьяне. Военные экспедиции происходили под эгидой Католической Церкви. Под лозунгом защиты христианского мира от «неверных» шли войны против арабской Испании. Огнём и мечом обращались в католичество западные славяне, венгры и жители Прибалтики. Крестоносцы не смогли завоевать на Востоке больших территорий. Возникает вопрос, в результате, или вопреки этим походам укрепились торговые связи между Западной Европой и восточными странами. Насколько они способствовали дальнейшей урбанизации Западной Европы.
Осенью 1095 года в Клермоне (Южная Франция) на большом церковном соборе папа Урбан II (1095–1099) возвестил о начале крестового похода. Перед многочисленными слушателями, собравшимися на Клермонской равнине, была произнесена большая речь: «Земля, которую вы населяете, – сказал папа, обратившись к слушателям, – сделалась тесной при вашей многочисленности. Богатствами она не обильна и едва даёт хлеб тем, кто её обрабатывает. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете, и друг с другом сражаетесь… Теперь же может прекратиться ваша ненависть, смолкнет вражда и задремлет междоусобие. Предпримите путь ко гробу святому, исторгните ту землю у нечестивого народа и подчините её себе».
В августе 1096 года в первый крестовый поход двинулись рыцари-крестоносцы, прекрасно вооружённые и экипированные. Все отряды крестоносцев соединились весной 1097 года в Константинополе. В 1099 году Иерусалим был взят, и в Святой земле возникло латинское государство, быстро оказавшееся под угрозой. Людовик VII и Конрад III в 1148 году не смогли ему помочь, и христианский мир в Палестине стал своего рода беспрестанно сокращающейся шагреневой кожей.
В 1169 году мусульмане объединились под предводительством курдского авантюриста Саладдина, который сумел овладеть Египтом. Он провозгласил Священную войну против христиан и взял у них Иерусалим (1187), что привело к третьему крестовому походу, окончившемуся неудачей – Иерусалим остался у мусульман.
В 1189 году, приняв власть, английский король Ричард стал хлопотать об организации Третьего крестового похода, обет, участвовать в котором он дал ещё в 1187 году. Он учёл печальный опыт Второго похода и настоял на том, чтобы для достижения Святой Земли был избран морской путь. Это избавляло крестоносцев от многих лишений и неприятных столкновений с византийским императором. Поход начался весной 1190 года, когда массы пилигримов двинулись через Францию и Бургундию к берегам Средиземного моря. В первых числах июля Ричард встретился в Везеле с французским королём Филиппом Августом. Короли и их войска приветствовали друг друга и продолжали вместе поход к югу под радостные песни.