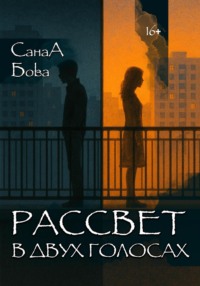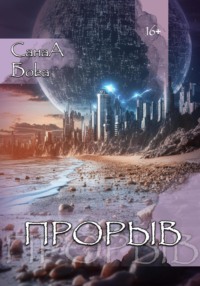Полная версия
Слёзы Индии
В какой-то момент Ритика наклонилась к ней и спросила вполголоса:
– Вам не кажется, что кто-то интересуется вами чересчур настойчиво?
– Почему ты так думаешь?
– Я видела сегодня утром в холле мужчину в серой рубашке, он стоял возле входа, не входил, просто смотрел. Потом появился на углу, когда мы шли к галерее. Может быть, это просто совпадение…
Санадж сжала кулон сильнее, чем собиралась. Она посмотрела на Ритику, та была испугана, но старалась держаться уверенно.
– В этом городе слишком много совпадений, – сказала Санадж. – Я привыкла, что за мной следят. В детстве я всегда знала, когда мать смотрит на меня из окна, даже если не видела её.
– Но это не мама, – тихо сказала Ритика.
Санадж не ответила. Она вдруг вспомнила фразу, не дававшую покоя с ночи: «Я тебя не спрашивал». Эта фраза звучала теперь как предупреждение, как код к двери, за которой пряталась новая история – история, которую, возможно, она уже не могла изменить.
Весь день прошёл в странной отрешённости. Санадж подписывала книги, отвечала на вопросы, участвовала в фотосессии, улыбалась в камеру, но внутри оставалась холодная тишина, как перед грозой. Она то и дело касалась кулона, как будто тот был её талисманом или последней связью с нормальной жизнью. Каждый раз, когда она смотрела в окно или слышала шаги в коридоре, сердце начинало стучать чаще.
Вечером, когда в зале остались только она и Ритика, последняя сказала с неожиданной серьёзностью:
– Я не знаю, что у вас происходит, но, кажется, вы попали в чей-то чужой сюжет. Только вы теперь не писатель, а персонаж.
Санадж вздохнула и наконец призналась:
– Ты права. Кажется, мой роман теперь пишет кто-то другой.
Вечер опустился на город быстро, будто солнце торопилось спрятаться за крышами, чтобы не быть свидетелем того, что должно было произойти ночью. Санадж вернулась в гостиницу уставшей, но не разбитой, как обычно после публичных встреч, а внутренне напряжённой, будто бы каждый взгляд, каждая улыбка, каждое прикосновение к кулону оставили на ней новые следы. Она чувствовала, что мир вокруг стал плотнее, что стены номера подслушивают её мысли, а в каждом углу притаилось что-то незримое, возможно страх, возможно, новое знание о самой себе.
В этот вечер она особенно долго стояла у окна, наблюдая за тем, как улицы тонут в полумраке, как неоновый свет вывесок растворяется в дрожащем мареве, как на перекрёстке собираются машины – чёрные, с тёмными стёклами, похожие друг на друга до тревожной одинаковости. Было странное ощущение, что кто-то следит за её окнами, что под фонарём затаился силуэт – чёрная рубашка, неподвижная спина, короткие редкие движения головы. Она не могла разобрать лица, но каждый раз, когда пыталась отвернуться, сердце начинало стучать сильнее, как будто предупреждая: «Не смей закрывать глаза».
На столе лежал кулон, отблескивая рубиновой трещиной, и в этом отблеске отражалась часть её собственной тени. Она попыталась читать книгу, которую привезла из Парижа, но слова расплывались, мысли ускользали, а память раз за разом возвращалась к той ночи, когда кулон исчез, и к тому вечеру в клубе, когда мужчина с невидимым лицом произнёс свою короткую фразу. Этот голос не отпускал её, казался ей знакомым, хотя, возможно, она просто устала быть одной и искала смысл в каждом проявлении заботы.
В одиннадцать она выключила свет, но долго не могла заснуть. Город гудел, с улицы долетали крики, где-то хлопнула дверь машины, хлопали ставни у соседнего дома, в коридоре гостиницы раздались быстрые шаги. Она не выдержала и снова подошла к окну. Там, где раньше стояла тень, теперь была только пустота, но Санадж чувствовала, что за каждым этим исчезновением стоит чьё-то присутствие, чья-то воля, направленная прямо на неё.
Ночью ей приснился сон, который повторялся из детства: она бежала по залитой дождём улице, вокруг были стены, вывески, чужие лица, она слышала крик матери, шёпот на чужом языке, запах жасмина, и, в самом конце, руку, протянутую сквозь дым и дождь. Рука эта была не похожа ни на одну из тех, что она помнила – мужская, сильная, но одновременно осторожная, как у человека, привыкшего работать в темноте.
«Я тебя не спрашивал…» – голос прозвучал прямо в её голове, и она проснулась – в комнате было всё так же темно, только в щель окна проникал свежий ночной воздух.
Она включила лампу, села на кровать и поняла, что за ней действительно кто-то наблюдает. Телефон мигнул – сообщение, анонимный номер:
«Вам не стоило возвращаться. Это город, где никто не танцует».
Санадж прочитала сообщение дважды, пытаясь уловить интонацию – угроза это, предупреждение или просто чей-то болезненный розыгрыш. Она попыталась дозвониться до Ритики, но та не отвечала, уже было поздно. Она подумала было написать Джону, но тут же поймала себя на том, что не знает его номера, не знает его имени, не знает, что на самом деле произошло в ту ночь. Был только голос, запах жасмина, кулон и фраза, которая теперь преследовала её даже во сне.
Снаружи, за окном, гудела ночь. Где-то далеко били часы. Санадж ещё долго не могла уснуть, прижимая кулон к ладони, словно это был её единственный щит против всего, что надвигалось из темноты.
Наутро, проснувшись раньше рассвета, она ощутила, что внутри неё что-то изменилось. Страх не ушёл, но превратился в решимость – если это чужой сюжет, она намерена его переписать.
Утром город казался спокойнее, чем ночью – редкие машины, уличные торговцы ещё только расставляли свои лотки, солнечный свет разливался по мостовой тёплым золотом. Санадж в этот раз оделась иначе – выбрала неброское, почти мужское пальто и тёмные очки, волосы спрятала под платком. Она больше не ощущала себя гостьей, скорее тенью в этом городе, женщиной, которая знает слишком много и теперь не может позволить себе быть заметной.
Завтракала она быстро, стараясь не смотреть по сторонам. Кулон был спрятан под рубашкой, так, чтобы никто не заметил. После вчерашнего ночного сообщения она уже не сомневалась – всё, что случилось, было частью чьей-то игры, а значит, пришло время выйти из позиции жертвы и искать ответы.
Она не стала дожидаться Ритики, а пошла пешком до галереи, стараясь выбрать самые многолюдные улицы, где сложнее быть перехваченной. По дороге замечала детали, которые раньше ускользали от внимания: мужчину в серой рубашке, который уже второй раз встретился на перекрёстке, девушку, странно задержавшую взгляд на её лице, старика с газетой, который слишком явно повернул голову, когда она проходила мимо. Всё это складывалось в неуловимый, тревожный узор, из которого так и не было выхода.
В галерее царила деловая суета. Ритика ждала её у входа, напряжённая, не спавшая всю ночь.
– Я получила сообщение ночью, – сказала Санадж, протягивая телефон, экран которого тускло светился в утреннем полумраке галереи. – Анонимное. «Вам не стоило возвращаться». Кто-то следит, Ритика. Кто-то знает, что я здесь.
Ритика стиснула край планшета, её пальцы побелели, будто она пыталась удержать ускользающую уверенность. В её глазах мелькнула та же тревога, что вчера, когда она говорила о мужчине в клубе, и тень вины, которую Санадж уже научилась распознавать.
– Это не случайность, – выдохнула Ритика, понизив голос до шёпота. – Утром мне сказали, что в «Rasa Svara» кто-то расспрашивал о вас, о гостях. Я думала, журналисты, но теперь… – Она замолчала, бросив взгляд на окно, где город растворялся в утренней дымке.
Санадж наблюдала за ней, взвешивая каждое слово, каждый жест. Ритика была напугана, но её забота вчера, её предложение остаться рядом, её неловкое извинение за пропущенный инцидент с бокалом – всё это говорило о честности, пусть и не полной. Санадж не доверяла слепо, но в этом городе, где тени двигались быстрее слов, союзники были нужны, и Ритика, со всей её нервной искренностью, могла стать началом.
– Нам нужно держаться вместе, – сказала Санадж, её голос был твёрд, но без резкости. – Я не хочу, чтобы ты попала в беду из-за меня. Но если мы будем действовать сообща, мы найдём ответы.
Ритика кивнула, её плечи чуть расправились, будто слова Санадж придали ей сил.
– Я с вами, – ответила она тихо, но с неожиданной уверенностью. – Тот мужчина, о котором вы говорили… тот, что был в клубе. Он не из наших списков. Может, стоит поискать тех, кто знает, кто он?
Санадж сжала кулон под рубашкой, чувствуя его холодный металл. Память вернула голос того человека – спокойный, точный, с едва уловимой заботой, его слова: «Я тебя не спрашивал». Они звучали как обещание, но и как загадка, которую она пока не могла разгадать.
– Думаю он не хочет, чтобы его нашли, – сказала она, подбирая слова. – Но он знал, что делает. Я хочу понять, на чьей он стороне.
Весь день они провели в галерее, переходя от разговоров с кураторами к встречам с коллекционерами, от улыбок для журналистов к скупым замечаниям о новых работах. Санадж следила за каждым – за тем, как галерист поправляет очки, избегая её взгляда, как журналистка слишком долго задерживает ручку над блокнотом. Но ни один жест, ни одно слово не выдавали угрозы, только тени подозрений, ускользающие, как дым.
К вечеру зал опустел, и Ритика, стоя у высокого окна, где город тонул в золотистой дымке, решилась:
– За углом клуба есть кафе, старое, неприметное. Там собираются люди, которые знают, что происходит за кулисами – охрана, посредники. Я могла бы спросить, не видели ли они вашего человека.
Санадж помедлила. Её инстинкты противились – слишком открыто, слишком рискованно. Она привыкла наблюдать, не ввязываясь, но кулон у сердца и ночное сообщение изменили всё. Оставаться в стороне означало уступить.
– Хорошо, – сказала она, голос ровный, но внутри горела решимость. – Только ты и я. Без лишних глаз. Нам нужны ответы, а не слухи.
Они вышли в вечерний город, пробираясь сквозь толпу, где запахи уличной еды смешивались с выхлопами и жасмином, который, казалось, следовал за Санадж. Кафе оказалось тесным, с потёртыми стульями и тусклым светом. За дальним столиком сидел мужчина в чёрной рубашке, уткнувшийся в газету, но его поза выдавала напряжение. Ритика шепнула что-то официанту.
Санадж села неподалёку, пальцы невольно коснулись кулона под тканью. Через несколько минут мужчина сложил газету, встал и, проходя мимо, и задержался ровно настолько, чтобы их взгляды встретились.
– Не задерживайтесь здесь, мадам, – сказал он тихо, без тени эмоций, но в его глазах мелькнуло то же узнавание, что в клубе. – Это не место для разговоров. Если нужно, я найду вас.
Он ушёл, не оглянувшись. Официант принёс два стакана воды и сложенный листок, на котором было написано: «Я рядом».
Санадж сжала записку, чувствуя, как напряжение сменяется странным облегчением. Она не была одна, кто-то, пусть без имени, уже встал на её сторону. Ритика смотрела на неё, ожидая реакции, в её взгляде мешались страх и решимость.
По дороге обратно Санадж молчала, взвешивая каждый шаг. Наконец, она повернулась к Ритике:
– Можно ли доверять тем, кого не знаешь?
Ритика пожала плечами, её улыбка была усталой, но тёплой.
– В Мумбаи это иногда единственный способ выжить. Но я с вами, Санадж.
Санадж кивнула, ощущая, как между ними протянулась тонкая, но прочная нить. Это не было полным доверием. Пока. Но это был шаг к тому, чтобы перехватить нити чужой игры.
Ночью Санадж снова не могла уснуть. В комнате стоял запах жасмина, в ладони лежал кулон, в голове звучала та же фраза, но в этот раз она не чувствовала страха. Только новую, упрямую решимость – если город не отпускает её прошлое, она встретит его лицом к лицу.
Вечером Санадж снова отправилась в клуб “Rasa Svara”, теперь уже осторожнее, чем прежде. Она надела простое серое платье, волосы убрала в тугой пучок, чтобы ничто не выдавало её волнения. Перед самым входом на мгновение задержалась у витрины с драгоценностями, среди украшений на бархатных подставках вдруг показалось отражение – мужской профиль, суровый взгляд. Она вздрогнула, но, обернувшись, никого не увидела. Привычка ждать угрозы становилась новой частью её походки, движений, даже голоса.
Клуб встретил её неоновым светом, музыкой, перемешанной с гулом голосов, и тем же сладким запахом – жасмин был повсюду, казалось, что им опрыскали не только зал, но и сам воздух, все ткани, даже лёд в бокалах. Ритика, уже внутри, попыталась улыбнуться, но Санадж сразу увидела, как та устала, нервничала, избегала смотреть по сторонам.
– Вы уверены, что стоит возвращаться? – прошептала она, когда Санадж подошла ближе.
– Нет. Но если уйду сейчас, буду бежать всегда, – ответила Санадж. – Лучше узнать, кто меня ищет.
В этот вечер многие здоровались с ней чуть настороженно, кто-то избегал встречаться взглядом. За барной стойкой стоял тот же бармен, что был и в ту ночь. Он быстро взглянул на неё и, будто бы случайно, передал ей бокал с водой. Под ним, на белой салфетке, была надпись:
«Осторожно. За вами наблюдают.»
Она почувствовала, как внутри всё сжалось, предупреждение не оставляло пространства для фантазий. В зале мелькнул тот самый мужчина, он стоял у стены, не притрагиваясь ни к напиткам, ни к закускам, и смотрел поверх толпы. В этот раз она решила не ждать, и сама подошла ближе.
– Мы знакомы? – спросила она негромко, став рядом, будто бы просто оценивая картину на стене.
Мужчина повернулся к ней, его взгляд был внимательным, но без тени привычной вежливости.
– В этом городе не нужно быть знакомыми, чтобы защищать друг друга, – сказал он, голос ровный, но с едва уловимой тяжестью, – особенно когда ставки высоки.
Санадж сжала край рукава, её пальцы дрогнули, касаясь ткани.
– Тогда скажите, кто вы? Почему следите за мной?
– Иногда незнание – единственное, что держит вас в живых. – ответил он спокойно, глядя поверх её плеча, будто выискивая кого-то в толпе. – Вы ступили туда, откуда мало кто возвращается, мисс.
Она сделала шаг ближе, чувствуя, как кулон под рубашкой холодит кожу.
– Вы вернули мне кулон? – спросила она, голос натянулся, почти не дыша.
Он замолчал, его глаза скользнули к её груди, где ткань скрывала металл, но ни тени удивления не мелькнуло в его взгляде. Вместо ответа он чуть наклонил голову, будто взвешивая, стоит ли говорить.
– Не всё, что возвращается, приносит ответы, – сказал он наконец, уклоняясь, как тень от света. – Этот предмет – предупреждение. Он значит больше, чем вы думаете. Не носите его на виду.
Санадж опустила глаза и прикрыла кулон ладонью, ощущая его знакомую тяжесть. Вопросы рвались наружу, но его тон, сдержанный и твёрдый, остановил её.
– Вы знаете, кто мне угрожает? – спросила она, понизив голос.
– Я знаю больше, чем вам стоит слышать. – Его взгляд стал острее, будто резал воздух между ними. – Не ищите врагов только среди мужчин. Здесь многие, кто улыбается, играют в чужую игру. Здесь никто не танцует, когда за ними смотрят. – Он сделал паузу, затем добавил тише: – Сегодня ночью уезжайте из гостиницы. Даже если это кажется безумием.
Санадж почувствовала, как внутри смешались отчаяние и странное облегчение, будто кто-то впервые протянул ей нить в этом лабиринте.
– Вы детектив? Или из полиции? – Её губы дрогнули в полуулыбке, но голос остался твёрдым.
Он усмехнулся, коротко и горько, впервые за их разговор.
– Я не даю обещаний, – бросил он, отводя взгляд. – Но если хотите выйти из этой игры, держитесь подальше от окон. В этом городе не спрашивают. И не прощают.
Она смотрела ему вслед, пока он не исчез в толпе. Сердце билось быстро, и в тот момент Санадж впервые осознала, что вся её прежняя уверенность, привычная независимость, умение держать дистанцию ничего не стоят здесь, где судьба висит на волоске, а чужое участие – единственный способ дожить до утра.
Она быстро покинула клуб, отказавшись от ужина и прощальных разговоров. На улице ветер тянул с юга запах ночных цветов, и среди них всё тот же неуловимый жасмин, тонкий, как напоминание о детстве, и острый, как новое предчувствие беды.
В гостинице она не включала свет. Собрала вещи в одну сумку, написала короткое сообщение Ритике:
"Не жди меня. Всё объясню потом. Береги себя."
Всю ночь она провела на вокзале среди чужих людей, дрожа от усталости и напряжения, но впервые за долгие годы ощущая, что кто-то следит за ней не только из опасения, но и чтобы защитить.
Ночь на вокзале не имела ни начала, ни конца. Санадж сидела на жёсткой скамейке, вжавшись в плечи, наблюдая за людьми – кто-то спал, подложив под голову сумку, кто-то бессмысленно шагал из угла в угол, кто-то молча ел горячую лепёшку, кто-то смотрел в пустоту, будто всё происходящее было лишь длинным, вязким сном. Она впервые за долгое время ощущала себя не фигурой на сцене, а одной из таких теней, потерянной и одновременно неуничтожимой.
Свет ламп давал излишний контраст, тени ложились на бетонные стены длинными полосами. С каждой минутой становилось всё холоднее, тревожнее, и все детали, за день казавшиеся пустяковыми, теперь принимали особую значимость – сумка, в которой лежал только самый необходимый минимум, кулон, прижатый к коже, телефон, на экране которого не появлялось ни одного нового сообщения.
В какой-то момент рядом на лавку опустился Джон, неуловимо просто, как будто его присутствие было продолжением сна. Он был одет неброско, почти анонимно: простая чёрная рубашка, аккуратно уложенные волосы, тёмные глаза, в которых отражался свет вокзальных ламп.
– Вам нельзя здесь оставаться, – тихо сказал он, почти не поворачивая головы. – Такие места опасны ночью даже для мужчин, не говоря уже о женщинах.
– А где сейчас безопасно? – отозвалась Санадж устало. – В гостинице за мной следят. На улице за мной следят. Даже дома в Париже кто-то когда-то ждал моего возвращения.
Он помолчал, словно взвешивал, что сказать, потом протянул ей бумажный стакан с чаем:
– Пейте. Горячий. Здесь редко бывает по-настоящему хороший чай, но иногда этого достаточно, чтобы не замёрзнуть.
Санадж взяла чай, чувствуя, как тепло стакана греет её ладони. Она хотела спросить, зачем он помогает, почему вмешался в ту ночь, но поймала себя на мысли, что прямого ответа от него не дождаться. Этот город жил по своим законам, где откровенность была роскошью, которой никто не делился.
– Кто вы? – спросила она тихо, не отводя взгляда.
Он едва заметно усмехнулся, его глаза скользнули к двери в дальнем конце зала, будто выискивая тень, готовую шагнуть из полумрака.
– Зовите меня Джон, – сказал он, голос ровный, но с лёгкой хрипотцой, как у человека, привыкшего говорить мало. – Но имя ничего не меняет. Здесь все имена – маски. Завтра я могу быть другим человеком. А сегодня я рядом.
Санадж замерла, её пальцы стиснули стакан чуть сильнее. Имя «Джон» отозвалось в ней смутным эхом, будто она слышала его раньше, не в этом городе, не в этой жизни, а где-то на границе памяти, в детстве, в разговорах, которых не должно было быть. Она вгляделась в его лицо, ища знакомые черты, но тени клуба мешали разглядеть больше, чем строгий профиль и спокойный взгляд.
– Я знала вас раньше? – спросила она, голос дрогнул, выдавая смесь надежды и подозрения.
Джон чуть наклонил голову, уклоняясь от вопроса, как от света, падающего на лицо.
– Прошлое – плохой советчик, – сказал он, его тон был мягким, но непроницаемым. – Не копайтесь в нём, если хотите остаться в игре.
– Вы работаете на кого-то? Или против кого-то? – Она старалась держать голос твёрдым, но внутри росла тревога, смешанная с облегчением – он был здесь, он говорил с ней, и это уже было больше, чем одиночество.
Он помедлил, его взгляд стал острее, будто резал воздух между ними.
– Я защищаю не только вас, – сказал он тише. – Иногда люди попадают в истории, которые не выбирали. Иногда сами начинают игру, не зная, на чьей стороне окажутся.
Санадж ощутила, как тяжело доверять, когда жизнь – лишь временный аванс. Всё в ней противилось слабости, но сейчас она позволила себе опереться на его слова, не потому, что не могла иначе, а потому, что в этом городе, где тени двигались быстрее людей, ей нужен был союзник. Джон, с его уклончивыми ответами и странной заботой, был первым шагом, не к безопасности, а к правде, которую она собиралась вырвать у Мумбаи.
Вокзал постепенно пустел. Охранник дважды проходил мимо, не глядя в их сторону. Изредка в зале появлялись люди, быстро, нервно, будто что-то ищут, но, не найдя, снова исчезали в темноте.
Джон осторожно взглянул на кулон, мелькнувший у неё из-под шарфа.
– Не снимайте его, – сказал он почти шёпотом. – Это больше, чем память. В некоторых семьях подобные вещи – ключ к доверию или к погибели.
– Вы тоже из таких семей? – спросила Санадж, почти не надеясь на ответ.
Он снова промолчал, но в его взгляде промелькнуло что-то такое, что не нуждалось в подтверждении.
Когда за окном занялась первая бледная полоска рассвета, он поднялся.
– Скоро приедет машина, – тихо сказал он. – Вам стоит уехать отсюда хотя бы на несколько дней. Если решите остаться – предупреждайте меня обо всём, что покажется странным. Здесь нельзя быть одной.
– Почему вы это делаете?
Он задержался, будто не решался сказать последнее слово.
– Потому что однажды я уже позволил случиться тому, что нельзя было допустить. Больше не хочу повторять ошибок.
И снова, как будто тень, исчез в полумраке, оставив после себя только пустой стакан, невысказанные вопросы и странное, почти детское ощущение, что, несмотря ни на что, ночь позади, а впереди новая жизнь, в которой, быть может, появится место для доверия.
Санадж долго смотрела на пустое место рядом, потом прижала кулон к груди. Она знала, что дальше всё будет ещё сложнее, ещё страшнее, но в этот миг страх отступил, уступив место слабой, но настойчивой вере – даже в городе, где никто не спрашивает, где никто не танцует, можно встретить тех, кто когда-то решался на невозможное.
С утра город уже гудел, будто ночь была всего лишь коротким перерывом между двумя сменами дежурных кошмаров. Санадж сидела на заднем сиденье старой машины, которую для неё вызвал Джон. Водитель был молчалив, по-деловому аккуратен, не спрашивал ни о чём, как будто ему заплатили не только за километры, но и за тишину. Через мутное стекло мелькали кварталы, непривычные для глаза, там не было ни галерей, ни гостиничных фасадов, ни цветочных витрин, ни привычных туристических маршрутов. Всё казалось временным, слепленным из песка и сырой пыли, готовым рассыпаться при первом порыве ветра.
Она думала, что чувствует себя призраком, её жизнь вдруг лишилась опоры, распалась на короткие эпизоды, вспышки тревоги, воспоминания о матери, о доме, о тех ночах, когда всё в мире казалось предсказуемым и управляемым. Кулон лежал на груди, согревая кожу, и она, сама того не желая, вновь вернулась в ту давнюю ночь, когда впервые надела его: её мать стояла у зеркала и говорила тихо, как заклинание, – «никогда не снимай это, даже если придётся бежать».
Ей хотелось позвонить Ритике, объяснить, где она, попросить прощения за резкую ночь. Но она не решилась, чувствуя, что теперь каждое слово на вес золота и может обернуться катастрофой не только для неё самой.
Машина свернула в узкий переулок и остановилась у невзрачного дома. Водитель вышел первым, осмотрелся, а затем кивнул Санадж. Она не чувствовала себя в безопасности, но и не ждала ничего хорошего от дальнейших попыток уехать. В доме пахло сыростью и старой бумагой, всё казалось временным, как и весь этот город, в котором её жизнь снова начала зависеть от чужой воли.
В комнате, куда её проводили, было пусто – только стол, старый вентилятор и узкое окно, выходящее во двор. Она прошлась по комнате, тронула край шторы, посмотрела на солнце. Здесь было почти тихо, только со двора доносился детский крик, лай собаки, приглушённые голоса соседей за стеной.
Телефон наконец подал сигнал – пришло новое сообщение, но не от Ритики и не от Джона.
«Вы сделали ошибку. Вернитесь пока не поздно. Мы знаем, где вы.»
Она ощущала, как страх снова обретает силу. Казалось, за этим сообщением нет человека, только пустота, голос самой тьмы. И в то же время что-то внутри неё настаивало – нельзя бежать, нельзя снова быть жертвой, нельзя исчезать.
Она села на кровать, и вгляделась в кулон, – тонкая трещина в рубине отражала солнечный луч, словно кровавую линию на стекле. Сколько лет она жила в ожидании удара, сколько раз в мыслях прокручивала свои поражения, но всё равно раз за разом возвращалась в тот город, где никто не спрашивал и никто не прощал.
Вечером она вышла во двор. Пахло дымом, жареным нутом, где-то плескалась вода в ведре. Во дворе дети гоняли мяч, старики играли в домино на складном столе. Никто не обращал на неё внимания, но в каждом взгляде мелькало что-то отстранённое, опасливое, как будто все вокруг знали, что происходит, но предпочитали не вмешиваться.