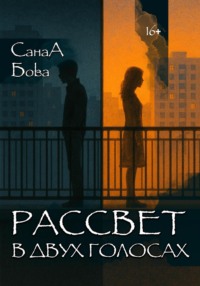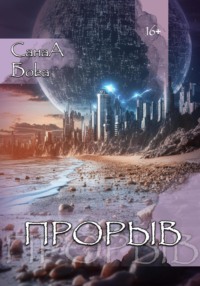Полная версия
Слёзы Индии
Санадж прошлась по кварталу, словно размечая территорию своей новой жизни. Она ловила на себе взгляды – кто-то смотрел слишком пристально, кто-то слишком поспешно отворачивался. И всё же теперь страх уступал место злости, за все эти годы она так и не научилась быть по-настоящему слабой.
Вернувшись в комнату, она обнаружила на столе записку:
«Сегодня ночью не выходите из дома. Доверяйте только тем, кто рядом, когда пахнет жасмином.»
В этот момент ей захотелось закричать, не от ужаса, а от усталости. Она не знала, чья это игра, кто расставляет для неё знаки, кто следит за каждым её шагом. Но знала, что выхода нет – или она примет правила этого города, или исчезнет здесь так же, как исчезла в прошлой жизни.
На мгновение она закрыла глаза, и вспомнила мать, кулон, первые истории о людях, которые исчезали без следа; голос в темноте, который однажды звал её домой; руки, которые больше не могли защитить. Она плакала впервые за много лет, беззвучно, сдержанно, так, чтобы даже стена не стала свидетелем этой слабости.
Но когда слёзы высохли, внутри осталась только решимость.
Вечер опустился на город с глухой усталостью, словно за целый день Мумбаи истратил все силы на поддержание своей видимости и теперь ждал, пока ночь скроет слабые места. Санадж сидела у окна, смотрела на дрожащие огни соседних домов, слышала, как где-то во дворе кричит ребёнок, как женщины перешёптываются в тени, как снова доносится, неясно откуда, знакомый, пронзительный запах жасмина. Это был не просто аромат, это был сигнал, что кто-то рядом, что тень приближается к её жизни, уже не утруждая себя маскировкой.
В руках она держала кулон, и его вес становился всё ощутимее, как будто в камне хранилась чужая история, не только её память. Она перебирала цепочку, проводила пальцем по трещине в рубине, вспоминала слова матери и чувствовала, как в груди нарастает глухое, холодное упрямство. Было невозможно бежать дальше, не потому что устала, а потому что впереди не было пути, который обещал бы безопасность. Осталась только борьба.
Внезапно раздался звонок. На экране – неизвестный номер. Сердце на миг замерло, но она всё же ответила, позволяя голосу дрожать, позволяя себе быть уязвимой хотя бы в этом мгновении.
– Вы зря не послушали. Вас здесь никто не спасёт, – сказал мужской голос, глухой, уверенный, словно повторял давно выученный текст.
– Кто вы? – спросила она, с трудом сдерживая ярость.
– Тот, кто следит за тем, чтобы чужие истории не становились слишком личными. Оставьте то, что нашли. Уезжайте, или завтра об этом городе никто не вспомнит.
– Это угроза? – прошептала она, глядя на кулон.
– Это предупреждение. Здесь есть такие вещи, которые не продаются и не прощаются.
Связь оборвалась. В комнате стало неожиданно тихо, будто сам воздух прислушивался к её дыханию. Она долго сидела неподвижно, всматриваясь в телефон, будто тот мог дать ответ, кого она только что слушала. За окном тени сползали по стенам, и в этой темноте не было ничего, кроме её собственного страха и бешеного ритма пульса.
В этот момент дверь тихо скрипнула. Санадж резко обернулась, в проёме стоял Джон. Его лицо было усталым, взгляд – острым, в движениях не было ни спешки, ни нерешительности.
– Я сказал, что буду рядом, когда это потребуется, – проговорил он, тихо закрывая за собой дверь. – Мы не можем оставаться здесь, вам действительно угрожают.
– Я больше не могу убегать, – голос её звучал твёрже, чем она ожидала.
Он присел напротив, положил руки на стол между ними, и посмотрел ей прямо в глаза:
– Вы не понимаете, как работают такие угрозы. Здесь угрожают не словами, а молчанием. Иногда – запахом, иногда – камнем в окне, иногда – исчезновением. У вас остался выбор – уйти сейчас, или идти до конца. Только тогда, когда никто не танцует, можно услышать музыку.
Она усмехнулась сквозь усталость, взяла кулон в кулак и тихо произнесла:
– Тогда я выбираю идти до конца. Если здесь нельзя просить о пощаде – пусть попробуют напугать меня по-настоящему.
Джон кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на одобрение, может быть, даже на облегчение, как будто он долго ждал, чтобы услышать эти слова.
– Я помогу вам, – сказал он спокойно. – Но дальше всё будет совсем иначе.
Снаружи под окнами кто-то крикнул, в воздухе зазвенела бутылка, потом всё стихло. Санадж посмотрела на Джона, и впервые почувствовала, что теперь она не одна. В этом городе, где никто не спрашивал и никто не прощал, всё ещё можно было встретить тех, кто останется рядом даже в самую чёрную ночь.
Она поднялась, подошла к окну и посмотрела на огни улицы. Мумбаи больше не казался ей городом призраков, теперь это был город выживания, испытания и памяти. Она знала, что после этой ночи ничего уже не будет прежним. А в ладони, как оберег, лежал тяжёлый, ставший судьбой кулон, и через его трещину проходила первая лучинка нового утра.
Когда Джон ушёл, дверь за ним тихо скрипнула, и воздух в комнате, казалось, стал чуть плотнее, будто вместе с его фигурой растворилась в тени вся тревога этой ночи. Санадж опустилась на кровать, чувствуя, как внутри неё поднимается что-то новое – не просто злость или усталость, а странная ясность, почти сладкая, почти жестокая.
Она смотрела на свои руки, на свет, в котором пульсировала трещина рубина, и вдруг ясно осознала, что все страхи, за годы вросшие в кожу, теперь были обнажены. Они были рядом, как сжатый в ладони кулон, но теперь уже не могли управлять ею. Ни этот город, ни звонки, ни даже собственная память.
Сквозь полусон ей слышались голоса – женские, мужские, детские, как будто вся её жизнь проходила перед глазами: мать, шепчущая у кровати, голос детства, запах жасмина из открытого окна, чей-то короткий, скупой совет: «Если не умеешь просить пощады, умей прощать сама». Она улыбнулась этим теням, не боясь их, как не боялась больше и будущего.
Когда город начал бледнеть за стеклом, а первые уличные собаки рванулись через дорогу, она уже не спала. Кулон был у неё на груди, в руке сжата записка Джона:
«Если запахнет жасмином – не открывай дверь. Всё остальное я возьму на себя.»
Она сидела в этом новом, зыбком утре, впервые за много лет позволяя себе ждать не страха, а продолжения.
Теперь она не была ни гостьей, ни жертвой, ни даже беглянкой. Она становилась частью города, где никто не танцует, но где каждый шаг – это вызов, и каждое утро – победа над собой.
Так закончилась её первая ночь, где никто не спрашивал, а значит – всё только начиналось.
ГЛАВА 2: Шёпот на ветру – первое преследование
Санадж перекатывалась с боку на бок, чувствуя, как тело отказывается признавать эту ночь.Утро в Мумбаи никогда не было по-настоящему тихим, но для Санадж этот день начался с особой вязкости, будто город, надышавшийся за ночь пылью и страхами, теперь тяжело просыпался, не желая отпускать её из своих липких объятий. Она лежала на узкой, слишком жёсткой кровати, слушая, как под окном гудят моторикши, как на лестнице ругаются соседи, как где-то вдалеке плачет ребёнок, а ветер с океана гонит жар и запах пряностей по узким улочкам. Всё в этом утре было знакомо, и всё казалось чужим.
Её разбудил не страх, не тревога, а странное, сухое упрямство, как будто внутри неё что‑то сломалось, а вместо привычной боли осталось лишь ощущение, что больше нечего терять. Она медленно села на кровати, и ощутила, как на затылке запульсировала боль, будто от недосыпа или тяжёлого вина. Рядом, на стуле, аккуратно лежал её платок, кулон с рубином, сложенные письма – остатки прежней жизни, теперь превратившиеся в обереги.
Она подошла к окну, открыла его и вдохнула влажный, пыльный воздух. Где‑то на крыше сидела ворона, а затем каркнула, вспорхнула и исчезла в сизом небе. На миг Санадж показалось, что город притих, что все взгляды в этом переулке, на этом этаже, в этом доме сейчас обращены только к ней. Она сразу отогнала это ощущение, привычно сжав кулон в ладони – паранойя была для Мумбаи такой же нормой, как жара, как уличный шум, как ежедневная борьба за место под солнцем.
Вскоре она обнаружила под дверью письмо – конверт без адреса, без подписи. Бумага пахла жасмином и чем‑то едва уловимым, металлическим, как старая монета.
Внутри была короткая записка:
«Ветер знает больше, чем окна. Не открывай, если кто‑то постучит до рассвета.»
Её пальцы дрогнули, не от страха, а от злости на себя, что ещё вчера подобные предупреждения казались бессмысленными, а теперь стали неотъемлемой частью быта. Санадж сжала бумагу, словно пытаясь выдавить из неё лишний смысл, потом убрала в карман, на всякий случай, и снова посмотрела в окно.
День только начинался, а ощущение преследования уже разрасталось – не тенью, а вязкой пеленой, затягивающей все движения, мысли, даже слова. Она заметила мужчину в серой куртке на углу, девушку с телефоном, которая слишком уж долго задерживала взгляд на её окне, уличного торговца, третий день подряд расставлявшего фрукты у самой её двери. Всё это можно было бы счесть за случайность, если бы не вчерашняя ночь, не звонки, не кулон, не взгляд Джона, взгляд человека, который не обещает спасения, но не бросает в беде.
Санадж выпила чая, насыпала себе риса и долго ковыряла его ложкой, вспоминая мать, учившую не смотреть в окно, когда становится страшно, и всегда держать наготове старое семейное украшение. Она думала, как быстро можно потерять в себе доверие, к людям, к поступкам, даже к собственному телу. Всё в ней было сейчас заострено до предела, кожа чутко ловила любые вибрации воздуха, слух выхватывал незнакомые голоса, во рту оставался горьковатый привкус тревоги.
Телефон завибрировал на краю стола, нарушая липкую тишину квартиры, где запах сырости мешался с далёким ароматом жасмина, просачивающимся из открытого окна. Санадж вздрогнула и взглянула на экран – Ритика. Голос на том конце был сдавленным, словно его душила жара Мумбаи.
– Санадж, где ты? Ты не вернулась в отель. Я волнуюсь.
Она замялась, голос дрогнул, будто она поймала себя на слишком личном тоне.
– Ой… я хотела сказать, вы.
Санадж сжала телефон, уголки губ дрогнули в усталой полуулыбке. Всего ничего прошло с момента их знакомства, но в её голосе было тепло, словно осколок света в этом лабиринте угроз. Ритика едва знала её, но уже казалась частью этой войны, где каждый шорох мог быть последним.
– Можно на ты, Ритика, – тихо сказала она, голос дрожал от бессонной ночи. – Всё в порядке. Пришлось уйти. Я напишу адрес, но не приходи. Так безопаснее.
Голос Ритики стал резче, как треснувшее стекло.
– Тебе звонили? Что-то угрожающее?
Санадж посмотрела на смятый лист бумаги на столе – очередное анонимное письмо, пахнущее чернилами и чем-то горьким, как старое лекарство.
– Письмо, – ответила она, сжимая кулак. – Как всегда, без подписи. Но я начинаю понимать, кто оставляет эти знаки.
Ритика замолчала, и в этой паузе чувствовался город – гул рикш, крики торговцев, шёпот ветра, несущий жасмин и тревогу.
– Будь осторожна, – наконец сказала она. – Мне кажется, никто теперь не в безопасности. Ни ты, ни я.
Они попрощались коротко, будто боясь задержать слова в этом вязком воздухе. Санадж выключила телефон, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ритика – лишь тень знакомства, но её забота грела, как луч, пробивающийся сквозь тьму Мумбаи. И всё же город шептал: доверять нельзя никому.
Она не была уверена, сколько времени сможет выдержать в таком режиме – страх, ожидание, поиски союзников и ежедневное напряжение. Она чувствовала, как что‑то в ней сжимается, как старые, ещё детские привычки – наблюдать, молчать, прятать настоящие мысли, снова становятся её оружием.
День тянулся мучительно медленно. В квартире становилось жарко, мухи садились на окно, и всё казалось липким, бесконечно повторяющимся. Санадж время от времени выходила в коридор, слушала голоса, ловила обрывки чужих разговоров. Несколько раз ей казалось, что кто‑то стоит за дверью, что‑то шепчет на незнакомом языке, но всякий раз, открывая, она видела только тень на лестнице или спешащие шаги.
К вечеру стало ясно, что кто‑то действительно начал за ней охоту. Она увидела, как мужчина в серой куртке появляется у дома второй раз за день, как на противоположной стороне улицы остановился автомобиль, чьи фары ещё долго не выключались. Она решила выйти во двор, сделать круг, проверить свои догадки.
Во дворе было жарко, пахло жареным нутом, специями и жасмином. Дети катались на велосипедах, старики курили у забора, но едва она появилась, разговоры стихли, лица закрылись. Она прошла мимо, делая вид, что ищет что-то, но никто не предложил помощи, никто не спросил, всё здесь было подчинено невидимой, но очень строгой иерархии.
На углу кто-то негромко произнёс её имя:
– Санадж.
Она обернулась резко, почти с опаской, и увидела Джона.
Он стоял в тени баньяна, будто сливался с ним. Лицо усталое, под глазами – тени бессонных ночей, щетина, неровный выдох. Он выглядел человеком, который слишком долго идёт без карты, но по-прежнему помнит, куда направлен.
– Ты… – начала Санадж, но он заговорил, глядя не на неё, а на переулок за её спиной, где тени шевелились в пыльном свете.
– Они уже не прячутся, – сказал он тихо, голос хриплый, как ветер, принёсший жасмин. – Сегодня утром один стоял у твоего подъезда, другой – за углом. Выходить одной небезопасно. Даже днём.
Санадж замерла, пальцы стиснули кулон, рубин царапнул кожу. Она знала о слежке, но его слова жгли, будто город сжал её в кулаке. Глаза её сузились, вглядываясь в его лицо.
– Кто они? – спросила она, голос резкий, будто трещина в камне.
– Это тени, двигающиеся выше. Они хотят, чтобы ты сломалась. – Ответил он, взгляд скользнул по переулку.
Санадж усмехнулась, коротко, с нервным надрывом, будто город вложил в неё эту дерзость. Она не хотела бежать, но тени, о которых он говорил, были ближе, чем вчера.
– Я могу исчезнуть, – сказала она, пробуя мысль на вкус, но голос выдал усталость.
Он шагнул ближе, ботинки хрустнули на сухой земле, взгляд его был тяжёлым, как ржавчина на мосту.
– Не выйдет, – сказал он, почти шёпотом. – Они не отпустят.
Санадж почувствовала холод в груди, будто река за городом поднялась к её ногам. Она смотрела на Джона, но он уже отвернулся, вглядываясь в переулок, будто ждал новых теней. Секунда, две, а потом голос:
– Почему ты вообще это делаешь? Ты ведь мог просто пройти мимо.
Он опустил глаза и не сразу ответил.
– Мог, – произнёс глухо. – Но тогда бы не спал, уже однажды прошёл мимо, хватило.
В её взгляде промелькнуло что-то, не то благодарность, не то страх.
– Ты не должен был вмешиваться, – сказала она мягко, но с нажимом. – Это не твоя история.
– Уже поздно. Теперь и моя.
Они пошли молча. Джон чуть отставал, внимательно оглядывая улицу привычным взглядом, как охотник, выучивший все шорохи в джунглях.
У её подъезда Джон остановился, тень его фигуры легла на потрескавшийся асфальт, будто город сам следил за ними. Он подождал, пока Санадж откроет дверь, и только когда она шагнула к порогу, заговорил, голос низкий, как гул далёких рикш.
– Не открывай никому, помнишь? Ни друзьям, ни тем, кто притворится ими. Особенно если услышишь знакомые голоса. Только мне.
Санадж замерла, пальцы стиснули ключ, холодный, как кулон под рубашкой. Он говорил так, будто знал, кто крадётся за ней, но откуда? Она обернулась, вглядываясь в его лицо, где усталость мешалась с тенью старой раны.
– Откуда ты знаешь, что они сделают? – спросила она тихо, голос дрожал, но в нём звенела сталь. – Записки, голоса… Ты говоришь так, будто видел это раньше.
Джон отвёл взгляд, его рука чуть сжалась в кулак, словно удерживала слова, которые Мумбаи не прощает.
– Я знаю, в каком стиле они работают, – сказал он, почти шёпотом, будто город мог подслушать. – Записки, шёпот, тени у дверей. Если они уже пишут, то скоро придут. Им нужно тебя сломать, запугать, поэтому и пишут эти сообщения.
Санадж нахмурилась, сердце забилось быстрее, отзываясь на запах жасмина, принесённый ветром с улицы. Он не из их мира, но видел их тени – курьер, свидетель, кто он?
– Как ты это узнал? – настаивала она, шагнув ближе, глаза искали в его лице трещину правды.
Он усмехнулся, коротко, без тепла, будто смеялся над самим собой.
– Этот город учит тех, кто выживает, – сказал он, глядя на переулок, где тьма уже сгущалась. – Я видел, как они играют с людьми. Не спрашивай, где. Но твой кулон – их метка. Будь осторожна.
Когда дверь за ней захлопнулась, Джон ещё долго стоял в полутени, не шевелясь, будто ждал, пока город выдохнет. А в квартире Санадж позволила себе первый вдох за день. Воздух был неподвижным, тяжёлым, как варёное молоко, но её сердце билось с глухой настойчивостью, словно знало, что тени уже близко.
Ночь опустилась густо, без просветов, будто Мумбаи сам закрыл глаза. Санадж защёлкнула замки, задёрнула шторы, но город всё равно дышал за стенами – клаксоны, хлопки дверей, редкий смех, крики торговцев, и шёпот ветра, несущий угрозы и чужие тайны. Она сидела за столом, перекатывая кулон в ладони. Холодный металл, трещина в рубине, алое пятно света на стене – всё это было её клятвой и проклятием. Их метка. Что он знает, чего не говорит?
Телефон молчал, но тишина была ядовитой. Она ждала – звонка, стука, шороха. Время тянулось, книга лежала открытой, но слова расплывались. Слова Джона звенели в голове: «если они уже пишут, то скоро придут».
Вдруг раздался стук, лёгкий, почти случайный, затем настойчивей. Сердце сжалось, ладони похолодели.
– Санадж… – шёпот за дверью, тонкий, как сквозняк. – Открой, это я…
Голос Ритики, знакомый, но чужой, без тепла её утреннего звонка, словно кто-то подделал его, как тень подделывает свет. Санадж замерла, вспомнив записку: не открывай, если кто-то постучит до рассвета. Она отступила, сжала кулон, чувствуя, как трещина царапает кожу, и поняла, что страх – её единственный щит.
– Санадж, пожалуйста! Я замёрзла! – голос стал громче, но всё такой же пустой.
Она села на кровать, прижала кулон к груди, сердце билось в висках. Шаги за дверью затихли, и город снова зашептал – запах жареного гороха, благовоний, жасмина. Сон пришёл тяжёлый, без отдыха, а утром под дверью лежала ещё одна записка:
Ты слушаешь правильные голоса. Но тени длиннее, чем шаги. Не выходи на свет раньше полудня.
Санадж ощутила, как в ней растёт злость: до чего же изощрён этот новый страх – невидимый, бескровный, но отравляющий всё вокруг. Она медленно собралась, умылась ледяной водой, расчесала волосы, и завязала их в тугой пучок. Затем взяла кулон и повесила на шею, словно клятву.
Джон пришёл днём, уставший, будто за ночь отвоевал не только себя, но и часть её мира. Он сел напротив, долго молчал, разглядывал её руки, в которых всё ещё дрожал кулон.
– Ты не открыла? – спросил он наконец.
– Нет, – ответила она, и только теперь ощутила, что гордится этим простым решением.
– Это хорошо. Они умеют копировать голоса. Иногда даже запахи. У меня был такой случай – они пришли к матери моего друга, говорили голосом сына, звали по имени, рассказывали, как был ребёнком… Она открыла и исчезла.
Санадж почувствовала дрожь, но постаралась не показать.
– Кто они на самом деле? Ты знаешь?
– Это не одна группа. Это сеть, целая система, – медленно проговорил Джон, – У них свои ритуалы, свои символы, свои «семейные» долги. Иногда кулон – ключ, иногда – проклятие. Твой камень не просто украшение, это знак, что ты однажды была на их стороне, даже если не знала об этом.
– На чьей стороне был ты? – спросила она осторожно.
Он не ответил сразу. Потом посмотрел ей прямо в глаза, и впервые за всё время его взгляд был уязвимым.
– На стороне тех, кто выбирает не убегать.
И в этот момент Санадж поняла, что доверять теперь можно только таким, как он. Она вдруг ясно увидела, что вся её жизнь, все страхи и победы, вся боль и одиночество, всё это было не зря, если сейчас, в этой чужой и страшной квартире, она способна просто выжить и не сдаться.
– Что дальше? – спросила она.
– Дальше – вместе, – коротко ответил Джон.
В тот день они долго не выходили из квартиры. Санадж писала записки для себя, разбирала старые письма, всматривалась в рубин на кулоне, а Джон сидел у окна, внимательно следя за улицей, слушая шум ветра и голоса детей за стеной.
Вечером, когда солнце уже садилось, он сказал:
– Скоро они попробуют ещё раз. Ты должна быть готова к тому, что город теперь – ловушка. Если захотят взять, будут ждать ошибку.
Санадж слушала его и впервые чувствовала, что у неё есть кто-то рядом, не просто свидетель, а человек, который уже прошёл по этому лабиринту и знает, как не потеряться.
С утра в квартире не было ни света, ни тишины. За стеной гремели кастрюли, кто-то слушал радио, ребёнок хлопал дверью, кто-то кричал с балкона, требуя вернуть чайник. Мумбаи – город, где даже страхи звучали громко, и если прислушаться, можно было различить в их гуле не только угрозы, но и что-то по-настоящему родное, почти домашнее. Санадж встретила рассвет на полу, прижавшись спиной к стене, с чашкой холодного чая в руке. Джон дремал у окна, иногда вскакивал, когда снилась тревога, потом снова утыкался лбом в ладони.
Телефон снова молчал. Письмо с ночи лежало на столе, записка в кармане рубашки. В памяти у Санадж крутился голос матери: «Не принимай чужое, даже если это твой единственный шанс остаться в живых». Она хотела забыть эту фразу, но она, как трещина в рубине, теперь расползалась по всей её жизни.
После полудня они услышали первый звонок в дверь. На этот раз всё было предельно обыденно – короткий стук, за которым не следовало ни мольбы, ни угроз. Только чей-то хриплый голос, приглушённый и ровный:
– Сантехника вызывали?
Джон жестом остановил её, сам подошёл к двери, спросил на хинди, что нужно. Ответ был неубедительным, человек за дверью запнулся, потом быстро ушёл. Когда они выглянули в окно, возле дома стояла белая машина, внутри – двое мужчин в тёмных очках, которые тут же отвели взгляд.
– Это проверка, – тихо сказал Джон, – они ищут слабое звено.
– Ты думаешь, они придут снова?
– Я уверен. Сегодня или завтра. Такие не ждут долго.
Они решили не рисковать и к вечеру сменили квартиру, через чёрный ход, по кривым лестницам, между дворовыми сушилками и вонью чужого ужина. Новое место было ещё хуже прежнего: сырые стены, кривой потолок, старый, скрипучий вентилятор, разрисованный трещинами умывальник. Здесь пахло чем-то гнилым, под потолком ползали муравьи. Но Санадж теперь была благодарна даже такой, скользкой анонимности. На миг она позволила себе улыбнуться, только здесь, в грязи и сырости, она вдруг ощутила, что живёт по-настоящему.
Когда Джон ушёл искать еду, она осталась одна. Пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Кулон в ладони стал почти горячим, казалось, что в нём бьётся чьё-то сердце, которому вот-вот придётся оборваться. Она долго всматривалась в камень, вспоминала, как мать держала его в руках перед свадьбой, как потом прятала на дне шкатулки.
«Этот кулон не просто украшение, – шептала она когда-то, – это знак. Тот, кто потеряет его – потеряет и часть себя. Но если вернёшь, сможешь вернуться домой».
Санадж внезапно ощутила, что она на грани слёз. Не от страха, а от усталости. Сколько дней, сколько месяцев, сколько жизней она убегала, теряя себя по кусочкам, и вот теперь всё прошлое оказалось вписано в одну-единственную трещину камня, из которой нельзя вырваться.
За окном снова показался мужчина в серой куртке. Он стоял, прислонившись к фонарному столбу, и ждал. Казалось, он даже не смотрит на окна, но Санадж знала – он видит всё.
Она поспешно задёрнула занавеску, села на кровать, сжала кулон в кулаке, и прошептала:
– Я не отдам. Даже если придётся исчезнуть вместе с этим камнем.
В этот момент в дверь снова постучали. На этот раз стук был другим – тихим, ровным, как отсчёт времени. Она замерла, но Джона не было рядом. За дверью – ни звука. Только дыхание города, только её собственный страх.
Она медленно подошла к глазку. За дверью стояла женщина – невысокая, в пёстром сари, с чёрными, как смоль, волосами. В руках у неё была корзина с цветами, и весь её облик казался до жути обыденным, но в глазах не было ни страха, ни любопытства.
– Вам не нужен жасмин? – спросила она тихо, даже не глядя в глазок, будто знала, что её слушают. – Купите хоть одну веточку, мадам.
Санадж не открыла, но задержалась у двери. Голос женщины был странно знаком, будто слышался когда-то в детстве, в другом мире, в другой стране.
– Если не купите сегодня, завтра будет поздно, – добавила женщина и, не дождавшись ответа, ушла по лестнице вниз.