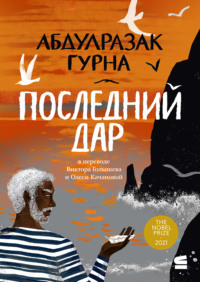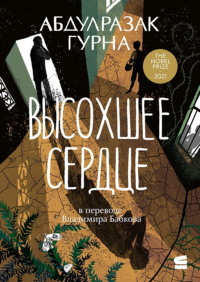Полная версия
Посмертие
Проходящая мимо деревни дорога в одну сторону вела к морю, в другую – вглубь страны. По ней в основном ходили пешком, носили тяжелые грузы, порой возили на ослах и телегах. Дорога была достаточно широкая, чтобы телега могла проехать, но ухабистая, неровная. Вдали, у самого горизонта, маячили горы. Их странные названия внушали девочке тревогу.
Она жила с теткой, дядей, братом и сестрой. Брата звали Исса, сестру – Завади. Поутру девочка должна была вставать вместе с теткой: та трясла ее, чтобы разбудить, и пребольно шлепала по заднице. Просыпайся, озорница. Тетку звали Малаика, но дети называли ее мамой. Проснувшись, девочка первым делом должна была натаскать воды, пока тетка растапливает печь, которую с вечера вычистили и наполнили углем. Воды хватало, но ее нужно было принести. У двери уборной стояло ведро с ковшиком для туалетных нужд. Другое ведро стояло возле канавы, что вела к уличному стоку: там они мыли миски и кастрюли, туда выливали воду после стирки, но для чая и дядиного купания нужно было натаскать воды из огромного глиняного бака, накрытого крышкой: он стоял под навесом, чтобы вода не нагревалась. Для дядиного чая и купания вода должна быть чистой; та, что в ведрах, только для грязной работы. Порой люди болели от грязной воды, поэтому для дядиного купания и чая она грела чистую воду.
Бак был высоченный, а она такая невеличка, что приходилось забираться на перевернутый ящик, чтобы дотянуться до воды, порой воды в баке оставалось на донышке (если водонос не пришел и не пополнил запас), и тогда она свешивалась в осклизлый бак едва не по пояс. Если сунуть голову в бак и что-то сказать, голос замогильный и чувствуешь себя великаншей. Она порой делала так, даже когда ей не надо было носить воду: опускала голову в бак и испускала злорадные вопли, точно гигантское существо. Она наливала воду в два котелка, но только до половины, иначе нести было чересчур тяжело. Затем по очереди тащила их к растопленной теткой печи, выливала котелки, снова шла к баку – и так до тех пор, пока воды не наберется дяде на чай и купанье.
Сколько девочка себя помнила, она всегда жила с ними, с дядей и теткой. Брат Исса и сестра Завади были старше ее лет на пять или шесть. Разумеется, никакие они были ей не брат и не сестра, но она все равно считала их родными, хотя в играх они дразнили и обижали ее. Иногда они нарочно поколачивали ее – не потому, что она чем-то им досадила, а просто потому, что им нравилось ее бить и она не даст сдачи. Они били ее, когда оставались одни в доме и никто не слышал ее криков или если им случалось заскучать, что бывало нередко. Они заставляли ее делать то, что ей не нравится, и, если она кричала или отказывалась, давали ей пощечины и плевали в лицо. После того как она заканчивала хлопотать по хозяйству, заняться ей было особо нечем, но если она увязывалась следом за братом с сестрой, когда они шли на улицу играть с друзьями или обрывать соседские фрукты, ни они, ни их друзья не были ей рады. Девочки обзывали ее на потеху мальчишкам, порой гнали ее прочь. Брат с сестрой каждый день, хоть и по разным поводам, били, щипали ее, отбирали у нее еду. Она не очень расстраивалась, куда сильнее ее печалило кое-что другое, из-за чего она чувствовала себя маленькой и всем чужой. Других детей тоже бьют каждый день.
От нее с самых ранних лет требовали помощи по хозяйству. Она не помнила, когда это началось, но ее всегда заставляли что-то делать: подмести, натаскать воды, сбегать в лавку с поручением тетки. Когда девочка чуть подросла, она стирала одежду, чистила и резала овощи, грела воду для купания дяди и для семейного чая. Другим детям в деревне тоже приходилось помогать по хозяйству их дядям и теткам, и в доме, и в поле. У ее дяди и тетки не было ни поля, ни даже сада – ее заботы ограничивались домом и задним двором. Порой тетя была резка с ней, но чаще бывала добра и рассказывала истории. Некоторые из них были страшные, как история о распухшем оборванце с длинными грязными ногтями, который ночью ходит по дороге, волоча за собою железную цепь, и высматривает маленьких девочек, чтобы поймать и унести в свою берлогу. Его слышно издалека: цепь волочится по земле. Многие теткины истории были о грязных старикашках, которые крадут маленьких девочек. Если тетке случалось заметить, что Исса или Завади ее обижают, она ругала и даже наказывала их. Относитесь к бедняжке как к своей сестре, говорила тетка.
Мать ее умерла, девочка это знала, но она не знала, почему ее взяли к себе именно дядя и тетка. Однажды – ей шел шестой год – тетка сказала: «Мы взяли тебя, потому что ты осталась сиротой и твой отец болел. Твои мать и отец жили по соседству с нами, мы их знали. Твоя бедная мать много болела и умерла, когда ты была совсем маленькая, года два тебе было. Твой отец привел тебя к нам и попросил приютить, пока он не поправится, но он не поправился, Бог прибрал и его. Такие дела в руках Божьих. С тех пор ты наша обуза».
Тетка заговорила об этом после того, как, вымыв девочке волосы, смазывала их маслом и заплетала в косички, чтобы не было вшей (она проделывала это каждую неделю). Девочка сидела меж теткиных колен и не видела ее лица, но голос был мягкий, даже ласковый. После того как ей об этом сказали, она поняла, что никакие они ей не тетка и не дядя и что отец ее тоже умер. Матери она не помнила, но все равно тосковала по ней. Пыталась представить ее лицо, но видела кого-нибудь из деревенских женщин.
Дядя с ней почти не разговаривал, как и она с ним. Он хмурился, если она обращалась к нему, даже чтобы передать сообщение от тетки. Чтобы ее подозвать, он щелкал пальцами или кричал: «Эй, ты!» Звали его Макаме. Крупный, высокий, с круглым лицом, круглым носом и большим круглым брюхом. Он хотел, чтобы все и всегда было по его. Если он распекал кого-нибудь из детей, дом ходил ходуном от его гнева и все умолкали. Девочка старалась не встречаться с ним глазами, потому что боялась его раздраженного взгляда, его сердитого лица. Она знала, что он не любит ее, но не понимала, чем заслужила его нелюбовь. Кулаки у него были огромные, руки толщиной с ее шею. Влепит ей подзатыльник – она едва на ногах устоит, и закружится голова.
Тетка ее имела обыкновение, прежде чем высказать что-нибудь, несколько раз кивнуть, а поскольку лицо у нее было узкое, вытянутое, нос острый, то казалось, будто тетка клюет воздух. «Твой дядя очень сильный, – говаривала тетка. – Поэтому серикали[18] и взяли его сторожить склад. Он отпирает и запирает ворота, чтобы бродяги не шастали. Его выбрало правительство. Все его боятся. Говорят, у Макаме кулачищи как дубины. Если бы не он, люди хулиганили бы, воровали со склада».
Сколько себя помнила, девочка спала на полу у порога дома. Открыв поутру дверь, она видела холм, и даже ночью, когда дверь была закрыта, она знала, что он там, высится над деревней. Ночью лаяли собаки, над ее лицом зудели комары, за хлипкой потрескавшейся дверью трещали и скрежетали насекомые. Потом они умолкали, и шепот несся с холма до самого заднего двора дома. Девочка жмурилась, чтобы нечаянно не увидеть, как сквозь щели в двери на нее глядят чьи-то недовольные глаза.
Крохотный глинобитный дом был побелен внутри и снаружи. Две комнатки разделял коридор, задняя дверь вела на двор, окруженный тростниковой изгородью; здесь находились кухня и умывальня. Остальные четверо спали в большей из двух комнат, на одной кровати мать с дочерью, на другой – отец с сыном. Иногда дети спали в меньшей комнатке, днем служившей гостиной; здесь же хранили скарб, ели, принимали соседей, если тем случалось заглянуть в гости. Деревенька располагалась в глуши, водопровода здесь не было, потому-то девочке и приходилось таскать для дядиного купания и чая воду из глиняного бака: всякий раз, как вода заканчивалась, водонос пополнял запас. Водонос брал воду в деревенском колодце неподалеку и катил свою тележку от дома к дому, наполнял баки тех, кто ему платит. Многие сами ходили к колодцу или посылали детей, но ее тетя и дядя могли себе позволить заплатить.
Однажды тетка с девочкой стирали на заднем дворе, как вдруг у входной двери послышался чей-то голос. Иди посмотри, кто там, велела тетка. На пороге стоял мужчина в белой рубашке с длинным рукавом, брюках цвета хаки и мягких кожаных ботинках на толстой подошве. Он стоял на крыльце, в правой руке сжимал холщовую сумку. Явно из города, с побережья.
– Карибу[19], – вежливо поприветствовала его девочка.
– Марахаба[20], – улыбнулся мужчина и, помолчав, спросил: – Как тебя зовут?
– Афия, – ответила она.
Он улыбнулся еще шире и одновременно вздохнул. Присел на корточки, так что его лицо оказалось напротив ее лица.
– Я твой брат, – сказал мужчина. – Я так долго тебя искал. Я не знал, жива ли ты, живы ли ма и ба. Теперь я тебя нашел, слава богу. Есть кто дома?
Она кивнула, сходила за теткой, та вышла, вытирая руки о кангу. Мужчина выпрямился, представился.
– Я Ильяс, ее брат, – сказал он. – Я был в нашем старом доме и узнал, что мои родители умерли. Соседи сказали, моя сестра здесь. Я не знал.
Тетку, похоже, смутили его слова и, пожалуй, внешний вид. Он был одет как чиновник.
– Карибу. Мы не знали, где вы. Пожалуйста, подождите, Афия сейчас сходит за дядей, – ответила тетка. – Давай, сбегай.
Девочка помчалась на склад, передала дяде, что тетка его зовет, он спросил, в чем дело. Пришел мой брат, ответила Афия. Откуда, спросил дядя, но она уже побежала домой впереди него. Когда они подошли к дому, дядя слегка запыхался, но держался вежливо, улыбался: обычно дома он вел себя совсем иначе. Брат ее был в маленькой комнате, тесной и захламленной, как обычно, дядя вошел туда и с радостной улыбкой пожал ему руку.
– Добро пожаловать, брат наш. Мы благодарим Бога за то, что уберег вас и привел в наш дом, чтобы вы нашли сестру. Ваш отец сказал нам, что вы пропали. Мы не знали, где вас искать. Мы заботились о ней как могли. Она нам как родная дочь, – говорил дядя, прижав левую руку к сердцу и вытянув правую в знак приветствия.
– Не знаю, помните ли вы меня, но уверяю вас, я именно тот, кем представился, – сказал ее брат.
– Я вижу, как вы похожи, – ответил дядя. – В уверениях нет нужды.
Вернувшись чуть погодя с двумя стаканами воды на подносе, Афия застала их за беседой. Она слышала, как брат сказал:
– Спасибо, что заботились о ней столько лет. Не знаю, как вас и благодарить, но теперь я нашел ее, и мне хотелось бы, чтобы она жила со мною.
– Нам будет жаль с ней расставаться. – Лицо дяди блестело от высохшего пота. – Она нам как дочь, расходы на нее нам в радость, но, конечно, ей лучше жить с братом. Кровь есть кровь.
Они поговорили еще какое-то время и позвали ее. Брат жестом велел ей сесть и объяснил, что теперь она будет жить в городе вместе с ним. Ей нужно поскорее собрать вещи, и они поедут. Она за считаные минуты собрала узелок и была готова ехать. Тетка не сводила с нее глаз. Вот как, значит, ни спасибо, ни до свидания, с упреком заметила она. Спасибо, до свидания, произнесла Афия, стыдясь, что так торопится.
Она и не знала, что у нее есть настоящий брат. Ей не верилось, что он здесь, что он вот так просто вошел с дороги в дом и ждет, пока она соберется. Он такой красивый, опрятный, так беззаботно смеется. Впоследствии он сказал, что рассердился на ее дядю с теткой, но виду не подал, чтобы не показаться неблагодарным: ведь они приютили ее, хотя она им не родня. Они приютили ее, это что-то да значит. Он дал им денег, чтобы вознаградить за доброту, и зря, добавил он, потому что она у них ходила в грязных лохмотьях, как рабыня. «По-хорошему им самим следовало бы заплатить тебе за то, что столько лет заставляли тебя работать на них», – сказал брат. Тогда она не поняла, о чем он, но потом, когда поселилась у него, поняла.
Тем же утром, когда он нашел ее, они на телеге с ослом приехали в лавку Карима. Она никогда не ездила на телеге с ослом. В лавке они дождались попутной повозки, и на следующий день другая телега с ослом отвезла их в город; Афия сидела в телеге среди корзин манго, маниоки, мешков с зерном, ее брат – на скамейке с возницей. Ильяс привез ее в городок на побережье, где жил сам. В городке он снимал у одной семьи комнаты на первом этаже и, когда они приехали, отвел Афию наверх и познакомил с хозяевами. Дома была мать и дочери-подростки; они сказали, что Афия может приходить к ним, когда захочет. У брата Афия впервые в жизни спала на кровати. Ее кровать (с собственной москитной сеткой) была в одном конце комнаты, кровать брата – в другом. Посередине стоял стол: каждый день, возвращаясь с работы, брат усаживал ее за стол делать уроки.
Как-то утром, через несколько дней после приезда, брат отвез ее в государственную лечебницу у моря. Афия никогда не видела моря. Мужчина в белом халате оцарапал ей руку и попросил помочиться в горшок. Ильяс объяснил, что мужчина оцарапал ей руку, чтобы она не заболела лихорадкой, а моча нужна, чтобы проверить, нет ли у нее шистосомоза. Немецкая медицина, добавил брат.
Утром Ильяс уходил на работу, и Афия поднималась к хозяевам; они не возражали. Они расспрашивали ее обо всем, она отвечала, хоть и знала немного. Афия помогала им на кухне, потому что умела это делать, сидела с сестрами, когда они разговаривали или шили; порой они отправляли ее с поручениями в лавку неподалеку. Сестер звали Джамиля и Саада, Афия сразу сдружилась с ними. Потом возвращался домой их отец, и Афия ела с ними. Ей велели называть их отца «дядя Омари», и Афие казалось, будто они родня. Днем ее брат возвращался с работы, умывался, она приносила ему сверху обед и сидела с ним, пока он ел.
– Ты должна выучиться читать и писать, – сказал брат.
Афия никогда не видела, как читают и пишут, хотя и знала, как выглядят слова: видела их на коробках и жестянках в деревенской лавке, а на полке над табуретом лавочника видела книгу. Лавочник сказал ей, что книга священная и к ней нельзя прикасаться, не совершив омовения, как перед молитвой. Афия сомневалась, что научится читать такую священную книгу, но брат посмеялся над ней, усадил рядом с собою, принялся писать буквы и велел повторять за ним. Потом она писала буквы самостоятельно.
Однажды днем – хозяев не было дома – брат взял ее с собой в гости к другу. Друга звали Халифа, Ильяс сказал, это его лучший друг в городе. Они подтрунивали друг над другом, смеялись, чуть погодя брат сказал, им пора идти, но пообещал когда-нибудь снова взять Афию с собой в гости. Чаще всего по утрам она уходила наверх, сидела с Джамилей и Саадой, пока те готовили, болтали, шили, порой по вечерам Ильяс уходил в кафе или к друзьям, она поднималась к сестрам, писала и читала под их восхищенными взглядами. Ни они, ни их мать читать не умели.
По вечерам Ильяс не всегда уходил из дома, порой оставался с Афией, учил ее играть в карты или петь, рассказывал о своей жизни. Вот что он говорил:
– Я убежал из дома, когда мама носила тебя. Я сам не думал, что убегу. Мне было всего одиннадцать. Мама с папой были очень бедны. Все были бедны. Не знаю, как они существовали, как выживали. У папы был сахар, ему нездоровилось, работать он не мог. Может, им помогали соседи. Я ходил вечно голодный и в лохмотьях. Две мои младшие сестры умерли вскоре после рождения. Думаю, от малярии, но я сам тогда был ребенком и ничего не смыслил в таких вещах. Помню, как они умирали. Им было всего несколько месяцев, когда они заболели, несколько дней плакали, кричали, потом умерли. Порой ночью я не мог заснуть от голода и от папиных громких стонов. Ноги его распухли и воняли тухлым мясом. Он не виноват, это все сахар. Не реви, я вижу, у тебя глаза на мокром месте. Я говорю это все не чтобы тебя расстроить, а чтобы объяснить, что убежал из дома не без причины.
Я сам не ожидал, что убегу, но однажды пошел гулять и не вернулся. На меня никто не обращал внимания. Когда мне хотелось есть, я выпрашивал пищу или воровал фрукты, а по ночам укрывался где-нибудь и спал. Иногда мне бывало очень страшно, но порой я забывал о себе и просто-напросто наблюдал за тем, что творится вокруг. Через несколько дней я пришел в большой город у моря, в этот город. По улицам маршировали солдаты, играла музыка, грохотали сапоги, рядом с солдатами маршировали мальчишки, словно они тоже солдаты. Я увязался за ними, зачарованный военной формой, музыкой, маршем. Он окончился на вокзале; я глазел на железные вагоны, каждый величиною с дом. Паровоз ревел, пыхал паром, как живой. Я впервые увидел поезд. На платформе стоял отряд аскари, дожидаясь посадки, я бродил вокруг них, смотрел, слушал. Тогда еще воевали с Маджи-Маджи. Ты знаешь об этом? Я тогда тоже не знал. Про Маджи-Маджи я тебе потом расскажу. Наконец поезд приготовили, и аскари стали садиться. Один из аскари, шангаан, схватил меня за руку, затащил в вагон, я вырывался, а он смеялся и не выпускал меня. Я-де буду его оруженосцем, буду во время маршей носить его ружье. Тебе понравится, сказал он. И не выпускал меня из поезда до самой конечной станции – куда уж тогда дотянули железную дорогу, – а потом мы несколько дней шагали до городка в горах.
Когда мы пришли, мне велели ждать во дворе. Наверное, шангаан решил, что я не сбегу, поэтому уже не держал меня за руку. А может, он думал, что мне некуда бежать. Я увидел индийца, он стоял у каких-то ящиков, командовал грузчиками и делал пометки на картонке. Я подбежал к нему и сказал, что этот аскари похитил меня из дома. Индиец ответил: «Пошел прочь, малолетний воришка!» Наверное, потому что я был очень грязный. Одет в лохмотья: короткие штанишки из дерюги, рваная старая рубаха, которую я даже не стирал. Я сказал индийцу, что меня звать Ильяс и что вон тот высокий шангаан-аскари, который стоит и смотрит на нас, похитил меня из дома. Индиец сперва отвернулся, а потом спросил: «Как бишь тебя?» Заставил меня дважды повторить мое имя, улыбнулся и произнес: Ильяс. Потом кивнул, взял меня за руку, – тут Ильяс взял за руку Афию, улыбнулся, как тот индиец, и поднялся на ноги, – подвел к немцу-военному в белой форме, он тоже стоял во дворе. Этот военный был командиром аскари и как раз занимался солдатами. У него были волосы цвета песка и такие же брови. Я впервые очутился так близко к немцу, и вот что я увидел. Он хмуро взглянул на меня, что-то ответил индийцу, и тот сказал, что я свободен и могу идти. Я возразил, что идти мне некуда, командир аскари услышал это, снова нахмурился и позвал другого немца.
Они сели, Афия по-прежнему улыбалась, глаза ее лучились удовольствием от рассказа. Ильяс продолжал, на-супясь:
– Этот второй немец был не военный в красивой белой форме, а гражданский сурового вида, он командовал рабочими, которые грузили ящики – те, что пересчитывал индиец. Военный ему что-то сказал, он поманил меня к себе и отрывисто спросил: «Так что с тобой случилось?» Я ответил, меня зовут Ильяс, аскари похитил меня из дома. Немец повторил мое имя и улыбнулся. Ильяс, произнес он, какое красивое имя. Постой здесь, я скоро закончу. Стоять я не стал: ходил за ним хвостом, боялся, что меня заберет аскари. Немец этот работал на кофейной плантации в горах неподалеку. Плантация принадлежала другому немцу. Первый немец привел меня с собой на плантацию, нашел мне работу в хлеву. У них были ослы и лошадь в отдельном стойле. Да, лошадь, не жеребец, очень крупная, я боялся ее. Плантация была новая, дел невпроворот. Поэтому тот суровый немец и привел меня сюда: им нужны были рабочие руки.
Плантатор увидел, как я убираю навоз в хлеву или еще что-то делаю, уже не помню. И спросил того немца, который привел меня со станции, кто я такой. А когда узнал, что меня похитил аскари, разозлился. «Мы не должны вести себя как дикари – сказал плантатор. – Мы не за этим сюда приехали». Я знаю, что он сказал именно это: он сам потом передал мне свои слова. Он был доволен своим поступком и с гордостью рассказывал о нем и мне, и другим. Он сказал, что я слишком мал, чтобы работать, я должен ходить в школу. Немцы сюда приехали не для того, чтобы заводить рабов, сказал он. И мне разрешили посещать воскресную школу для новообращенных. На плантации я прожил не один год.
– Я тогда уже родилась? – спросила Афия.
– Еще бы, ты, наверное, родилась через несколько месяцев после того, как я убежал, – ответил Ильяс. – Я провел на плантации девять лет, то есть тебе сейчас около десяти. Мне там правда нравилось. Я работал в поле, ходил в школу, учился читать, писать, петь, говорить по-немецки.
И он пропел несколько куплетов какой-то песни – видимо, немецкой. Афия подумала, что у брата красивый голос, и захлопала, когда он допел. Ильяс довольно улыбался. Он обожал петь.
– В один прекрасный день, не так давно, – продолжал он, – плантатор вызвал меня на разговор. Он был мне как отец. Он заботился обо всех работниках и, если кому случалось занемочь, отправлял его лечиться в больницу при миссии. Он спросил, хочу ли я остаться на плантации. Сказал, что для простого работника я теперь слишком хорошо образован, не хочу ли я вернуться в город на побережье, ведь там возможностей куда больше? Дал мне письмо к своему родственнику, у которого здесь фабрика по производству сизаля. Написал, что я почтительный и надежный, умею читать и писать по-немецки. Он прочел мне письмо, прежде чем заклеить конверт. Вот почему я работаю письмоводителем на немецкой сизалевой фабрике, вот почему ты тоже должна учиться читать и писать: так ты однажды сумеешь узнать мир и позаботиться о себе.
– Да, – ответила Афия, пока что не готовая думать о будущем. – А у плантатора тоже были волосы цвета песка, как у того немца в белой форме?
– Нет, – сказал Ильяс. – Он был темноволосый. Стройный, спокойный, никогда не кричал на работников, не обижал их. Он был похож на… Schüler, ученого, такой же сдержанный.
Афия задумалась над описанием плантатора, а потом спросила:
– А у нашего папы тоже были темные волосы?
– Наверное, да. Когда я убежал из дома, он уже поседел, но в молодости, скорее всего, был темноволосый, – ответил Ильяс.
– Твой плантатор выглядел как наш папа? – уточнила Афия.
Ильяс рассмеялся.
– Нет, он выглядел как немец, – сказал он. – Наш папа… – Ильяс осекся, покачал головой и надолго замолчал. – Наш папа болел, – наконец закончил он.
* * *– Не хочу плохо говорить о покойниках, да еще сразу после смерти, – сказал Халифа Ильясу, – но старик был настоящий пират. Молодого таджири[21] я знаю давно. Когда я начал работать на бвану Амура, ему было, кажется, лет девять, совсем мальчишка. А теперь взрослый парень, но всего боится, да и как иначе, если отец его вечно скрытничал, ничего ему не говорил? И вот тебе пожалуйста – явились кредиторы и ограбили его. После смерти отца поднялась неразбериха, и парень лишился большей части наследства. Он ничего не знал об отцовских делах, и эти пираты его ограбили. Ему лишь бы работать с деревом. Он даже уговорил отца купить ему склад пиломатериалов и мебельную мастерскую. Постоянно торчит на складе: там ведь деревом пахнет, он это любит. А все остальное летит в тартарары.
Про дом я тебе уже рассказывал. Мы-то надеялись, что он не такой подлец, как его папенька, и прислушается к просьбе Би Аши, а он оказался такой же жадюга. У него нет никакого права на этот дом. И по совести он должен бы вернуть его законной владелице, а он отказался наотрез, хотя сам удивился, узнав, что дом уже не принадлежит Би Аше. Пожалуй, он мог бы нас выгнать, но, по-моему, боится мою жену. Она его двоюродная сестра, родной человек, а он отказывается вернуть дом, который по праву принадлежит ее семье. Такой вот жадный негодяй.
Двое мужчин любили встречаться днем или вечером в кафе. Присоединялись к общей беседе, ради чего и собирались: Халифа знал многих, представил Ильяса другим, просил рассказывать о жизни, чаще всего о том, как учился в немецкой школе в горах, о плантаторе-немце, его благодетеле. Другим тоже было что рассказать, в некоторые истории даже не верилось, но так уж повелось в кафе: чем неправдоподобнее, тем лучше. Халифа слыл знатоком историй и сплетен, порой его просили рассудить, какой из вариантов ближе к истине. Наговорившись, друзья гуляли по берегу моря или возвращались на крыльцо дома Халифы, куда по вечерам сходились на баразу его знакомцы. Тогда всех занимали слухи о грядущей войне с англичанами: люди говорили, что война будет большая, не чета былым стычкам с арабами, суахили, хехе, ваньямвези, меру и прочими. Правда, и те были страшные, эта же война будет большая! У англичан боевые корабли величиной с гору, лодки, что плавают под водой, и пушки, стреляющие по городам за многие мили. Поговаривали даже, что у них есть летающая машина, хотя ее никто не видел.
– У англичан нет ни единого шанса, – заявил Ильяс под одобрительный гомон собравшихся. – Немцы – народ умный и способный. Они знают, как навести порядок, умеют сражаться. Они всё продумывают… Кроме того, они намного добрее англичан.
Слушатели расхохотались.
– Уж не знаю насчет доброты, – возразил один из заседавших в кафе мудрецов по имени Мангунгу. – Как по мне, победить англичан немцам поможет их жестокость и зверства аскари из числа нубийцев и ваньямвези. Немцы – самый жестокий народ.