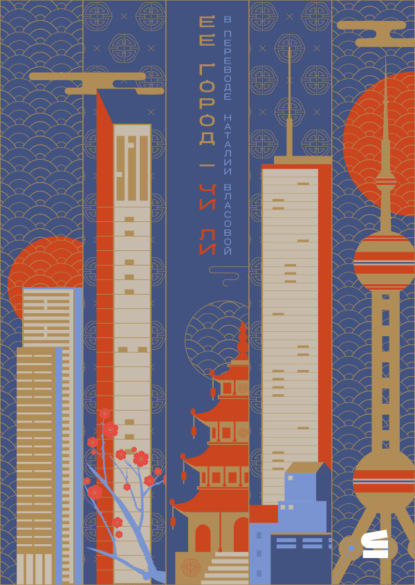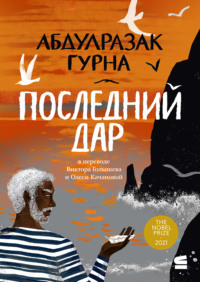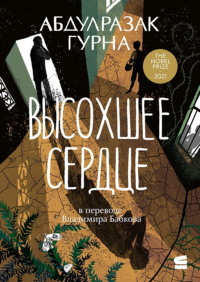Полная версия
Посмертие
Халифа с Ашой поженились в начале 1907 года. Восстание Маджи-Маджи переживало агонию: его подавили ценой бесчисленных жертв, жизней и благополучия африканцев. Начавшийся в Линди[9] бунт охватил всю сельскую местность, городки на западе и на юге. Беспорядки длились три года. И чем упорнее народ сопротивлялся германскому господству, тем сильнее зверствовали колониальные власти. Германское командование поняло, что одной военной силой восстание не подавить, и решило уморить народ голодом. Всех жителей мятежных районов шуцтруппе считала бунтовщиками. Германцы сжигали деревни, вытаптывали посевы, грабили продуктовые лавки. На виселицах вдоль дорог висели трупы африканцев; вокруг простиралась выжженная, объятая страхом земля. В той части страны, где жили Аша и Халифа, о происходящем знали понаслышке. Для них это были страшные сказки, ведь в их городе никто не бунтовал. С тех пор как повесили Бушири, мятежи прекратились, хотя угроза, что германцы будут мстить, никуда не ис-чезла.
Германцы никак не ожидали, что местные жители не пожелают стать подданными Германской Восточной Африки и будут так отчаянно сопротивляться – даже после показательной расправы с вахехе на юге, вачагга и меру в горах на северо-востоке. Восстание Маджи-Маджи подавили: сотни тысяч умерли от голода и ранений; многих казнили. Кое-кто из правителей Германской Восточной Африки считал подобный исход неизбежным. Все равно они рано или поздно умерли бы. Пока же империя должна показать африканцам мертвую хватку германской власти, дабы научить их безропотно нести ярмо. С каждым днем германцы сильнее сдавливали этим ярмом шеи строптивых подданных. Колониальные власти усиливали влияние в стране, чиновников становилось все больше, их влияние распространялось все дальше. Из Германии прибывали всё новые и новые поселенцы; у местных жителей отбирали хорошую землю, неволили прокладывать дороги, чистить придорожные канавы, разбивать сады и бульвары – для отдыха колонистов и во славу империи. Германцы припозднились строить империю в этой части света, но намерены были закрепиться, остаться надолго, а потому и располагались со всем удобством. Они возводили церкви, учреждения с колоннадами, крепости с зубчатыми стенами – чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, устрашить порабощенных подданных и произвести впечатление на противников.
Однако недавнее восстание заставило кое-кого из германцев изменить мнение. Они поняли, что одного насилия недостаточно, дабы подчинить себе колонию и наладить там жизнь; германцы надумали строить лечебницы, проводили кампании по борьбе с холерой и малярией. Сперва эти меры принимали ради здоровья и благополучия поселенцев, чиновников и шуцтруппе, но потом распространили и на местное население. Власти открывали и школы. В городе уже была хорошая школа, ее открыли несколько лет назад: здесь готовили учителей и государственных служащих из числа африканцев, но количество учащихся было невелико, сюда принимали только покорных. Теперь же появились начальные школы для широкого круга подданных, и Амур Биашара одним из первых отправил туда сына. Когда Халифа устроился работать к Амуру Биашаре, Нассору (так звали сына) было девять; учиться он пошел в четырнадцать. Поздновато, конечно, но ничего страшного: все равно в его школе преподавали не алгебру, а ремесла, и четырнадцать лет – подходящий возраст, чтобы учиться пилить, класть кирпичи и махать кувалдой. Там-то Нассор и выучился работать по дереву. Он провел в школе четыре года и за это время освоил грамоту, счет и плотницкое дело.
Аша и Халифа вынесли из этих лет совсем другие уроки. Халифа понял, что жена его – женщина энергичная и упрямая, знает, чего хочет, и не любит сидеть без дела. Сперва он дивился ее энергии, посмеивался над ее категоричными суждениями о соседях. Они завистники, богохульники и злодеи, твердила Аша. Полно, отвечал Халифа, ты преувеличиваешь, и она раздраженно хмурилась. Ничего я не преувеличиваю, возражала Аша. Я всю жизнь живу с ними бок о бок. Поначалу Халифа думал, Аша то и дело поминает Бога и цитирует стихи Корана лишь для красного словца, как любят некоторые, но потом осознал, что это вовсе не похвальба мудростью и ученостью, а глубокая набожность. Он считал, что она несчастлива, и как умел скрашивал ее одиночество. Он старался разбудить в ней ту же страсть, какую сам питал к ней, но Аша держалась замкнуто, отстраненно, и Халифе казалось, что она едва его терпит – в лучшем случае смиренно уступает его пылу и ласкам.
Она осознала, что сильнее него, хотя далеко не сразу отважилась себе в этом признаться. Она понимала, чего хочет – не всегда, но часто, – а поняв, стояла на своем, Халифу же запросто можно было сбить с толку (он и сам частенько сбивался). Память об отце, к которому Аша старалась хранить уважение, как требовала религия, мешалась с досадой на мужа; ей все чаще и чаще приходилось сдерживаться. Порой, не сумев одолеть раздражения, она ярилась на Халифу, о чем впоследствии жалела. Халифа был надежен, но безропотно подчинялся ее дяде – вору, лицемеру и святоше. Муж ее довольствовался малым, им часто пользовались, ну да пусть будет воля Его, а она постарается смириться. Но бесконечные истории Халифы ее утомляли.
В первые годы брака у Аши было три выкидыша. После третьей неудачной беременности за три года соседки уговорили ее показаться знахарке, мганге. Та велела ей лечь на пол и с головой накрыла ее кангой[10]. Знахарка долго сидела возле Аши, напевая вполголоса повторяющиеся фразы, произносила слова, которых Аша не могла разобрать. В конце концов мганга сказала Аше, что в нее вселилось невидимое и не дает ребенку вырасти в ней. Невидимое можно уговорить уйти: нужно выяснить, чего оно хочет, и выполнить эти требования. Единственный способ узнать о них – позволить невидимому говорить устами Аши, а для этого необходимо, чтобы оно овладело ею целиком.
Мганга сходила за помощницей, велела Аше снова лечь на пол. Они накрыли ее плотным покрывалом-макерани, забормотали, запели, склонившись над ее головой. Время шло, мганга с помощницей пели, Аша дрожала все сильнее и в конце концов разразилась непонятными словами и звуками. Ее тирада окончилась воплем, после чего Аша произнесла ясным, но чужим голосом: я оставлю эту женщину, если ее муж пообещает, что они поедут в хадж, он будет регулярно посещать мечеть и перестанет нюхать табак. Мганга победоносно крякнула и приготовила зелье, от которого Аша успокоилась и задремала.
Когда мганга в присутствии Аши сообщила Халифе о требованиях невидимого, он кивнул и заплатил знахарке причитающееся. Я больше не буду нюхать табак, пообещал Халифа, сейчас же совершу омовение и пойду в мечеть. На обратном пути разузнаю, как нам отправиться в хадж. Только избавьте нас от этого злого духа.
Халифа и правда отказался от табака, день-другой посещал мечеть, но о хадже больше не заикался. Аша понимала, что, хотя Халифа и уступил, в душе он смеется над ней и не верит знахарке. Обиднее всего было то, что Аша сама согласилась на нечестивое лечение, которое предложили соседи. Они ей все уши прожужжали, но ведь ее тоже раздражало, что Халифа не молится, и больше всего на свете ей хотелось совершить хадж. И его молчаливая насмешка над ее желаниями вносила холод в их отношения. Аше уже не хотелось беременеть от него, и она прибегала к уловкам, дабы остудить его пыл, уклонялась от его досадных приставаний.
В восемнадцать лет Нассор Биашара кончил курс и вышел из германской ремесленной школы, опьяненный запахом древесины. Амур Биашара во всем потакал сыну. Он не рассчитывал сделать из него помощника по той же самой причине, по какой не хотел, чтобы Халифа входил в подробности его многочисленных сделок. Купец предпочитал работать в одиночку. И когда Нассор попросил у отца денег, чтобы открыть столярную мастерскую, Биашара обрадовался – и потому что это показалось ему хорошей затеей, и потому что сын до поры до времени не станет мешаться в его дела. А ввести его в курс дела всегда успеется.
Старые купцы привыкли брать и давать взаймы на доверии. Некоторые знали друг друга только по переписке или через общих знакомых. Деньги переходили из рук в руки: одни долги в уплату за другие, партии товаров, купленные и проданные заглазно. Связи эти тянулись до самого Могадишо, Адена, Маската, Бомбея, Калькутты и других легендарных мест. Обитателям городка эти названия казались музыкой – вероятно, потому что большинство ни в одном из них не бывало. Не то чтобы они не догадывались, что и в тех далеких краях, как всюду, есть невзгоды, трудности, нищета, однако же горожане не могли устоять перед диковинной красотой их имен.
Сделки старых купцов строились на доверии, но это не значит, что они доверяли друг другу. Потому-то Амур Биашара и вел все подсчеты в уме, не заботясь о том, чтобы привести документы в порядок; в конце концов эта хитрость его подвела. Невезение ли, злой рок, провидение, называйте как хотите, но в одну из эпидемий, случавшихся куда чаще до тех пор, пока не пришли европейцы со своей медициной и гигиеной, Биашара вдруг занемог. Кто бы мог подумать, что в грязи, в которой привыкли жить люди, таится столько недугов? Словом, Биашара заболел, несмотря на старания европейцев. В конце концов, каждому свой срок. То ли грязная вода, то ли тухлое мясо, то ли укус ядовитого насекомого послужили причиной, но однажды он проснулся чуть свет от рвоты и лихорадки – и уже не поднялся с постели. Через пять дней Биашара умер, не приходя в сознание. В последние пять дней он толком ничего не соображал и унес все секреты с собой в могилу. Тут же явились его кредиторы: у них-то в бумагах царил порядок. Должники его затаились; вдруг выяснилось, что состояние старого купца намного меньше, чем судачили люди. Может, он и хотел вернуть Аше дом, да так и не собрался и в завещании ничего ей не выделил. Отныне дом принадлежал Нассору Биашаре вместе со всем, что осталось после того, как мать и две сестры Нассора забрали свою долю, а кредиторы – свою.
2
Ильяс приехал в городок незадолго до скоропостижной смерти Амура Биашары. При себе у него было рекомендательное письмо к управляющему большой германской плантацией агавы. К управляющему его не пустили: тот был еще и совладельцем плантации, и его не следовало тревожить по таким пустякам. В конторе у Ильяса взяли письмо и велели ждать. Конторский служащий предложил ему стакан воды и завел беседу, чтобы прощупать почву, вызнать, кто это и зачем пожаловал. Чуть погодя из дальней комнаты конторы вышел молоденький немчик и сказал Ильясу: вы приняты. Служащему (его звали Хабиб) поручили устроить Ильяса. Хабиб отвел его к школьному учителю Маалиму Абдалле, тот помог Ильясу снять комнату у знакомой семьи. К середине своего первого дня в городке Ильяс уже обзавелся работой и жильем. Маалим Абдалла сказал, что попозже зайдет за ним и кое с кем познакомит. Ближе к вечеру он зашел за Ильясом и повел его пройтись. Они заглянули в два кафе, чтобы выпить кофе, поболтать и представить Ильяса местным.
– Наш брат Ильяс приехал работать на плантацию агавы, – объявил Маалим Абдалла. – Он друг управляющего, знатного немецкого господина. Немецкий язык Ильясу как родной. Он пока поживет у Омара Хамдани, а потом его светлость подыщет Ильясу жилье, достойное столь ценного сотрудника.
Ильяс улыбался, протестовал, подшучивал над собой. Самоирония и непринужденный смех Ильяса располагали к нему горожан и помогали заводить друзей. Так бывало всегда. Потом Маалим Абдалла отвел его в порт, в немецкую часть городка, показал резиденцию комиссара. Ильяс спросил, не здесь ли повесили Бушири, Маалим Абдалла ответил: нет, Бушири повесили в Пангани. Здесь места маловато. Германцы устроили из казни спектакль, наверняка с оркестром, зрителями, марширующими солдатами. Для этого нужно много места. Их прогулка окончилась у Халифы: его дом служил учителю постоянной баразой[11], сюда он обычно приходил по вечерам поболтать, посплетничать.
– Добро пожаловать, – сказал Халифа Ильясу. – Всем нужна бараза, куда можно прийти вечерком, пообщаться, узнать новости. Все равно в нашем городе после работы больше нечем заняться.
Ильяс и Халифа быстро сдружились и через считаные дни уже рассказывали друг другу обо всем без утайки. Ильяс признался Халифе, что ребенком сбежал из дома, несколько дней скитался, потом на вокзале его забрали аскари из шуцтруппе, отвезли в горы. Там его освободили и отправили в германскую школу при миссии.
– Тебя заставляли молиться как христианин? – спросил Халифа.
Они гуляли по берегу моря, их никто не слышал, но Ильяс на миг замолчал, поджал губы: это было на него не похоже.
– Если я скажу тебе, ты ведь никому не расскажешь, правда? – произнес он наконец.
– Значит, заставляли, – удовлетворенно проговорил Халифа. – Они ввели тебя в грех.
– Только не говори никому, – взмолился Ильяс. – Иначе меня выгнали бы из школы, вот я и притворялся. Они были очень довольны, а я знал: Бог видит, что у меня на сердце.
– Мнафики[12], – сказал Халифа, чтобы помучить Ильяса. – Лицемеров на том свете ждет отдельная кара. Рассказать тебе о ней? Нет, это неописуемо, и тебя обязательно накажут за это.
– Господь ведает, что у меня на сердце, за семью печатями. – Ильяс прижал руку к груди и тоже заулыбался, поняв, что Халифа поддразнивает его. – Я жил и работал на кофейной плантации, она принадлежала тому немцу, который отправил меня в школу.
– Там все еще воюют? – спросил Халифа.
– Может, раньше и воевали, не знаю, но когда я был там, все уже кончилось, – ответил Ильяс. – Там было очень спокойно. Новые фермы, школы, новые города. Местные жители посылали детей учиться в школу при миссии, сами работали на фермах у немцев. Если и случались волнения, то из-за плохих людей, которые сеют смуту. Фермер, который отправил меня сюда, дал письмо, оно помогло мне найти здесь работу. Управляющий плантацией – его родст-венник.
Чуть погодя Ильяс сказал:
– А в деревню, где раньше жил, я так и не вернулся. Не знаю, что стало со стариками. И только сейчас, когда приехал в этот город, понял, что деревня-то совсем рядом. Хотя я и до приезда знал, что буду неподалеку от дома, но старался не думать об этом.
– Обязательно их навести, – сказал Халифа. – Сколько ты там уже не был?
– Десять лет, – ответил Ильяс. – Зачем я туда поеду?
– Съезди обязательно, – настаивал Халифа, вспомнив, как пренебрегал родителями и как потом мучился чувством вины. – Повидайся с семьей. Туда от силы день-два дороги, если кто подвезет. Нехорошо родни сторониться. Съезди, скажи им, что у тебя все в порядке. Хочешь, я поеду с тобой.
– Нет, – решительно возразил Ильяс, – ты не знаешь, какая это дыра.
– Так съезди, покажи им, чего добился. Это твой дом, семья есть семья, что бы ты себе ни думал, – нажимал Халифа, заметив, что Ильяс готов сдаться.
Ильяс нахмурился, но чуть погодя взгляд его прояс-нился.
– Съезжу, – произнес он с воодушевлением. Халифа вскоре узнал, что Ильяс всегда так: загорится желанием – и сразу за дело. – Правильно ты говоришь. Я съезжу один. Я много думал об этом, но все откладывал. А ты меня уговорил: язык у тебя хорошо подвешен.
Халифа условился с возчиком, направлявшимся в те края, что тот немного подвезет Ильяса. И назвал ему знакомого торговца, который жил на большой дороге неподалеку от деревни. У него при необходимости можно заночевать. Несколько дней спустя Ильяс на телеге, запряженной ослицей, трясся по ухабистой дороге на юг вдоль побережья. Возчик, старик-белудж, развозил товары в лавки по пути. Груз его был невелик. Старик завернул в две лавки, после чего выехал на дорогу получше, ведшую вглубь страны, и так припустил, что уже к середине дня они прибыли к знакомцу Халифы. Знакомец, индийский купец по имени Карим, торговал продуктами. Покупал у местных жителей овощи и фрукты и отправлял в город на рынок: бананы, маниоку, тыквы, батат, окру – словом, все, что не испортится за день-другой пути. Белудж накормил и напоил ослицу, после чего принялся шептаться с ней о чем-то (так показалось Ильясу). Возчик сказал, что время еще не позднее, значит, можно пуститься в обратный путь, а заночует он в одной из тех лавок, куда утром завез товар: ослица не возражает. Карим следил за погрузкой продуктов на телегу белуджа, записывал цифры в гроссбухе и на клочке бумаги, который возчик должен был передать своему перекупщику с рынка.
Когда белудж уехал, Ильяс объяснил, что ему нужно. Карим с сомнением взглянул на солнце, достал часы из кармана жилета, демонстративно отщелкнул крышку и печально покачал головой.
– Завтра утром, – ответил он. – Сегодня никак нельзя. До магриба[13] осталось всего полтора часа, а пока я найду вам возчика, уже будут сумерки. Ночью на дороге делать нечего. Незачем лезть на рожон. Еще заплутаете или наткнетесь на лихих людей. Завтра утром сразу же и поедете. Я сегодня вечером поговорю с возчиком, а пока отдохните, будьте нашим гостем. У нас есть комнатка для посетителей. Идемте.
Ильяса отвели в примыкающую к лавке каморку с земляным полом. Двери что в лавке, что в каморке были хлипкие, из ржавых листов гофрированного металла, с висячими железными замками – скорее для виду, чем для защиты. В каморке стояла койка с сеткой, на которую был брошен тюфяк (наверняка он кишит клопами, подумал Ильяс). Он сразу заметил, что москитной сетки нет, и обреченно вздохнул. Каморка предназначалась для странствующих торговцев, привыкших к лишениям, да и выбора у него не было. Нельзя же ожидать, что Карим пустит незнакомого мужчину к себе в дом.
Ильяс повесил холщовую сумку на дверь и вышел осмотреться. Дом Карима, крепкое здание с двумя зарешеченными окнами на фасаде по бокам от входной двери, стоял в том же дворе. Три ступеньки вели на террасу. Там на циновке сидел Карим; заметив Ильяса, помахал ему рукой. Они поговорили о городке, об эпидемии холеры, опустошающей Занзибар, о делах; девочка лет семи-восьми вынесла из дома две чашечки кофе на подносе. Приближались сумерки, Карим снова достал карманные часы и посмотрел на время.
– Пора совершать магриб, – объявил он, крикнул, мгновение спустя из дома вновь вышла девочка, на этот раз сгибаясь под тяжестью ведра с водой. Карим со смехом забрал у нее ведро. Спустился с террасы, поставил ведро на каменное возвышение для омовения ног. Жестом пригласил гостя первым омыть ноги, но Ильяс решительно воспротивился, и Карим очистился перед молитвой. Настала очередь Ильяса, и он повторил то, что делал Карим. Они поднялись на террасу, чтобы совершить намаз, и Карим, как требовали традиции и учтивость, предложил Ильясу прочесть молитву. Тот снова решительно воспротивился, и Карим прочел мо-литву сам.
Ильяс не умел молиться, не знал молитв. Ни разу не бывал в мечети. Там, где он жил в детстве, и на кофейной плантации, где он впоследствии провел столько лет, не было ни одной. Мечеть была в соседнем городке в горах, но ни в школе, ни на плантации никто ему не говорил, что туда нужно ходить. А потом учиться стало поздно, слишком стыдно. Он тогда уже был взрослым человеком, работал на плантации агавы, жил в городе, изобиловавшем мечетями, но и там никто не звал его в мечеть. Ильяс догадывался, что рано или поздно оконфузится. Когда Карим предложил ему помолиться, он понял, что попался, и принялся притворяться, копировал его жесты, что-то бормотал – якобы священные слова.
Карим, как и обещал, договорился с возницей, что тот отвезет Ильяса в его старую деревню: она располагалась неподалеку. Ночь прошла беспокойно, и поутру, едва заслышав копошение во дворе, Ильяс тотчас же вышел из каморки. Позавтракал предложенным ему бананом и чаем в железной кружке и принялся ждать, когда приедет возница. Ильяс заметил, что девочка подметает двор, но мать ее не показывалась. Возница, совсем юный парнишка, радовался, что подвернулась возможность прокатиться, и всю дорогу болтал о проделках, которые устраивал с друзьями. Ильяс вежливо слушал, смеялся впопад, но про себя думал: вот же деревенский дурачок.
Через час или около того они достигли деревни. Возница сказал, что подождет на дороге, потому что тропинка в деревню для телеги слишком узка. Тем более что от дороги до деревни рукой подать. Я знаю, ответил Ильяс, и направился туда, где стоял его старый дом. Вокруг все было запущенное и такое знакомое, точно он отсутствовал всего несколько месяцев. Деревенька была небольшая: горстка разбросанных там-сям хижин с соломенными крышами, чуть поодаль – небольшие распаханные поля. Не доходя до своего старого дома, Ильяс заметил женщину: ее имени он не помнил, но лицо показалось ему знакомым. Женщина сидела перед ветхой на вид хижиной из прутьев и глины, плела циновку из листьев кокосовой пальмы. На трех камнях у ее ног грелась вода в котелке, две курицы что-то клевали возле дома. Заметив приближающегося Ильяса, женщина расправила кангу и покрыла голову.
– Шикамо[14], – сказал он.
Она ответила и замолчала, оглядев с головы до пят Ильяса в городском платье. Возраст ее угадать было невозможно, но если она та, кто он думает, ее дети – ровесники Ильяса. Одного из ее сыновей звали Хассан, вдруг вспомнил Ильяс, он играл с ним в детстве. Отца Ильяса тоже звали Хассаном, потому он так легко вспомнил это имя. Сидящая на невысокой скамеечке женщина не встала и даже не улыб-нулась.
– Меня зовут Ильяс. Я раньше жил здесь. – Он назвал ей имена своих родителей. – Они все еще живут здесь?
Она не ответила: то ли не расслышала, то ли не поняла. Ильяс двинулся было дальше, чтобы увидеть все своими глазами, но тут из дома вышел мужчина. Он был старше женщины; мужчина, прихрамывая, приблизился к Ильясу и впился в него взглядом, точно плохо видел. Небритый, морщинистый, судя по всему, больной и слабый. Ильяс снова назвал свое имя и имена своих родителей. Мужчина и женщина переглянулись, и женщина проговорила:
– Помню я это имя, Ильяс. Ты тот, который потерялся? – Она прикрыла голову руками, выражая сочувствие. – Тогда много чего творилось дурного, мы все думали, с тобой стряслась беда. Мы думали, тебя украли руга-руга[15] или ва-манга[16]. Мы думали, тебя убили мдачи[17]. Чего мы только не передумали. Да, я помню Ильяса. Так это ты? Выглядишь как чиновник. Твоя мать давно умерла. Там теперь никто не живет, их дом развалился. Она была такая злосчастная, что никто не захотел в нем жить. Она оставила твоему отцу малышку, ей было месяцев пятнадцать-шестнадцать, а он оставил ее другим людям.
Ильяс не понял, что женщина имеет в виду, и уточнил:
– Оставил другим людям. Что это значит?
– Он отдал ее, – натужно проскрипел мужчина. – Он был очень беден. Очень болен. Как все мы. И отдал ее. – Мужчина поднял руку и указал на большую дорогу: говорить у него не осталось сил.
– Афия, так ее звали. Афия, – продолжала женщина. – Откуда ты приехал? Твоя мать умерла. Твой отец умер. Твою сестру отдали. Где ты был?
Ильяс так и думал, что родители наверняка умерли. Все его детство отец болел диабетом, мать страдала неизвестными женскими хворями. Вдобавок у нее часто ломило спину, ей было трудно дышать, в груди копилась мокрота, мать тошнило от бесконечных беременностей. Он так и думал, и все равно внезапное известие об их смерти застало его врасплох.
– Моя сестра в деревне? – спросил он наконец.
Мужчина измученным голосом ответил ему, где искать семью, которая взяла к себе Афию. Проводил Ильяса до дороги и объяснил вознице, как ехать.
* * *Над придорожной деревенькой, где прошло ее детство, высился темный конический холм, поросший кустарником. Выходя из дома, она всякий раз видела, как он нависает над домами и дворами на противоположной стороне дороги, но в раннем детстве она этого не понимала и осознала, лишь когда научилась придавать значение привычным вещам. Ей запретили подниматься на холм, но не объяснили почему, и она населила его всеми ужасами, которые сумела вообразить. Подниматься на холм ей запретила тетка; она же рассказывала истории о змее, которая может проглотить ребенка, о великане, чья тень в полнолуние скользит по крышам домов, о лохматой старухе, что бродит по дороге, ведущей к морю, и порой оборачивается леопардом, чтобы украсть в деревне младенца или козу. Тетка этого не говорила, но девочка верила, что и змея, и великан, и лохматая старуха живут на вершине холма и спускаются оттуда вселять страх в местных жителей.
За домами и задворками тянулись поля, за ними высился холм. Когда девочка чуть подросла, ей казалось, будто холм сделался еще выше, особенно в сумерках, и маячит над деревней, точно сердитый призрак. Она привыкла не смотреть на него, если случалось ночью выйти во двор. В глубокой ночной тишине на холме – а порой и у самого дома – раздавался свистящий шепот. Тетка сказала: это невидимки, и слышат их только женщины, но как бы грустно и настойчиво они ни шептали, дверь им открывать нельзя. Гораздо позже девочка узнала, что мальчишки поднимаются на холм и благополучно спускаются с него, и ни разу не упомянули ни о змее, ни о великане, ни о лохматой старухе, равно как и о шепоте. Они говорили, что охотятся на холме, а поймав дичь, жарят ее на костре и едят. Они всегда возвращались с пустыми руками, и она не знала, разыгрывают они ее или нет.