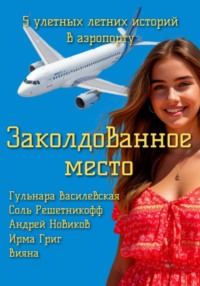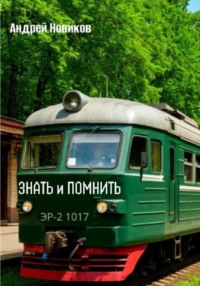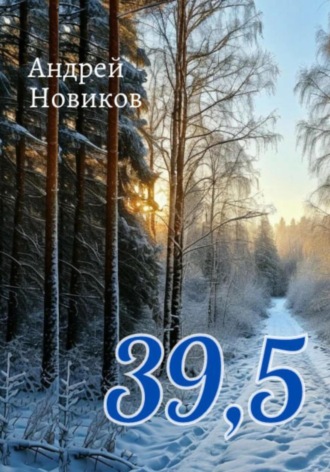
Полная версия
39,5
Бабушка Клавдия – дочь прабабушки Оли, была до замужества Кошкиной, более всего из еды любила рыбу и шутила: « Я ж Кошкина, вот фамилию и оправдываю». Говорящая фамилия, чего уж там, тем более что все Кошкины любили и рыбалку, и рыбу, и молоко… Молоко из ведра-подойника в банки переливать не успевали – парни его прямо из ведра и выпивали, присасываясь к нему один за другим, пока дно не увидят. Их превосходный аппетит и беспрекословное послушание старшим ежедневно ставили в пример Андрею, аппетита у которого не было от рождения. Да и чувства голода он никогда не испытывал, от слова совсем… Любимая еда – печенье и компотик, вот только этим и за стол заманивали.
– Андрюша, что хочешь кушать? Что тебе приготовить? – спрашивала, зная плохой аппетит пацана, бабушка Аня – жена деда Алексея.
Ответ, под дружный хохот сыновей, получала неизменный:
– Печеньку и компотик…
– Может, молочка попьешь? – с надеждой спрашивала она.
– Не… компотик.
Так и прицепились в семье к Андрею эти незлые прозвища – Компотик да Ленинская голова, а к бабушкиному домику – Кошкин дом.
Бабушка Аня укоризненно вздыхала, но неизменно наполняла кружку вкуснейшим компотом-ассорти из яблок, груш, сливы и чего-то еще, что в изобилии росло в садике у Кошкиного дома.
Забор стратегического объекта
1972–1978 годы. Рабочий поселок Лесной. Улица Школьная, 3
Кроме небольшого садика у бабушки Клавдии был большой огород, в сезон преимущественно засаженный картофелем, сахарной и кормовой свеклой, тыквой, помидорами, морковью, луком, чесноком, горохом, фасолью. Пятнадцать соток, дающих все вышеперечисленное и пожирающих взамен все свободное время. Свободное время… Что это?
Домик бабушки на углу Школьной улицы и Школьного переулка был окружен каким-то бесконечным и вечно ломающимся забором… Забор страдал от интернатовских пацанов, транзитом следовавших в чужие сады, от неуклюжих трактористов, сгребавших его целыми пролетами, от подвыпивших и заснувших шоферов, встретивших рассвет в чужом огороде, от одиноких прохожих, наткнувшихся в темном переулке на хулиганов и поэтому выламывавших себе в помощь подходящую штакетину, чтобы уж если не победить, то хотя бы уравнять шансы на победу и открыть дорогу к пункту назначения, от коров, решивших почесать о него рога и бока, от лошадиных повозок, зацепившихся осью… И это далеко не полный список всех его обидчиков и разрушителей.
Забор боролся за существование и мстил обидчикам: сажал им занозы, протыкал шины, рвал штаны, ломал рога, выворачивал оси, сдирал краску и метил их всеми доступными ему способами. Иногда это помогало, по горячим следам обидчики находились, после долгих препирательств привлекались к восстановлению забора и возмещению причиненного вреда, но чаще… Чаще бабушка Клава латала дыры в заборе на скорую руку хворостом, а в ближайшие выходные зять Валентин чинил изгородь как следует, устанавливая дополнительные столбы и обрезки рельсов по углам, забивая многочисленные гвозди, укреплял штакетник проволокой и металлической лентой и прочее, прочее, прочее, что хоть как-то могло способствовать в борьбе за живучесть стратегического объекта… Здесь и Андрей забил свой первый гвоздь и по пальцу молотком ударил тоже у этого забора.
Валя в кубе
1972–1978 годы. Рабочий поселок Лесной
Няня Валя – троюродная сестра Андрея, но тогда он об этом не знал и в силу возраста относился к ней не иначе как к няне. Валя жила в интернате рядом с небольшим домиком бабушки мальчугана и все свободное от школы время проводила с ним. Вообще, с Валями мальчишке повезло: папа Валя, мама Валя, няня Валя… Такое «разнообразие» трудновато поддавалось пониманию не только его самого, но и тех, кто любит спрашивать малышей:
– А как зовут твою маму?
– Валя…
– А папу?
– Валя…
– Не, малой, отца как зовут?
– У меня мама Валя, папа Валя и няня Валя, – терпеливо объяснял пацан особо непонятливым, дабы свести этот, в общем-то, бессмысленный, по его мнению, диалог к задумчивому перевариванию собеседником услышанного.
Няня Валя закончила десять классов и уехала в большой город. Устроилась работать на завод и скоро стала бригадиром, поступила учиться в юридический с твердым намерением стать судьей, но это совсем другая история. Пацана она любила по-прежнему и в каждый свой приезд дарила ему превосходные модели автомобилей, выполненные в масштабе 1:43. Восторгу мальчишки не было предела, да и сама няня была довольна, что ее подарки производят такой эффект. Все самые классные игрушки были от няни Вали. Со временем Андрей поймет, что вместе с приятными воспоминаниями о детстве от няни ему пришло и умение дарить подарки, но это будет нескоро.
Кумир: дядя Степа – милиционер
1975–1979 годы. Школьный двор
Большая часть короткоштанного детства Андрея прошла на школьном дворе, занимавшем обширную территорию, вмещавшую в себя старую двухэтажную школу (к слову, у новой школы был свой двор) с примыкающей теплицей, отдельными строениями спортивного зала, конюшни, столовой, угольного склада и интерната – школьного общежития для ребятишек из отдаленных населенных пунктов, расположенных в глухом лесу.
Дети разъезжались по домам лишь на выходные, праздники и каникулы. Тогда школьный двор пустел, но ненадолго, так как совсем скоро переходил в полное и безраздельное распоряжение друзей мальчугана, среди которых он был самым младшим и, что закономерно, самым маленьким. С детства тянулся за старшими, участвуя во всех играх, забавах и развлечениях.
Кумиром трехлетнего мальчишки был герой поэмы Сергея Владимировича Михалкова дядя Степа. Сначала Андрей узнал о нем из книжки «Дядя Степа – милиционер», немного позже увидел мультфильм и был восхищен личными качествами отважного милиционера. Дядя Степа одну старушку перевел через дорогу, вторую спас с отколовшейся льдины, предотвратил проделки хулигана, обижавшего на улице школьниц, урезонил другого в магазине игрушек, вернул потерявшегося малыша маме и решил проблему сломавшегося светофора. На вопрос кем будешь, когда вырастешь, к ужасу родных и близких, отвечал однозначно и не задумываясь: «Милиционером, как дядя Степа!»
Никакие аргументы родителей и бабушек не могли превратить любимого героя в антигероя и отвернуть пацана от неправильного выбора в дальнейшем. Родственники предприняли превентивные меры, и книжка, вносящая смуту в детский ум, быстро затерялась при переносе от одной бабушки к другой и никогда больше не появилась в домашней библиотеке. Это была потеря потерь! Дядю Степу пытались заменить герои русских народных сказок, Буратино – герой знаменитой повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино», написанной Алексеем Николаевичем Толстым, добрый доктор Айболит – герой произведения Корнея Ивановича Чуковского «Айболит» (стихотворная сказка о путешествии доктора в Африку) и многие другие.
С Айболитом было вообще все противоречиво и неоднозначно. По соседству с домом бабушки Клавдии находилась ветеринарная лечебница. С раннего утра перед ней выстраивались очереди. Со всех окрестных деревень и поселков сюда приводили в поводу или на веревке лошадей, коров и быков, привозили в больших плетеных корзинах на подводах и приносили в мешках через плечо поросят, собак всех пород и мастей, кошек и котов.
Суровые мужики, работавшие ветеринарными врачами и фельдшерами, совсем не походили на доброго доктора Айболита… Они непрерывно курили папиросы и самокрутки, с животными не церемонились, делая свою работу без суеты и лишних движений. Да и немудрено, у большинства из них за плечами была война – самая кровопролитная и жестокая из всех известных войн.
Дни шли за днями, коровы заполошно трубно мычали, почти как гудок паровоза, лошади ржали, истошно визжали поросята, и этот визг брал за душу более других… Высокий забор, отделявший двор ветеринарки от бабушкиного огорода, был слабой преградой для любопытного пацана. Через щели в заборе рассмотреть происходящее не составляло никакого труда. Порой через эти щели вырывались на свободу орущие благим матом и не желающие лечиться коты или не слишком большие скулящие собаки, если им верить, Айболита в этой лечебнице отродясь не существовало. «И что получается? Вот тут в книжке – «приходи к нему лечиться и ворона, и лисица», а в лечебнице его нет… А если его нет вот тут, прямо за забором, проверено лично неоднократно, то где ему быть-то? Вот то-то и оно… Не надо маленьких дурить!»
Таковы были суровые реалии, ставшие первым, по-настоящему взрослым разочарованием и крушением идеала. В то же время любой милиционер вызывал у Андрея искренний интерес, безмерное уважение и желание выяснить, не знаком ли он с дядей Степой. Милицейская форма, портупея, пистолет и прочие атрибуты были для мальчишки привлекательнее всех детских сказок и журналов. Видя такую приверженность Андрея к непопулярной в народе профессии милиционера, все книги и журналы подвергались жестокой цензуре. О просмотре телевизора и речи не было, как и особого смысла, поскольку в лесном поселке телевизор практически не ловил сигнал. Ближайший ретранслятор сигнала не решал проблему, деревья надежно защищали людей от пагубного пристрастия к просмотру телепередач. Не помогали даже многометровые мачты антенн, возводимые умельцами и мастерами на все руки. Как правило, новенькие антенны были признаком скорого урагана либо нешуточной грозы, со всеми вытекающими последствиями в виде сломанной мачты, поврежденной крыши, удара молнии и сгоревшего телевизора. Иногда весь этот набор доставался кому-либо, как говорится, «в одном флаконе». Поэтому в большинстве домов телевизоры хоть и были, но чаще всего по прямому назначению не использовались и, как важнейший предмет интерьера, бережно накрывались кружевной салфеткой.
Электроснабжение большинства домов поселка осуществлялось от промышленной линии, основным потребителем которой был работающий в две, а то и в три смены лесозавод. Лампочки давали нормальный свет, лишь когда выключались станки, но это уже мало кого интересовало, поскольку передача «Спокойной ночи, малыши» к тому времени давно закончилась.
Молоток!
1975–1979 годы. Коржакова гора
После того как друзья пошли в школу, играть стало не с кем, и Андрей пристрастился ходить в спортивный зал во дворе интерната. В школу на уроки не пускали, а вот в спортзал – пожалуйста, но это смотря кто урок вел. Большую часть спортивных занятий у школьников зимой и летом проводили на открытом воздухе, но в плохую погоду – в спортзале. Учитель физкультуры фронтовик Антон Евгеньевич, привечал пацана, каждый раз дарил новый свисток и разрешал свистеть. Это было волшебно – все подчинялись его сигналам! Взрослые, целым классом, воспринимали его иногда с ироничными улыбками, но все чаще как само собой разумеющееся. А это и популярность, и первый успех, если хотите.
Зимой преобладал лыжный бег. Андрей мечтал о лыжах, чтобы кататься, как все, но ничего подходящего по размеру не было, до лыж с жестким креплением на ботинки когда еще нога дорастет? Вот то-то и оно… Решил попробовать отцовские. Ушел тот как-то на работу в соседний поселок пешком, а лыжи оставил у крыльца – погода хорошая, дорога накатанная. Лыжи взрослые, но на полужестком креплении, можно, и даже предпочтительно, на таких кататься в валенках. Вот Андрей, пользуясь бесконтрольностью, и начал их осваивать.
Непросто, когда лыжи в три раза длиннее, чем твой рост, но охота пуще неволи. Проблема заключалась даже не в длине лыж, а в отсутствии подходящих палок. В первый день тренировка прошла незамеченной, да и во второй день могло бы обойтись, если бы не появившиеся дырки в новых валенках – протер креплениями. Вечером испорченную обувь заметила бабушка. Про лыжи не поверила, и влетело Андрею будь здоров, но это мало что меняло – влетело бы в любом случае. Однако утром выдала старые, еще прошлогодние и уже маловатые валенки, а новые и худые отнесла сапожнику дяде Ване – поставить заплатки и подшить подошвы заодно, если уж лыжник объявился.
Бабушка Клавдия проэкзаменовала Андрея на умение ходить на лыжах, дала пару весьма дельных советов и оценила старания внука на «твердое хорошо». А, учитывая размер лыж и отсутствие палок – «очень хорошо». Вечером рассказала родителям. Отец пообещал принести в выходные дяди Сашины лыжи, которые тот забросил за ненадобностью – ему маловаты, а Андрею хоть и велики, но не настолько, как те, на которых он учился.
Кататься на новых лыжах – красота. По-прежнему не хватало палок, но Андрею это не мешало. В воскресенье катался с Юркой Бойцовым. Тот здорово бегал на лыжах, они у него на ботинках, изящные и блестящие лаком, но, при всех своих достоинствах, узкие, и Юра часто проваливался в снег и черпал его ботинками, приходилось снимал обувь, вытрясать снег, значит, терять время. Тут-то его и нагонял Андрей, под весом которого широкие и длинные лыжи на полужестком креплении в снег вообще не проваливались, а ноги оставались в тепле. Палки бы не помешали, но не бывает таких маленьких, надо дядю Сашу просить, чтобы на мебельной фабрике сделал что-нибудь подходящее. А пока и так хорошо!
В следующий выходной Юрке пришлось всерьез напрягаться, чтобы оторваться от Андрея, все также бегавшего на лыжах без палок. Пока товарищ в школе – Андрей не терял времени и объехал все доступные горки. Отсутствие палок компенсировал бечевкой. Это не то, что нужно, но очень помогало, когда ноги уставали нести на себе лыжи. Тогда Андрей отстегивал ставшие тяжелыми лыжи и тащил их за собой, как санки. Удобно, что и говорить. А были бы палки, так и их нести бы пришлось – морока одна.
Когда наступили зимние каникулы, собрались отчаянные пацаны и решили ехать кататься на лыжах с самой крутой и страшной горы – Коржаковой. С нее в основном только на санках и катались, а на лыжах мало кто решался. Увязался и Андрей. Заводила Серега Колыванов хотел отшить мелкого и начал высмеивать, но вступился Юрка и поручился за него, мол, проблем не будет, и вам, ребятки, еще самим поторапливаться придется. Ну, так и вышло. Подводить друга теперь уже было никак нельзя, тот за него слово дал! Колонна вытянулась длинная – человек десять, Андрей шел замыкающим.
Лидеры вначале хорошо наддали по лыжне, но Андрей отлично знал маршрут и ловко нагонял их, срезая везде, где можно. Страшновато было, когда ехали по пруду. Полыньи – не редкость, и нужен глаз да глаз, поэтому ехал по лыжне и лишний раз не рисковал. Но и лидеры быстро подрастеряли задор: одно дело катиться в удовольствие, а другое – пытаться кому-то что-то доказать. Да и мелкий, несмотря на огромные лыжи и отсутствие палок, справлялся на удивление хорошо.
С самого верха Коржаковой не решился съехать никто, кроме Сереги, да и тот, начав спуск, не доезжая середины горы, круто отвернул в сторону и загасил скорость. Решили кататься с середины, и это было правильно. Скорости хватало за глаза. Ближе к вечеру уставшие и замерзшие притащились на школьный двор. Дальше предстояло расходиться по домам. Старшаки похвалили Андрея: «Молоток! Хорошо держался, не отставал, не ныл и вообще… Короче, принимаем в команду безоговорочно». Гордость распирала юного лыжника, а дома ждал нагоняй…
«Ковровец»
Лето 1976 года
Лето 1976 года выдалось особенно жарким. Четырехлетний Андрей Майоров с нетерпением ждал выходных – именно тогда дед Виктор обещал впервые прокатить внука на мотоцикле. Мотоцикл «Ковровец» модели К-175 производства завода имени Дегтярева стоял в гараже, блестя черным лаком. Дед внимательно следил за ним, и его хромированные детали сверкали на солнце, словно покрытые серебром. Мальчик не в первый раз с удовольствием рассматривал железного коня и каждый раз убеждался – он превосходен!
В выходной день дед вывел мотоцикл во двор. Андрей замер от восторга. Черный красавец пах бензином и маслом, а из выхлопной трубы тянуло горьковатым дымом. Когда дед завел мотор, тот заурчал, как большой довольный кот, и обдал жаром.
– Ну что, готов? – спросил дед, надевая шлем.
Андрей кивнул, крепко сжимая маленькие кулачки. Дед помог ему усесться перед собой, показал, как держаться за крышку бензобака.
– Только не отпускай, – напутствовал он, – и можешь нажимать на сигнал, если захочешь.
И вот они тронулись. Улица Радищева встретила их любопытными взглядами соседских ребятишек. Андрей вцепился в крышку, чувствуя, как вибрирует корпус мотоцикла и сиденье под ними. Он несколько раз нажал на сигнал, наслаждаясь громким «кряканьем».
Ветер трепал его волосы, запах бензина кружил голову… Дед ехал медленно, аккуратно объезжая выбоины. Хромированный ободок фары блестел на солнце, а из выхлопных труб вылетал сизый дым и стрекот.
Когда они вернулись домой, Андрей был вне себя от счастья. В этот день он не мог думать ни о чем другом, кроме как о мотоцикле. Мечта научиться водить засела в его голове накрепко.
С тех пор каждый раз, когда он видел мотоцикл, его сердце начинало биться чаще. Мальчик представлял, как вырастет и сам будет рассекать по улицам на таком же красавце, а пока оставалось только мечтать и ждать тот день, когда он станет настоящим мотоциклистом.
Вечером, лежа в кровати, Андрей все еще чувствовал запах бензина и масла, слышал рокот мотора и представлял, как управляет этим чудом техники. Мечтал, мечтал, да так и не заметил, как уснул, и снились ему… Правильно – мотоциклы!
Переезд в новый дом рядом со школой
1978–1979 год. Рабочий поселок Лесной
С переездом в новый дом жизнь Андрея круто изменилась. У него появилось неожиданно много свободного времени. Во-первых, этот дом находился достаточно далеко от домов бабушек, во-вторых, все его друзья уже учились в школе да и жили неблизко, в-третьих, было решено предоставить ребенку больше самостоятельности, так как скоро ему идти в школу.
Времени полным-полно, а вот распорядиться им правильно весьма сложно. Читать он еще не научился, а телевизор не работал. Выручали журналы, но их было очень мало, а новые выпуски приходили один или два раза в месяц. В шашки и домино играть самому с собой скучно, но как-то скрашивало время. Все закутки дома, двора и надворных построек он изучил от и до. Заняться было решительно нечем.
Радио… Сколько интереснейших передач, радиопостановок, спектаклей, разнообразной музыки, песен… Вот что компенсировало пацану недостаток общения!
К вечеру у Андрея набиралось полным-полно вопросов, требующих немедленного разъяснения. Но получить ответы на них совсем непросто. Мама работала по сменам, и половину вечеров ее не было, а когда была, то ложилась пораньше спать, ибо на следующий день вставала ни свет ни заря – в первую смену.
Более-менее получалось поговорить, когда отец проверял ученические тетрадки. Андрей часто заглядывал туда и ровным счетом ничего не понимал. Да, читать он пока не умел, но в книгах различал почти все знакомые буквы, там хотя бы шрифты разборчивые. А в тетрадях чего? Как курица лапой пишут эти ученики. Но отец как-то разбирает и отметки ставит разные. Он и маме помогает решать ее контрольные из техникума. Мама вообще в толстых тетрадях пишет, называются «общие». Ну, какие же они общие? Попробуй-ка возьми, можно и нагоняй получить, если обратно забудешь положить.
Как-то раз целый день переписывал с тетрадей, вроде похоже получилось. Старался изо всех сил. Ну, и от себя тоже добавил. Вечером показал родителям свои сочинения – говорят ничего не разобрать. Вот пойдешь в школу – там тебя научат, а пока лучше рисуй. Рисовать не хотелось, а вот писать и передавать таким образом другим людям то, о чем думаешь, ужасно хотелось. Ради такого можно и потерпеть. Но стоит узнать, может, и дома реально научиться? Ну, не всегда же школы были, и не все в них ходили. Выросли же как-то и без этого. Прабабушка Оля, например, или бабушка Надя…
Вечером атаковал отца своими вопросами. Тот терпеливо объяснил: «Школу обязательна для всех. Учить тебя дома читать, писать и считать никто не будет. Сиди и жди, на будущий год – школа твоя».
Школьнику – «Школьник»
Лето 1979 года. Поездка в город
Шестилетний Андрей Майоров долго мечтал о подростковом велосипеде. Тот, что у него был, уже не выдерживал возложенных на него надежд, а главное – он стал мал, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Андрей не мог на нем угнаться за старшими товарищами. Однажды погожим августовским днем, родители сообщили ему, что едут в областной центр за покупками к школе и берут его с собой. Так далеко он еще не ездил. Сначала на «вагончике» – тепловоз с двумя общими вагонами – за час доехали до районного центра. Там подождали два часа и глубокой ночью на пассажирском поезде двинулись в Вернадовку, где была запланирована пересадка, которую Андрей, утомленный приключениями, благополучно проспал. Разбудили его уже в пригороде. За окном замелькали высоченные кирпичные дома, по улицам разъезжали разноцветные легковые автомобили, невиданные ранее троллейбусы, по тротуарам сновал разнородный городской люд… Глаза разбегались. Было и любопытно, и захватывающе, и страшновато одновременно. Вот что делать, окажись он тут один? Звать дядю Степу?
Родственники жили рядом с вокзалом. Дорогу показывала мама, дошли минут за десять. Поблизости находился магазин спортивных товаров с огромными витринами, а там… Мальчик увидел свой идеал – велосипед «Орленок». Он казался таким взрослым, таким крутым! Андрей залюбовался им и уже мысленно гонял по знакомым улицам и тропинкам. Пришел в себя, услышав голос отца: «Андрей! Андрей! Не отставай». Мальчик оглядывался на предмет своего обожания до тех пор, пока не захлопнулась дверь подъезда. Лестница оказалась бесконечно длинной. Им пришлось подняться на пятый этаж! В небольшие окошки виднелись верхушки деревьев. Подниматься так высоко ему еще не приходилось. В небе промелькнул блестящий силуэт самолета, за которым тянулся широкий белый след… «Вот это да! Как там сейчас? Чем летчики заняты? Кто за штурвалом? Если самолет такой маленький, то нас оттуда вообще не видно, наверное…» – засмотрелся, задумался и споткнулся, едва не упав.
Родственники встретили радушно. Накрыли на стол, накормили вкусным завтраком, отдали должное и привезенным из деревни гостинцам – хрустящим соленым груздям, душистому земляничному варенью, самодельному сливочному маслу. Потом взрослые обменялись новостями, а Андрей ближе познакомился со своими троюродными братом и сестрой.
Пошли на прогулку. Женщины повели по магазинам. Споро и скоро купили и портфель, и пенал, и школьный костюм, и ботинки с ненавистными шнурками… «Может удастся в спортивный магазин зайти?» Для Андрея оказалось совсем неожиданным то, что после они дружной компанией направились прямиком в «Спорттовары»! Вот он «Орленок», вот воплощение мечты… Тем горше разочарование – желанный велосипед оказался великоват. Аж слеза навернулась. Продавец посоветовал «Школьника». Андрей сначала расстроился, не о такой модели он мечтал, но когда сел на велосипед, понял – это маленькая копия взрослого велосипеда, только без багажника. То, что нужно: удобный, устойчивый… Андрей сразу почувствовал себя уверенно. Дома отец настроил сиденье и руль под рост сына. Мальчик часами тренировался кататься во дворе. Вскоре отец сделал сыну сюрприз – купил и установил фару для вечерних поездок. Это было настоящее счастье! Соседи улыбались, видя мальчика, который мчался по улице. Его мечта сбылась, и пусть это был не «Орленок», но «Школьник» стал для Андрея самым лучшим велосипедом в мире.
Глава 2. Начальная школа
Потрепанный букет
1 сентября 1979 года
И грянуло первое сентября! Именно грянуло, а никак иначе, прямо с полуночи – гроза, проливной дождь, ураганный ветер… Деревья трещат, вдоль по улице летит все, что не приколочено, не прикручено и не привязано. Калитка, и та чуть не улетела. Погас свет – его то ли выключили от греха подальше, то ли на самом деле где-то оборвало провода. Стихия бушевала, как могла. Даже появились мысли, что отменят линейку и не придется сегодня с портфелем и букетом идти первый раз в первый класс. Может, не сегодня, а завтра? Или послезавтра? Или вообще как-нибудь потом… Ему же всего шесть, а по правилам надо семь полных. Даже погода против, в окно посмотрите!
Но где-то там, в небесной канцелярии, видать, вспомнили про первое сентября и дали отбой. Стих ветер, мало-помалу сошел на нет дождь, и в небе появились дыры. Погода потихоньку наладилась, и пришло утро – сырое, пасмурное и прохладное. Воздух был густым, наполненным озоном, нешуточным волнением первоклассников, ароматом цветов, какой-то немудреной косметики от родителей, бабушек и дедушек… Пахло адреналином, большим скоплением людей, собравшихся в школе и самой школой – тетрадями, учебниками, новыми и видавшими виды портфелями и ранцами, свежевыкрашенными партами, полами и стенами, дверями и окнами, мелом, известью от деревянного многострадального забора…