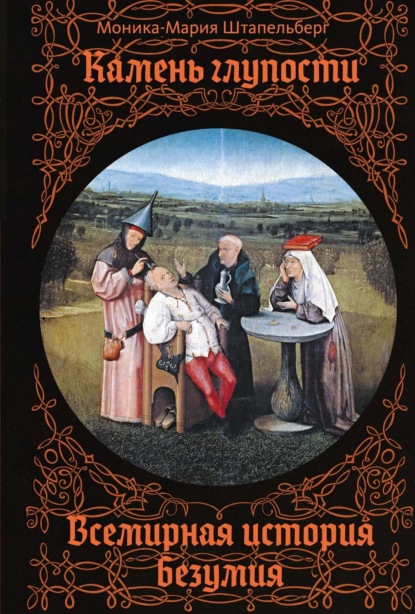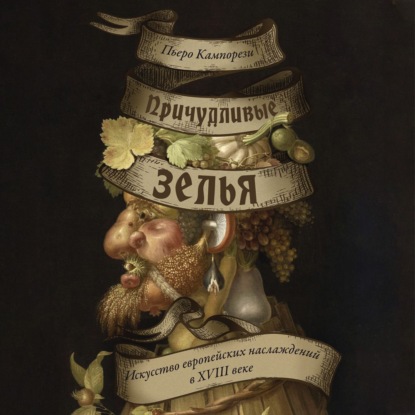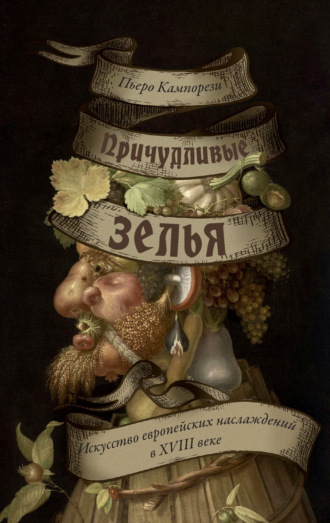
Полная версия
Причудливые зелья. Искусство европейских наслаждений в XVIII веке
«Порочный современный обычай» не только проник в «знатные семьи» и «благородные дворянские ряды», но и распространился среди «простолюдинов», «ремесленников» и всего «праздного люда»[81], который заполнял городские таверны, особенно в праздничные дни, и там «осквернял ночи то в балаганах с фиглярами, то в нескончаемых попойках, то в других невообразимых распутствах»[82]. Злоупотребление временем стало самым очевидным признаком «морального и социального хаоса»[83], а перевернутый порядок дня – самым явным признаком перевернутых ценностей:
О могущественная недостойная мода,Что разрушает порядок природный,Где бы она ни царила,Омрачает разум и веру![84]Затмение разума, ослепленного дьявольским пламенем, развратное безумие, скрытое за маской контрабанды аморальных и распутных идей. Двигателем, вдохновителем и самым активным участником беспорядка стала женщина:
Такой образ жизниРазрушит здоровье,И все же он мил всем.Он царствует ночью,И многие дамыВек век не смыкают.Их лики желты,Как Луна в полнолунье,Но день им раскраситИ щеки, и губы.И скроют белилаСледы бурной ночи[85].В религиозной среде и среди интеллектуалов-католиков существовала сильная уверенность в том, что общество подошло к критическому моменту, что «век роскоши»[86] стремительно движется к разрыву с традициями, принципами и обычаями прошлого, что пришло время радикальных перемен, беспрецедентного переворота. Наступал перевернутый мир. «Странная метаморфоза» меняла сам облик человека.
«Я полагаю, что наш век <…> есть не что иное, как перевертыш, полная противоположность векам минувшим. Вместо суровой строгости теперь царит изысканная утонченность, вместо кровожадности – мягкая изнеженность, а вместо слепого, невежественного фанатизма – философский скептицизм <…> Этот переворот, эта смена декораций произошли всего за несколько десятилетий, – вспоминал кармелит Пьер Луиджи Гросси (1741–1812), – а мы были по бо́льшей части его изумленными зрителями. По нашим улицам до сих пор ковыляют редкие представители ушедшей эпохи, словно застрявшие в прошлом. Они, в своих старомодных одеждах и со своими допотопными манерами, хмуро и раздраженно обрушиваются с критикой на модное изящное платье и пленительное очарование наших благородных нравов. Больше я не стану тратить времени и слов, чтобы доказать вам необыкновенную метаморфозу, которая произошла в наши дни в цивилизованном обществе»[87].
«Необыкновенная метаморфоза» этого «злополучного века»[88] была налицо: «современные извращения» «сегодняшнего утонченного вкуса»[89], чрезмерное внимание к одежде и манерам, «безудержное и претенциозное щегольство», соблазнительные и кричащие дамские платья, мужчины, соперничающие с женщинами в пышности наряда и блеске украшений, «обтягивающие костюмы» и «непристойная нагота»[90] – все это окончательно похоронило последние остатки «христианской умеренности».
«Мягкая феминизация»[91], «бесконечная череда драгоценных женских украшений», «более развратная бесстыдность», «повторяющиеся ночные визиты», «распущенность и вседозволенность непристойных бесед», «современная вычурная жеманность», «привлекательность учтивости и обходительности», очаровательная женская «живость души», «утонченные любезности, которыми целыми днями обмениваются лица разных полов», «сладостные чары», «галантные знаки внимания» светских «цивилизованных гостиных», «излишняя леность», «вздохи и терзания», распаляющие «опасную светскую дружбу», «неутолимое вожделение сладострастного сердца»[92], «господствующая раскованность, которую правильнее бы назвать развязностью или вседозволенностью»[93], вызывали ностальгию по ревности, пусть даже «презренной страсти»[94].
Немало людей, чтивших традиции, были поражены тем, как «внезапно переменилась сцена»[95]. «Подмены» и «смешивание полов»[96], казалось, перевернули даже классические представления о мужественности и женственности. Утратив последнюю скромность, дамы удлиняли свои фигуры, делая их более воздушными. По мнению ожившего Петрарки[97], «они чересчур высоко поднимали и взбивали локоны, напудрив их. А затем украшали волосы цветами, листьями, травами, перьями, вуалями, лентами и бесконечными повязками. Румяна на щеках, подведенные глаза, резкий, высокий голос – казалось, что дамы становились кавалерами, а те начинали походить на изнеженных девиц. Но ничто не поражало меня больше, чем вседозволенность жен, у которых теперь был «заместитель» мужа, неотлучно находившийся рядом, поскольку их законные мужья считали ошибочным сопровождать свою супругу»[98].
Появилось новое поколение женщин, напоминавших цветы, – воздушных, легких, гибких, как тростник, подвижных, как ночные бабочки, но с твердым, уверенным голосом. Эта легкость и свобода стали символами своей эпохи.
Казалось, что «мужская мода также переняла вкусы женщин. Самыми элегантными теперь считались костюмы, так сильно обтягивающие тело, словно оно оставалось обнаженным. Густо напудренные волосы, остроугольные шляпы, шеи, стянутые пышными воротниками, ноги открыты взору, подтянуты и проворны, готовые в любой момент пуститься в пляс. Изящная, тщательно начищенная обувь, блестящие золотые пряжки с россыпью драгоценных камней»[99].
Однако все это очень быстро стало нормой среди представителей высшего общества. Накануне Великой французской революции в Болонье благодаря авторитетному одобрению престижного Института наук вышла в свет «Туалетная» (La Toletta) – небольшой, но очаровательный сборник о свадебных церемониях. В его написании по традиции участвовали несколько человек, среди которых были очень известные и влиятельные люди. Это был настоящий коллективный гимн эстетике, тщательно продуманному, утонченному женскому облику и изящному образу жизни – от утренних часов в воздушном «пеньюаре» до посещения литературных вечеров, балов, всевозможных светских раутов. Простота «утреннего туалета» подчеркивала скрытую красоту, обнажала прелести и изгибы грациозного тела.
О, как передать мнеИзящество линий,Как ткань, ниспадая,Рисует твой стан.Не скрыть от чужих глазРумянца и нежной,Упругой груди,Что трепещет от вздохов.И как обнажить,Словно силой Зефира,Белизну твоих бедерИ изящество ног.Тех ступней, что яПоцелуем покрою,Что кружат, как птицы,В танце весны[100].Все инструменты и эталоны изящной красоты XVIII века нашли свое отражение в этом многоголосном «свершении туалета»: «достоинства наряда», «будуар», «пеньюар», конечно же, «гребень», «зеркало», «тупеи[101] и локоны», «шпильки», «помада для волос», «пудра», «чепцы и вуали», «перья», «ленты», «мушки», «духи», «шоколад», «книги», «визиты», «свечи», «хороший вкус».
Лицо «цивилизованного мира изменилось»: «варварство прошлых веков подавила»[102] «приятная цепочка взаимных услуг <…> и чарующая культура в одежде и манерах»[103]. Однако переменчивая мода и «дух коммерции» изменили маршруты и направления торговли. Англомания и франкомания открыли путь бесполезному, убыточному импорту, разорили и почти поставили на колени старинные, знаменитые мануфактуры итальянских княжеств. Экономика Венеции уже задыхалась:
Господи, наши ремесла укралиРуки чужие, что жаждут лишь денег.Алые, прочные нити нежнее, чем роза,Ткут за границей, за Альпами,Наш стан заброшен.Горны чужие в слезу выплавляют песок,Чудо Мурано забыто – ни славы, ни хлеба.Граций, богини достойный уборНе сияет на пальцах, на шее, в ушахМолодой венецианки[104].Дамская «туалетная», где в зеркалах отражались личики изящных красавиц, стала магическим фетишем общества, которое не теряло галантности даже в мещанской городской толпе. Это касалось и мужчин. С другого берега Ла-Манша привозили последний писк моды – «чудесные английские веера», на которых вместо привычных китайских пейзажей изображались истории о рыцарях («Здесь не увидишь уже никакого Пекина / вычурной варварской кисти драконов и пагод»)[105]. Веера, попавшие в руки дам, одним движением демонстрировали их настроение и чувства:
«Могу с гордостью утверждать, что мне достаточно лишь взглянуть на веер в руках благородной дамы, – писал Лоренцо Магалотти[106] в письме флорентийскому архиепископу Томмазо Бонавентури 10 апреля 1710 года, – и я сразу же, даже не видя ее лица, понимаю, смеется ли она в этот момент, краснеет или сердится. Мне приходилось видеть настолько разгневанные веера, что я боялся стать жертвой этого урагана. В других случаях наблюдал я и трепетный бриз, столь нежный, что, казалось, если вызвавший его кавалер приблизится к даме, то она от волнения лишится чувств. Я думаю, что после всего сказанного можно смело утверждать, что веер служит символом рассудительности или кокетства, отражая характер и темперамент хозяйки»[107].
Из-за Альп, из Франции, хлынули потоки кружев, лент, пуговиц, шнуров, прочих галантерейных мелочей и модных образцов шляпного искусства.
Позавчера с грязным посыльнымПриехала та, кого мы давно ожидали.Она парижанка, красива, как кукла,Свежа и мила.Та, что заставит покинуть свой дом«Знатную даму, что служит любви».Видели б вы, как толпятся пред нейЧепчики, шляпки, вуали,Вперив глаза в шов плеча, лифа кройВ юбки по самый подол. В этомСезоне она белизну нежных рукСпрятала в длинный рукав,Что чернее ночей.Новая мода к ее благосклоннаКрасе[108].Из Голландии к столам знати поступало тончайшее полотно для скатертей, на котором играли рубинами «иностранные вина, / созданные, чтобы утолить благородную жажду»:
<…> На столПолоса леглаБелого льна,Что смело голландцы,Отважные кормчие,Несут по волнамДля великих пиров[109].Любовь к иностранным товарам среди состоятельных людей вступила в союз с «дерзостью философов-экономистов», которые утверждали, что «элегантные женщины, которые страстно следуют моде, гораздо полезнее для общества, чем добрые христианки, живущие в нищете»[110].
«Что плохого может случиться с вашими волосами, которые вы небрежно подвязываете лентой, – отмечал Франческо Альбергати Капачелли, сдержанный поклонник новых веяний, – если украсите их пусть и простым, но элегантным чепцом, будь то банный чепец, хозяйственный или в стиле Вольтера (à la baigneuse, à la laitière, o à la Voltaire)? Каким образом пострадает ваша благопристойность, если вы позволите двум изящным серьгам в стиле графини Дюбарри (alla barry) покачиваться на вашей шее или если вы наденете шейный платок, скроенный и сшитый одной из тех прекрасных девушек, которые работают в мастерской мадам Нанетт [той самой Мадам Нанетт, французской мастерицы по изготовлению чепцов, чья мастерская на улице Растелли гремит на весь Милан]; а если бы вместо этих шнурков, которыми, как я вижу, вы завязываете обувь, у вас была приличная пара надежных пряжек, какие носили семейство Артуа (all’artois)?»[111]
«Высокопоставленные особы», в свою очередь, выставляли напоказ «всеобщее недовольство любыми национальными мануфактурами, какими бы полезными, разнообразными, успешными они ни были; аналогичным образом они выказывали капризное желание, поистине неистовое стремление заполучить из самых дальних стран, находящихся по ту сторону Альп и морей, все, что есть диковинного и великолепного по части всех видов одежды»[112].
Женщины, со своей стороны, словно «презентовали себя на роскошном торжестве» и стонали «под тяжестью огромных корон, высоченных “башенных” причесок, “защитных” корсетов, кринолинов и фижм и, вдобавок к этому, на них висело столько дорогих украшений, что даже пророк мог бы принять каждую за богато украшенный храм: «дочери наши – как искусно изваянные столпы в чертогах»[113][114], очарованные «содержимым своих туалетных комнат, изменчивыми прическами, пьянящими ароматами, румянами и искусством мушек, всевозможными украшениями платьев и покрывал, а также сотнями других милых мелочей, составляющих этот арсенал белил, подвесок, булавок, игл и портативной галантереи для драгоценностей, шляпок, перьев, вуалей, кружев, поясных лент и бесконечных мелких деталей, что входили в моду»[115].
Казалось, искреннее изумление и негодование (во многом из-за недостаточной осведомленности) заставили кармелита Пьера Луиджи Гросси забыть, что «женщина хлопочет над своим нарядом только ради того, чтобы мужчина захотел увидеть ее раздетой»[116]. И если даже «самый нахальный циник был вынужден признать, что целомудрие – цвет благочестия»[117], то «страстная жажда новизны», заразившая благочестивую Италию в последние десятилетия XVIII века, заставила забыть, что скромность служит «важнейшей христианской добродетелью, а ее противоположность – омерзительное преступление»[118]. Головокружение, вызванное новшествами, потрясало уже устоявшиеся обычаи и подлинные добродетели католического народа. Вольнодумство, якобинство, безбожие, дух равенства, презрение к властям. Из Пармы, пожалуй, самого французского города Италии, осененного бурбонскими лилиями, епископ Адеодато Турки (1724–1803) в 1794 году, в День Всех Святых, произнес проповедь. В ней он назвал «порочную любовь к новизне» тайным агентом, который развращает обычаи и разоряет Италию, что танцует на краю «пропасти погибели» и подвергается угрозе дехристианизации:
«В наши дни мы оплакиваем массу преступлений и ужасов, которые кажутся настолько невиданными, что, возможно, ни один век не знал прежде ничего подобного. Но в каком еще столетии, кроме нашего, новизна могла вызвать такое неистовство? Новый образ мышления, новый способ общения, новый способ действия. Именно эти небольшие изменения подтолкнули к столь трагической развязке. Новые системы, которые нравились лишь потому, что были новыми. Новые слова, которые уменьшали ужас порока и уважение к добродетели. Предыдущее поколение не знало, как жить: все старое называлось злоупотреблением. Простакам и распутникам внушалось, будто для счастья необходимо, чтобы на месте старых законов, старых обычаев, старых принципов появились новые. Дух новизны превратился в безумие. Основательное менялось на поверхностное, честное – на подлое, полезное – на пагубное»[119].
Эта извращенная и неистовая страсть ко всему новому была связана с самым непреодолимым непостоянством, которое непомерно увеличивало и без того «чрезмерные траты»[120], заставляя непрерывно менять «моды», потворствуя «непостоянству роскоши», высмеивая «моду предков», «суровых и грубых» (Парини) и презирая «прошлые века». Непостоянство и иррациональность, бесплодные мечты и высокомерная рассудительность. Неразумная, нездоровая страсть к мелким бесполезным вещицам, к ложным, иллюзорным потребностям. Необъяснимое «массовое недовольство всеми отечественными товарами», тяга к «маленьким безделушкам», к «пустячным и непрактичным предметам», пьянящее неуемное и причудливое желание иметь «сто тысяч прелестных мелочей». Неуместное ребячество, нелепые увлечения сопровождали «томительную леность» и «чрезмерную любезность». «Изысканность» удобства жизни стала целью «просвещенных» наций, соревнующихся «в возведении такого рода утонченности и достоинства вкуса в ранг науки». «Дух деликатности» развил среди высших сословий «тонкий и благородный эпикуреизм», на удивление «честный и порядочный» по сравнению с бурными и шумными развлечениями новых необразованных и грубых богачей. Однако слишком легко было перейти границу, отделяющую «утонченность от сладострастия, удобство от развращенности, чувствительность от чувственности».
«Надо признать, что эта греховная плоть, чрезмерно ласкаемая едой, вином, сном, благозвучием, ароматами, властвует над разумом и побеждает его. Ах, до чего несправедливы некоторые мнения, оскорбляющие свободу и вежливость!»[121] – восклицал бывший иезуит, граф-аббат Джамбаттиста Роберти, который старался взвешенно оценивать процессы преобразования своего времени.
Гонка за легкомысленным потреблением, поиск удовольствий среди изобилия материальных благ (безудержный «потребительский бум» нашего времени), в том, что прежде называлось «предметами домашнего обихода», в погоне за которыми каждый приличный человек стремился проявить «изобретательность, которая позже принесет наслаждение», переступила границы знати и крупной буржуазии и распространилась среди простого народа, заражая людей темного происхождения и низкого статуса. Массовый гедонизм сделал свои первые шаги. Даже воздух в городах изменился.
«С уверенностью можно сказать, по крайней мере, если речь идет о городах, что в лавки и мастерские проникает некая томительная леность, которая на место упорного, длительного труда ставит упоение бездельем, что несет ущерб для ремесел и порождает сетования горожан. Народ в один голос требует хлеба и зрелищ, кажется, что он тоже имеет право требовать театры, моционы, банкеты, пьесы, танцы и собрания. Каждый город хочет прославиться тем, что в нем проживают улыбающиеся женщины и веселые мужчины. “Земля сладко живущих”»[122][123].
И в «качестве жизни», и в манере одеваться каждый хотел «преодолеть границы своего происхождения и социального положения».
«Современная общественная жизнь настолько обременена условностями и тираническими нормами приличия, что по одной одежде едва ли можно отличить простого гражданина от аристократа, бедного ремесленника от процветающего купца, распутную девицу от уважаемой матери семейства. Более того, представители обоих полов словно сговорились превзойти друг друга в великолепии не только самих нарядов, но и в драпировках, вышивках, украшениях и тканях. Так что тщеславие, стремление к роскоши и соревновательный дух перешли все возможные пределы[124].
«Наука о том, как жить», которую в прошлом знали и практиковали лишь немногие, утонченность и любезность, которыми пренебрегали «прадеды», теперь стали доступны по большей части любому, кто в ходе всеобщей перетасовки «положений» и классов сумел разбогатеть.
Сельский отдых перестал быть привилегией избранных, так же как и хорошая, обильная еда – исключительным правом знати. Параллельно со старой и классической кухнями, иначе говоря, народной и аристократической, зарождалась новая, третья кухня. Кухня среднего класса (той самой прослойки «стряпчих, купцов и писчих», которую Витторио Альфьери презрительно называл «классом самых дурных людей», «не средним классом, а классом самой черной черни») и ремесленников из мелкой буржуазии приобретала все бо́льшие размеры, отличаясь от утонченных и изысканных трапез интеллектуалов высшего класса и дворян. На холмах Болоньи,
Как приходит пылкое лето,Наполняются виллыТолпой, что желаетДосуг скоротатьНа свежайших вершинахИль в зеленых долинах.Не богаты они, не знатны,Но имеют здесь дом.Вот цирюльник, кузнец,Вот трактирщик, портнойИ старьевщик пузатый.В окруженьи семьи и друзейПрибывают на отдых и – ах!Не считают расходов,Каждый лавочникХочет блистать,За столом – как на троне.Вот обед, на столеГорлица, перепел…Вот инжир, словно мед,Там льют соус мясной,Нарезают колбасы всех видов,Варят, жарят, пекут и несут,Как все съесть?Запеченные ньокки и паста,Умаслив желудки, просятВстречи с вином,С янтарем киприотским,Что пьет и Венера.Подан торт кружевнойВ пене сливок,В цветах возлежатИ томятся отборные фрукты.Вот сыры – голова пекорино,Король-пармезанИ нежнейший страккино.Яства съедены,Гости сыты, тарелкиВ объедках.Мастер гладит живот,А жена вздернет нос:Да, сумел удивитьТы застольем.После черного кофеИ терпких ликеровВсе кончено.Дочь хозяинадержит стаканы,А мать неспешаРазливает турецкую водуС эссенцией розы[125].3
Искусные повара и талантливые цирюльники
«Эпоха праздного и размеренного образа жизни, который ведут в наши дни», – отмечал пристальный наблюдатель за переменой вкусов и преобразованиями культурного общества XVIII века, – началась тогда, когда «в Италии среди острых мечей появилась женственность, а среди пушечных залпов иностранных армий – праздность»[126]. Автор этих размышлений, граф-иезуит Джамбаттиста Роберти (1719–1786), который внимательно анализировал перемены в обществе, прекрасно понимал, что культурная гегемония и кулинарный интернационализм Франции тесно связаны с военной экспансией и династической политикой Бурбонов, а также с непосредственным оживлением в парижских интеллектуальных салонах. Франция экспортировала пушки и идеи: в тех местах, где оказывались солдаты со штыками, появлялись книги и кулинары, философы и шеф-повара. В самих названиях французских кулинарных книг уже подчеркивались собственная значимость и откровенная национальная гордость нового галльского вторжения. Такие наиболее известные в Италии книги, как «Повар для короля и буржуа» (Il cuoco reale e cittadino) Франсуа Массиало (1691, первый перевод на итальянский язык – 1741), «Французский повар» (Il cuoco francese) Франсуа Пьера де Ла Варенн (1651, первый перевод на итальянский – Болонья, 1693), рассказывают не только об «искусстве высокой кухни», но и о художнике на службе у короля, историю кулинара национального масштаба, ловкого матадора, нанизывающего фазанов и куропаток на острый вертел, манипулятора-изобретателя (после революции и воцарения сливочного масла) свежих сочетаний приправ и соусов, инновационных «боеприпасов для рта»: это новоиспеченный повар, который ходит с важным видом. Правильнее даже сказать, французский повар – повар (cuisinier), но по-прежему француз и действительно гордый француз, как «месье де Ла Варенн, почетный повар (escuyer de cuisine) господина маркиза д’Юкселя». Почетный повар, не абы какая кухарка, не раб плиты и хранитель корпоративных заветов анонимных средневековых мастеров, а гордый меченосец, для которого кулинарные схватки с оленями и кабанами – приятное развлечение во время военных походов прославленной кавалерии «завоевателей», высокомерных и яростных полководцев самой мощной и воинственной армии Европы. Не случайно в книге «Французский повар» (Le cuisinier français) приводится длинный перечень горячих закусок, которые можно приготовить в армии или в лагере. «Начало войны – начало застолья» (Entrée en guerre – entrée de table), завязка боя, кулинарной схватки, а entrée – это фактически первое блюдо после холодных закусок или супа (сегодня почти исчезнувшего с французского стола).
«Уголь убивает нас! – воскликнул однажды доблестный Карем[127]. – Но это не имеет значения! Внимание! Короче жизнь, длиннее слава»[128]. За родину и кулинарное признание «потомки» и кухонные «отряды», возглавляемые непобедимыми поварами, сражались с невероятным воодушевлением и рвением: «работать с кондитерскими изделиями очень трудно и очень опасно, – говорил другой именитый «мэтр», Лагипьер[129], – а это значит, что профессия почетна! Это постоянная борьба»[130].
Пиршество было равносильно сражению с неизвестным исходом: повару, как опытному стратегу, необходимо было иметь хорошие резервы, чтобы свести риски к минимуму. Поэтому следовало всегда помнить о «неизменном принципе, действовавшем как на гастрономическом празднике, так и в армии: никогда точно не знаешь, с чем придется иметь дело. Резервы должны быть действительно огромными!»[131]
Поскольку «мэтр» Ватель[132] исчерпал все запасы (из-за не доставленной вовремя свежей рыбы или, по другой версии, из-за плохого жаркого), ему не оставалось ничего, кроме как покончить с жизнью, чтобы смыть кровью позор от кулинарного поражения. Так «гастрономический праздник» для некоторых непревзойденных галльских поваров мог закончиться кровавым харакири. Пример Вателя, «человека ответственного и благопристойного»[133], к счастью, стал благополучным исключением. А его напрасно растраченный талант (который, к тому же, осмелился поставить под сомнение привередливый маркиз де Кюсси[134]) переродился еще более великим. Гастрономическая традиция не прерывалась и достигла небывалых высот. После финальных, весьма мрачных лет нескончаемого правления Людовика XIV, времени великолепного «украшения стола», изысканной и роскошной кухни, лишенной, однако, «чувственного эпикуризма»[135], после заката «короля-солнце» французское кулинарное первенство стало бесспорным. «Это единственная страна в мире, – с исключительной скромностью подтвердит более века спустя Мари-Антуан Карем, выдающийся шеф-повар эпохи Наполеона и Реставрации Бурбонов, – где готовят вкусную еду»[136]. Тем не менее справедливая гордость от титула родоначальника своего дела не помешала ему поделиться некоторыми мудрыми размышлениями об этой нелегкой и трудоемкой профессии, подчеркнув тесную связь между искусством обмана рта (подменяя здоровый аппетит желудка коварным чревоугодием глотки) и хитростью дипломатии.
«Не только дипломат способен оценить хороший ужин, – писал Карем в своем труде «Афоризмы, мысли и максимы» (Aphorismes, pensées et maximes), – но и кулинарное искусство сопровождает европейскую дипломатию»[137]. Недаром этот «архитектор-кондитер» служил в доме «короля обмана», герцога Шарля Мориса де Талейрана[138], непревзойденного мастера науки по выживанию любой ценой и в любых обстоятельствах.
Возможно, это лишь совпадение, но достоверно известно, что грандиозный сезон французской высокой кухни начался во время работы над Утрехтским мирным договором[139] и доводился до совершенства на столах полномочных представителей. Это был также золотой век кондитерского искусства. Карем, которого леди Морган[140] также считала «человеком хорошо воспитанным», искусным изобретателем и экспериментатором в европейских кулинарных школах, был уверен, что отсчет следует вести именно от этого события. Великий реформатор науки о пропорциях и вкусе учился принципам проектирования у таких итальянских классиков, как Джакомо да Виньола, Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци – и смиренным паломником наведывался в Вену, Варшаву, Петербург, Лондон, Рим, Неаполь и даже Швейцарию, чтобы выведать секреты ремесла. Возможно, он преувеличивал, когда писал, что «существуют пять изящных искусств: живопись, поэзия, музыка, скульптура и архитектура, но их кульминацией, наивысшей точкой является кондитерское дело». И все же ему было хорошо известно, что французское кондитерское дело совершенствовалось на кухнях полномочных представителей, которые вели переговоры об окончании Войны за испанское наследство.